Сплясать для Самуэлы
Размер шрифта: 13
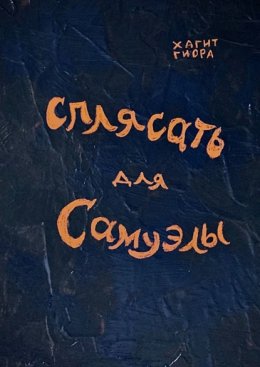
Редактор Яна Овруцкая
Иллюстратор Яна Овруцкая
Дизайнер обложки Яна Овруцкая
© Хагит Гиора, 2024
© Яна Овруцкая, иллюстрации, 2024
© Яна Овруцкая, дизайн обложки, 2024
ISBN 978-5-0064-6586-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
все поэтические цитаты, приведённые в тексте, принадлежат Осипу Мандельштаму, если не указано иное
СЛУЧАЙНО
