Рычаг богатства. Технологическая креативность и экономический прогресс
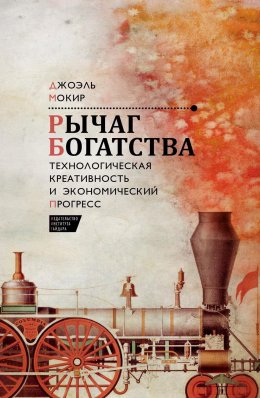
© 1990 by Oxford University Press, Inc.
© Издательство Института Гайдара, 2014
Памяти моей матери, которая всего достигла сама
Предисловие
Книга, которую вы держите в руках, посвящена технологической креативности. С какой стати историку экономики понадобилось браться за такую тему? Говоря о технологиях, мы имеем в виду способы создания полезных и приносящих удовольствие товаров и услуг, то есть производство. Разница между богатыми и бедными странами состоит не в том, как выразился Эрнест Хемингуэй, что у богатых больше денег, чем у бедных, а в том, что богатые страны производят больше товаров и услуг. Это удается им, в частности, благодаря обладанию более совершенными технологиями, то есть более передовыми способностями управлять и манипулировать природой и людьми в производственных целях. Если Запад в целом живет более комфортабельно и даже роскошно по сравнению с той вопиющей бедностью, которая по-прежнему преобладает в большинстве стран Азии и Африки, то в большой степени он обязан этим своим технологиям. Как выразился один автор, мы должны «воздать должное тем мелким, повседневным, прагматичным, честным усовершенствованиям простых технологий… происходившим в Европе… которые капля за каплей смоют большинство несчастий современного мира» (Jones, 1981, p. 69). Западное технологическое превосходство имеет глубокие исторические корни, и мы сможем его понять – если это вообще возможно – лишь в ходе анализа, охватывающего столетия и даже тысячелетия. Строго говоря, дело не сводилось к одним технологиям: важную роль сыграло также развитие права, торговли, государственного управления и институтов. Тем не менее, как мы попытаемся показать, в основе возвышения западного мира лежала все-таки технологическая креативность. Именно она стала для него рычагом богатства.
Как изменяются технологии? Так же, как в науке и искусстве, источником этих изменений служит людская креативность – этот редкий и таинственный феномен, который позволяет людям выдумывать и делать то, что до них никто не выдумывал и не делал. Разумеется, технологическая креативность сильно отличается от креативности в науке и искусстве. Во многом она носит более приземленный характер, будучи порождением таких не слишком возвышенных сторон личности, как изворотливость и алчность. Тем не менее, подобно науке и искусству, она время от времени является плодом вдохновения, удачи, прозорливости, гениальности и необъяснимого людского стремления пройти там, где никто еще не ходил. Несмотря на то что солидная доля изобретений сегодня создается в научно-исследовательских лабораториях усилиями холодного и расчетливого разума инженеров в белых халатах, надетых поверх строгих костюмов, в значительной степени технологическая креативность, сделавшая наш экономический мир таким, какой он есть, проистекала из других источников. Я постараюсь описать эту креативность, а затем и объяснить ее. Однако эта задача никогда не сможет быть доведена до полного завершения. Рано или поздно нам все равно останется лишь благоговейно застыть перед тайной человеческого гения. Прорывы, совершившиеся в мозгах Монгольфье или Вестингауза, так же недоступны никаким «объяснениям», как невозможно объяснить, что творилось в голове у Бетховена, когда он создавал «Героическую симфонию». Экономисты и историки в равной мере осознают существование глубоких различий между homo economicus и homo creativus. Первый старается извлечь максимальную выгоду из того, что дала ему природа. Второй восстает против диктата природы. Технологическая креативность, как и любая другая креативность, представляет собой восстание. Без нее все мы до сих пор вели бы отвратительное и недолгое существование, полное трудов, тягот и неудобств.
Всегда приятно выразить признательность многочисленным друзьям и коллегам, без которых эта книга была бы невозможна и которые в каком-то смысле ответственны за множество выраженных в ней аргументов и мнений. Впрочем, поскольку на титульном листе фигурирует лишь мое имя, то я один должен нести вину за любые ошибки и заблуждения и держать ответ перед неверно понятыми и неточно процитированными.
Начало данному проекту было положено много лет назад, когда мой бывший коллега Ф. Майкл Шерер пришел ко мне в кабинет на экономическом факультете Северо-Западного университета и предложил написать «небольшую монографию» по истории технического прогресса, работа над которой, по его словам, заняла бы у меня не больше нескольких летних месяцев. Я не купился на его посулы, но все же дал обещание, потребовавшее провести много долгих вечеров в библиотеках и за пишущей машинкой. Таким образом, семена настоящей книги были посеяны Майклом, и, хотя доводить ее до завершения пришлось мне, он оказывал мне всяческую помощь и поддержку в течение всей дальнейшей работы. Могу лишь надеяться на то, что читатели не поставят ему в вину ничего из того, о чем идет речь в этой книге.
В интеллектуальном плане меня вдохновляли всевозможные источники, многие из которых я уже не в состоянии вспомнить. Четырнадцать лет преподавая экономическую историю, неизбежно впитываешь огромное количество различных сведений, забывая о том, откуда они взялись. Впрочем, это не относится к ряду книг, к которым я снова и снова обращался в поисках идей, вдохновения и информации. Эти книги – «Освобожденный Прометей» Дэвида Ландеса (David Landes, Unbound Prometheus), «Религия и технология Средневековья» Линна Уайта (Lynn White, Medieval Religion and Technology), «Европейское чудо» Эрика Джонса (Eric Jones, European Miracle), «История механических изобретений» Эбботта Пейсона Ашера (Abbott Payson Usher, History of Mechanical Inventions) и «Поворотные моменты западной техники» Дональда Кардуэлла (Donald Cardwell, Turning Points in Western Technology).
Мне хотелось бы упомянуть тех моих коллег по Северо-Западному университету, которые не только читали рукопись в ее многочисленных полусырых вариантах, снабжая меня множеством добрых советов и напутствий, но и дарили мне дружбу и эмоциональную поддержку, без которых немногие могут обойтись. Это Луис Кейн, Чарльз Каломирис, Карл де Швейниц, Джек Голдстоун, Дэвид Халл, Джонатан Р. Т. Хьюз и Сара Маза. Ценный вклад также внесли многие из моих аспирантов, на которых сваливались последовательные версии рукописи; в частности, особую благодарность хочу выразить Кэтрин Андерсон, Авнеру Грейфу, Полу Хаку, Линн Кислинг, Джону Наю, Гэбриэлу Сенсенхреннеру, Яну Шиману, Ричарду Состаку и Марте Уильямс. Наконец-то я начал понимать, сколько правды содержалось в знаменитом изречении рабби Акивы о том, что многое он узнал от своих учителей, еще больше – от своих коллег, но больше всего – от своих учеников.
За пределами Северо-Западного университета в наибольшей степени я, как всегда, обязан Кормаку О'Града, чьи почти легендарные терпение и мудрость уже в течение многих лет служат для меня незаменимым источником поддержки. Неудобно даже сказать, сколько прочих друзей ознакомилось с рукописью и сколько они нашли в ней ошибок и упущений, порой критикуя ее совершенно не по делу; так, громче всего меня упрекали в том, что я написал книгу совсем не так, как ее написали бы они сами. В этот список следует включить Роберта Аллена, Уильяма Баумола, Ройвена Бреннера, Джулию Бернс, Пола Э. Дэвида, Яна де Вриса, Стефано Феноальтеа, Джорджа Грантэма, К. Ника Харли, Дэна Хедрика, Эрика Джонса, Уильяма Макнейла, Дональда Макклоски, Уильяма Н. Паркера, Ричарда Состака, Эндрю Уотсона, К. Уайта и Бинга Вонга. Первоначальный вариант моей книги обсуждался на конференции Объединенной группы Университета Калифорнии по экономической истории в октябре 1988 г., где я получил много ценных идей, хотя не все из них мне удалось использовать.
Мой ассистент Эрик Лехендер в течение трех лет преданно помогал мне обчищать полки библиотек Северо-Западного университета, а также внес свой вклад в возрастание спроса на услуги сотрудников межбиблиотечного абонемента. Г-жа Барбара Карни отредактировала рукопись со своей обычной вдумчивостью и компетентностью. Г-н Герберт Эддисон из Oxford University Press щедро поделился своим знанием книг и издательского дела на последних этапах подготовки книги к печати. Помощь и поддержку в течение многих лет мне оказывали секретари экономического факультета Северо-Западного университета – г-жа Энджи Кэмпбелл, г-жа Энн Рот и г-жа Флоренс Стайн. Особую благодарность хочу выразить г-ну Джеку Рипчеку из Princeton University Press.
Моя жена Маргалит была рядом со мной всегда, когда я в ней нуждался, а мои дочери Наама и Бетси были рядом даже и тогда, когда я прекрасно мог без них обойтись.
Дж. М. Эванстон,Иллинойс.Январь 1990
Часть I. Экономический рост и технический прогресс
Глава 1. Введение
Экономический рост, происходивший в прежние эпохи, принципиальным образом сказывается на материальных аспектах нашего существования: о том, какой уровень жизни ожидает новорожденного младенца, наилучшим образом позволяет судить место его рождения. Качество жизни, на которое может рассчитывать средний человек, родившийся, скажем, в сельском Камеруне или в городах Явы, имеет очень мало общего с качеством жизни, которое уготовано родившемуся в Гринвиче (штат Коннектикут) или в норвежской столице Осло. Об этом различии позволяет судить несколько искусственный экономический показатель, известный как национальный доход или валовой национальный продукт на душу населения. Текущий уровень этой величины определяется ее прежними значениями. В экономике история – это судьба.
Таким образом, называя ту или иную страну богатой, мы имеем в виду, что в прошлом она испытывала экономический рост. Описывая все, это утверждение в то же время ничего не объясняет. Причины экономического роста – почему одни общества богатеют, а другие остаются бедными – обсуждаются экономистами, социологами, историками и философами уже не первое столетие. Настоящая книга представляет собой еще одну попытку дать ответ на этот вопрос из вопросов. В центре нашего внимания будет находиться то, что я считаю ключевым ингредиентом экономического роста: технологическая креативность. Мы рассмотрим аргументацию о причинах экономического прогресса, о росте уровня жизни, об улучшении питания, одежды, жилищных условий и здоровья, а также о сокращении жизненных трудов и тягот, голода и болезней. Технический прогресс являлся одной из самых могущественных сил в истории, обеспечив общество тем, что экономисты называют «бесплатным завтраком», то есть ростом выработки, несоизмеримым с издержками и усилиями, потребовавшимися для его осуществления.
Такое представление о технических изменениях несовместимо с одной из самых распространенных полуистин, вбиваемых экономистами своим ученикам – а именно с избитым афоризмом о том, что бесплатных завтраков в природе не бывает. Цель настоящей книги – в том, чтобы донести до читателя важнейший контрпример к этому заявлению[1]. Экономическая история дает нам множество примеров бесплатных завтраков, а также (куда более распространенных) очень дешевых завтраков. В то же время мы сталкиваемся с бесконечными случаями очень дорогих завтраков, которые оказываются несъедобными, а порой и вовсе смертоносными. Иными словами, технические изменения в первую очередь связаны с тем, о чем экономисты говорят как о сдвиге кривой производственных возможностей, то есть с увеличением производственного потенциала экономики. Однако общества на протяжении большей части своей истории находились не на кривой, где они полностью эксплуатировали свои ресурсы, а в той или иной точке внутри этой границы, из-за расточительности и неэффективности имея более низкий уровень жизни по сравнению с тем, какой наблюдался бы в случае эффективного использования имеющихся ресурсов. Вследствие войн, дискриминации, безработицы, суеверий, посягательств на торговлю и экономическую свободу, злоупотребления ресурсами и многих других видов людской расточительности лишь небольшая доля потенциально доступных ресурсов использовалась для производства благ, обладающих экономической полезностью. Сокращая расточительство, общество могло бы повысить свой уровень жизни без увеличения объемов труда и прочих необходимых ресурсов. Хотя такое повышение тоже может рассматриваться как одна из разновидностей бесплатного завтрака, оно не входит в круг рассматриваемых нами предметов. Вместо него мы изучим собственно сдвиг кривой производственных возможностей, то есть повышение производственного потенциала экономики, так как именно он чаще всего отождествляется с экономическим ростом.
Не всякий экономический рост обязательно связан с технологиями. Грубо говоря, экономический рост может наблюдаться в результате четырех отдельных процессов:
1. Инвестиции (увеличение объемов капитала). Производительность труда, а вместе с ней и средний уровень жизни, зависят от количества и качества инструментов и оборудования, находящихся в распоряжении у среднего трудящегося (или, как говорят экономисты, от капиталовооруженности). В тех случаях, когда накопление капитала опережает рост численности рабочей силы, вследствие чего на долю каждого трудящегося приходится все больше капитала, будет происходить экономический рост; иными словами, будет возрастать величина выработки на одного трудящегося. Мы можем называть такое явление соловианским ростом, по имени Роберта Солоу, заложившего основы современной теории экономического роста. На первый взгляд экономический рост такого типа не приносит бесплатных завтраков. Возможность для инвестиций создается путем накопления; а накапливать по определению означает воздерживаться от потребления в данный момент времени с тем, чтобы увеличить потребление в будущем. Соответственно, за все будущие выгоды приходится расплачиваться готовностью к пониженному потреблению в настоящем, что само по себе нежелательно и потому затратно.
2. Коммерческая экспансия. В рамках углубленного курса по микроэкономике принято показывать, что расширение обмена товарами, услугами, трудом или капиталом может быть выгодно для всех участвующих сторон. Абстрагируясь от издержек трансакций, торговля и добровольный обмен между двумя сторонами, прежде изолированными друг от друга, – будь то индивиды, деревни, регионы, страны или континенты, – приводят к росту дохода у обоих партнеров. Это повышение дохода, известное как торговая выгода, представляет собой хороший пример бесплатного завтрака. Торговля, как еще в 1776 г. указывал Адам Смит, влечет за собой возрастание богатства народов. Механизм экономического роста, описанный Смитом, основывался на идее о том, что более глубокое разделение труда ведет к росту производительности вследствие специализации и адаптации навыков к решаемым задачам. Экономический рост, вызванный расширением торговли, можно назвать смитианским ростом (по примеру Parker, 1984)[2]. Торговля возникает там, где снижаются трансакционные издержки (то есть издержки, связанные с обменом либо покупкой и продажей товаров и услуг на рынке) или совершенствуются и тщательнее соблюдаются права собственности. Однако вовсе не такой тип бесплатных завтраков будет интересовать нас в первую очередь.
3. Эффект масштаба или размера. Иногда утверждается, что рост населения сам по себе может привести к повышению дохода на душу населения (см., например: Simon, 1977; Boserup, 1981). Очевидно, что если разделение труда влечет за собой рост процветания, то в случае очень маленькой численности населения одно лишь ее возрастание делает возможной специализацию и, соответственно, увеличение производительности. Более того, по крайней мере в известных пределах можно сказать, что некоторые фиксированные издержки и расходы на объекты инфраструктуры – такие как дороги, школы, учреждения по надзору за соблюдением прав собственности и т. д. – становятся эффективными лишь в случае относительно многочисленного населения (North, 1981). В тех случаях, когда само по себе расширение масштабов экономики вследствие простого роста численности ее субъектов вызывает увеличение производственного потенциала, приходящегося на душу населения, людям покажется, что они получают бесплатный завтрак. Впрочем, непрерывный рост населения приведет к возрастанию давления на прочие ресурсы, объемы которых не увеличиваются (земля и прочие естественные ресурсы) или увеличиваются не так быстро, и экономика перейдет от режима роста к режиму снижения отдачи. При возникновении такого эффекта перенаселенности дальнейший рост населения вызывает интенсификацию производства, сопровождающуюся снижением среднего дохода. Сокращение отдачи все еще возможно скомпенсировать другими факторами, вследствие чего рост населения может сопровождаться экономическим ростом. Но в подобных случаях было бы некорректно утверждать, что рост населения является причиной экономического роста.
4. Рост объемов знаний, включая как собственно технический прогресс, так и трансформацию институтов. Опять же по примеру Паркера назовем процессы этого типа шумпетерианским ростом, по имени Йозефа А. Шумпетера, который будет неоднократно упомянут в нашей книге. Паркер (Parker, 1984, p. 191) определяет шумпетерианский рост как «капиталистическую экспансию, опирающуюся на непрерывные, хотя и скачкообразные, технические изменения и инновации, и финансируемую за счет расширения кредита». Собственно, в нашей книге речь и пойдет именно о технических изменениях и инновациях. Под техническим прогрессом я имею в виду любые изменения в использовании информации, задействованной в производственном процессе, которые влекут за собой повышение эффективности, приводя либо к сохранению прежних объемов производства при сокращении требуемых ресурсов (то есть к снижению издержек), либо к производству усовершенствованных или новых видов продукции. Однако, в отличие от Паркера, я полагаю, что мы не должны сводить шумпетерианский рост только лишь к случаю капиталистической экспансии, финансируемой за счет кредита. Технический прогресс, начавшийся за много веков до появления капитализма и кредитов, вполне может пережить капитализм на такой же или еще более длительный срок.
Выражение «использование информации» было выбрано мной не случайно: как мы увидим, экономический рост в значительной степени основывается на применении уже имеющейся информации, а не на приобретении совершенно новых знаний (Rosenberg, 1982, p. 143). После того как уже все сказано и сделано, с точки зрения экономического роста фактически неважно, возрастает ли доход благодаря тому, что в производственном процессе используется совершенно новая информация – даже если мы сумеем сойтись во мнениях относительно того, что именно понимается под словом «новая», – или благодаря тому, что существующая информация оказалась в распоряжении новых пользователей.
Распределение технических изменений по историческим эпохам носит неравномерный и даже судорожный характер. Некоторые недолгие промежутки в истории отдельных наций – таких как Великобритания в 1760–1800 гг. или США после 1945 г. – исключительно обильны техническими изменениями. Но за такими всплесками нередко следуют периоды, во время которых технический прогресс выдыхается. Почему так происходит? Несмотря на то что этот вопрос широко освещался экономистами, социологами и историками, они так и не смогли прийти к однозначному объяснению. Как выразился один историк экономики (Thomson, 1984, p. 243), «технические изменения похожи на Бога. О них много говорят, им поклоняются, их отрицают, но никто не понимает, что это такое». И подобное непонимание небеспричинно. История техники настолько многогранна, что почти каждому взятому из нее примеру можно противопоставить контрпример. Поиск эмпирических закономерностей в этой колоссальной груде информации – не поддающейся количественным оценкам и нередко недостоверной и неполной – дело неблагодарное. Однако без такого поиска кропотливая работа историков техники будет выглядеть бессмысленной, а роль техники в истории нашей экономики останется невыясненной.
В тех случаях, когда расширяется ресурсная основа экономики, перед обществом открываются две возможности: либо повышать уровень жизни, либо, по знаменитому выражению Г. Уэллса, «растратить дары природы на бессмысленное преумножение заурядного бытия». В современную эпоху экономический рост происходил вопреки росту численности населения. До этого, как неустанно указывали Мальтус и классики политэкономии, рост численности населения неумолимо поглощал плоды роста производительности, и в долгосрочном плане уровень жизни, насколько он поддается вычислению, изменялся очень слабо. Поэтому в отдельных случаях было бы разумно определять экономический рост как повышение совокупного дохода, а не дохода на душу населения. Этот подход предложен в работе Джонса (Jones 1988).
Современными экономистами создана обширная литература по техническим изменениям[3]. Во всех трудах, посвященных экономическому росту, признается существование «остатка» – той части экономического роста, которая не может быть объяснена приращением капитала или труда и потому должна в известном смысле рассматриваться как бесплатный завтрак. Технические изменения представляются естественной кандидатурой для объяснения этого остатка и порой даже просто уравниваются с ним. Такая литература, впрочем, не достигла особых успехов при объяснении того, почему одни общества технологически более креативны, чем другие. Обычно она не опирается ни на историю экономики, рассматривая главным образом период после 1945 г., ни на историю техники. Такого историка техники, как Эбботт П. Ашер, чаще цитируют в связи с его интересным, но спекулятивным применением гештальт-психологии к изобретательству, нежели с его колоссальными знаниями о том, как развивалась техника с течением времени (см., например: Thirtle and Ruttan, 1987, p. 2–5). Как правило, подход экономистов к объяснению технических изменений основывается на рассмотрении отношений между показателями спроса и предложения, научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, а также ростом производительности. При этом технология неявно понимается как фактор производства – правда, обладающий весьма своеобразными чертами – который производится и продается на рынке научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Анализ такого рынка иногда может быть полезен при описании периода после 1945 г. (Jewkes, Sawers, and Stillerman, 1969; Langrish et al., 1972). Впрочем, очевидно, что такие рамки совершенно не годятся при попытках объяснить распространение ветряных мельниц в средневековой Европе, изобретение чугунного литья в Китае времен династии Хань или переход к интенсивному сельскому хозяйству в Великобритании XVII в. Развитие техники, происходившее на протяжении большинства исторических эпох, едва ли можно рассматривать как следствие упорядоченного научно-исследовательского и опытно-конструкторского процесса. Оно лишь в самой минимальной степени сопровождалось планированием и точным вычислением выгод и издержек. Как же в таком случае его объяснить?
Как только экономист выходит за пределы безопасной сферы традиционной микроэкономики и начинает учитывать неэкономические факторы, он нередко открывает для себя, что исторические события безнадежно сверхдетерминированы, то есть каждый феномен можно объяснить множеством правдоподобных способов. Как правило, теории технических изменений, основанные на географических, политических, религиозных, военных и научных факторах, легко сочинить и сложно опровергнуть. Многие из этих объяснений вполне разумны. Но насколько они корректны? Ставить вопрос таким образом, пожалуй, не слишком полезно; скорее следовало бы задаться вопросом о том, почему такие объяснения получают широкое распространение. Сумеем ли мы найти достаточно доказательств, подтверждающих, что та или иная теория опирается на факты, а не на одну лишь логику? Ниже мы постараемся следовать такой методологии.
Подвергая рассмотрению шумпетерианский рост, я не собираюсь принижать значение других видов экономического роста. Технические изменения, не сопровождающиеся другими формами экономического роста, происходят редко. Четыре упомянутых разновидности экономического роста подпитывают друг друга различными сложными способами. Например, согласно распространенному представлению о технических изменениях, в большинстве своем они находят воплощение в новых средствах производства, и потому при отсутствии накопления капитала технические изменения будут медленными. В той степени, в какой эта точка зрения верна, соловианский рост и шумпетерианский рост идут рука об руку. Кроме того, шумпетерианский рост может повлечь за собой смитианский рост, что происходило, например, тогда, когда технический прогресс в судоходстве привел к повышению прибыли от торговли благодаря снижению стоимости перевозок. Для того чтобы не слишком усложнять картину, мы ограничимся изучением собственно технических изменений, рассматривая иные формы экономического роста лишь постольку, поскольку они непосредственно связаны с развитием техники.
Исследуя технические изменения, мы неизбежно оказываемся в промежутке между совокупным и индивидуальным уровнями анализа. Сам по себе экономический рост по определению является агрегированным процессом, изобретательством, и освоением его результатов обычно занимаются мелкие экономические единицы (индивиды и предприятия). Соответственно, историк экономики приходит к макроосновам технологической креативности, то есть вынужден отвечать на вопросы о том, какие виды социального окружения побуждают индивидов к новаторству, какие стимулы и институты создают экономику, поощряющую технологическую креативность. Последняя анализируется главным образом в качестве социального, а не индивидуального феномена. Иными словами, меня интересует вопрос не о том, почему одни личности более креативны, чем другие, а о том, почему существовали и существуют такие общества, в которых насчитывается больше креативных индивидов, чем в других обществах. Именно этот вопрос лежит в основе загадки из загадок: почему экономический рост (по крайней мере рост шумпетерианского типа) в одних обществах происходит, а в других – нет?
Как выразился Хертье (Heertje, 1983, p. 46), не исключено, что технические изменения невозможно объяснить. Думаю, под этим он имел в виду, что стандартная экономическая теория, которая, в конце концов, имеет дело с рациональным выбором, осуществляющимся в заданных пределах, сталкивается с дилеммой, когда речь заходит о технологической креативности. Технические изменения включают атаку индивида на ограничения, всеми прочими воспринимающиеся как данность. Методология экономики в целом основана на идее о том, что экономические агенты стремятся достичь максимальных результатов в условиях данных ограничений, но по определению никак не могут изменить сами эти ограничения. Соответственно, экономические исследования в сфере технических изменений по большей части оказываются посвящены вторичным вопросам – например, способствовала ли конкретная технология относительной экономии труда или капитала, или какое влияние циклические колебания спроса оказывали на темп выдачи патентов.
Еще Фрэнсис Бэкон говорил о различных видах технического прогресса. Согласно Бэкону, изобретения делятся на две категории: зависящие от общего состояния знаний и потому возможные только при наличии соответствующей научной и информационной основы и чисто эмпирические изобретения, которые могли быть сделаны в любой момент истории. Однако на практике провести это различие бывает непросто. Некоторые на первый взгляд эмпирические изобретения в реальности опирались на мелкие изменения в понимании и восприятии изобретателем своего физического окружения или на появление ключевого материала или компонента, благодаря которому изобретение становилось практичным. Так, Кардуэлл (Cardwell, 1968) указывает, что Бэкон ошибался, считая, что книгопечатание с разборным шрифтом вполне могли изобрести древние греки: в реальности оно основывалось на средневековых достижениях в металлургии. Тем не менее очевидно, что во многих случаях действительно не имеется никаких серьезных причин для того, чтобы данное изобретение было сделано в конкретный момент времени, а не столетиями ранее. Напрашивается заманчивый ответ о том, что все дело в отсутствии соответствующей осознанной потребности или спроса, но также возможно и то, что конкретная инновация прежде просто никому не приходила в голову. В эту категорию можно занести ряд очень полезных и простых средневековых изобретений – таких как тачка или стремя.
У экономистов, исследующих технические изменения, существует богатая традиция проводить различие между изобретениями и инновациями. Шумпетер указывает, что изобретения не всегда сопряжены с инновациями и что именно инновации привносят в капитализм элемент динамики. Согласно этой логике изобретения сами по себе малоинтересны для экономистов. Раттен (Ruttan, 1971, p. 83) предложил отказаться от концепции изобретения и рассматривать его просто как «институционально определенное подмножество технических инноваций». Опять же, такое различие не всегда бывает полезно. На стадии воплощения изобретение обычно совершенствуется, отлаживается и модифицируется таким образом, что эти мелкие изменения сами по себе становятся изобретениями. Проникновение инноваций в другие экономики также зачастую требует адаптации к местным условиям и в большинстве случаев влечет за собой дальнейший прирост производительности вследствие обучения в процессе работы.
Но прежде чем делать поспешный вывод о том, что изобретения не представляют большого интереса для экономической истории технических изменений, вероятно, было бы полезно уделить этому вопросу чуть больше внимания. Изобретение следует определять как приращение общего множества технических знаний в конкретном обществе, представляющего собой объединение всех множеств технических знаний отдельных индивидов[4]. Можно утверждать, что сама по себе концепция такого множества не содержит в себе смысла, однако в ее отсутствие обессмысливается также почти вся история культуры и интеллектуальной мысли. Более существенно то, что это множество можно объявить несущественным. Те новые знания, которые нигде не применяются, никак не изменяют экономического благосостояния, в то время как шумпетерианский экономический рост главным образом обеспечивается применением старых знаний. Выражаясь несколько по-иному, можно сказать, что в каждый конкретный момент времени существует большой разрыв между средними и передовыми технологиями; сокращение этого разрыва посредством распространения самых передовых технологий, применяемых производителями, обеспечивает технический прогресс при отсутствии изобретений. Также техническим прогрессом при отсутствии изобретений является проникновение технологий из развитых стран и регионов в отсталые. Однако не следует делать из этого необоснованный вывод о том, что изобретения не должны занимать центрального места в дискуссиях о связи между развитием техники и экономическим ростом. Любое обсуждение разрыва между средними и передовыми технологиями будет бессмысленным до тех пор, пока мы не получим некое представление о том, откуда вообще берутся передовые технологии. Без дальнейшего расширения имеющихся знаний распространение технологий и сокращение вышеупомянутого разрыва будут сопровождаться снижением отдачи и в конце концов остановятся. Таким образом, на нас ложится обязанность рассмотреть те случаи, когда этот процесс не прекратился, и задаться вопросом о том, что было тому причиной.
Иными словами, ключевая предпосылка нашей книги сводится к тому, что изобретения и инновации взаимно дополняют друг друга. В краткосрочном плане такая взаимодополняемость не идеальна; одно вполне возможно без другого. Однако в долгосрочном плане технологически креативные общества должны проявлять как изобретательность, так и новаторство. Без изобретений инновации в конце концов затормозятся и прекратятся, ввергнув общество в состояние застоя. Без инноваций изобретатели не будут иметь точки применения сил и серьезных экономических стимулов для того, чтобы развивать новые идеи. В третьей части книги будет указано, что такая взаимодополняемость является одной из причин, по которым столь редки технологически креативные общества. Она невозможна без одновременного соблюдения множества различных условий. Изобретения зависят от факторов, определяющих индивидуальное поведение, так как изобретатель в конечном счете одинок в своих попытках создать нечто работоспособное. С другой стороны, инновации требуют взаимодействия с другими индивидами, зависят от институтов и рынков и потому носят в первую очередь социальный и экономический характер.
Ни один простой ответ на вопрос о том, почему технологическая креативность присуща далеко не всем обществам, никогда не удовлетворит всех до единого. «Простой и всеобъемлющий всеобщий закон эволюции, – писал Гершенкрон (Gerschenkron, 1967, p. 448), – лежит по другую сторону линии, отделяющей серьезные исследования от поверхностных фантазий». Однако мы явно в состоянии сказать нечто большее, помимо простой констатации того, что «всё имеет значение», или выявления самых заметных различий между креативными и некреативными обществами и поиска соответствующих причинно-следственных связей. Корреляция не означает наличия причинности. Ирландский католицизм, центральноафриканский климат, зависимость Юго-Восточной Азии от риса – все эти факторы ошибочно объявлялись причинами отсутствия технологической креативности в данных обществах. Экономический анализ поможет нам установить значение одних факторов, усомниться в роли других факторов и разработать методы оценки факторов, неоднозначных с точки зрения теории.
Таким образом, для того чтобы понять, где и почему наблюдается технологическая креативность, мы должны проводить различие между двумя основными компонентами последовательности «изобретение-инновация». Первым из этих компонентов является то, что технические проблемы влекут за собой борьбу между разумом и материей, то есть связаны с контролем над физической окружающей средой. Как говорится, природа скупо раскрывает свои секреты. Извлечение из нее этих секретов и их последующее использование для получения материальной выгоды составляют сущность любого технологического прорыва. Итог определяется отвагой и хитроумием изобретателя, ограничениями, присущими имеющимся у него инструментам и материалам, и сопротивлением законов природы воле изобретателя. Второй компонент носит социальный характер. Для того чтобы внедрить новую технологию, изобретатель должен взаимодействовать со своим окружением, состоящим из конкурентов, клиентов, поставщиков, представителей власти, соседей, быть может, священников. Общество становится технологически креативным при соблюдении трех условий. Во-первых, оно должно иметь кадры изобретательных и предприимчивых новаторов, способных и готовых бросить вызов физическому окружению ради улучшения своей жизни. Какие-либо инновации маловероятны в недоедающем, суеверном или чрезмерно традиционалистском обществе. Во-вторых, экономические и социальные институты должны поощрять потенциальных новаторов, создавая для них нужную структуру стимулов. Отчасти такие стимулы являются экономическими; технологическая креативность более вероятна в том случае, если новатор может рассчитывать разбогатеть. Впрочем, неэкономические стимулы тоже могут сыграть свою роль. Общество может награждать удачливых новаторов орденами, нобелевскими премиями или неосязаемыми символами престижа. В-третьих, инновации требуют разнообразия и терпимости. В каждом обществе существуют стабилизирующие силы, охраняющие статус-кво. Некоторые из этих сил защищают устоявшиеся кровные интересы, которые могут пострадать в случае внедрения инноваций, а другие просто действуют по принципу «не раскачивайте лодку». Технологической креативности приходится преодолевать эти силы.
Работа по экономической истории технических изменений будет неизбежно содержать даты, имена и географические названия. По самой своей природе рассказ о технологической креативности невозможен без упоминаний о том, кто первый пришел к той или иной идее и кто внес принципиальные исправления и усовершенствования, без которых эта идея не работала. Однако в последние десятилетия историки экономики избегали подобной тематики. Как спрашивает Дэвид (David, 1987): не сводится ли история техники всего лишь к непрерывному накоплению мелких, почти не ощутимых изменений, создаваемых трудом множества почти анонимных людей? Некоторые историки утверждают, что почти все изобретения являются результатом «технического дрейфа» (выражение из Jones, 1981, p. 68), складываясь в основном из мелких, постепенных, анонимных усовершенствований (Rosenberg, 1982, pp. 62–70). В качестве реакции на героические теории изобретательства, приписывающие любые усовершенствования гениальности отдельных личностей, теория дрейфа приобрела заслуженное влияние. Но не слишком ли далеко мы заходим в другую сторону, не придавая значения важным изобретениям, сделанным немногими ключевыми фигурами? Некоторые изобретения – такие как печатный станок, ветряная мельница, часы с гирями – противоречат постепенной модели технического прогресса. В истории всегда происходили – и, вероятно, всегда будут происходить – отдельные крупные технические изменения, ошеломлявшие мир и заставлявшие его поскорее заполучить или сымитировать новинку. Действительно, современные исследования показывают, что сокращение издержек в основном осуществляется благодаря мелким, незаметным, постепенно накапливающимся усовершенствованиям. Но что именно при этом совершенствуется? За появлением практически каждого крупного изобретения следовал процесс обучения, в ходе которого снижались производственные издержки, связанные с использованием новой технологии; но для того чтобы эти издержки снижались, новинку сперва следует изобрести. Взрослый человек, весящий около 150 фунтов, с момента рождения набрал примерно 95 % своего веса – следует ли из этого, что зачатие не сыграло никакой роли в его жизни?
При обсуждении различий между мелкими изобретениями, в совокупности оказывающими решающее воздействие на экономический рост, и крупными техническими прорывами было бы полезно провести аналогию между историей техники и современной теорией эволюции, чем мы займемся в главе 11. Некоторые биологи проводят различие между микромутациями – мелкими изменениями существующих видов и их облика – и макромутациями, в результате которых создаются новые виды. Это различие может дать нам полезную аналогию. Мы будем определять микроизобретения как небольшие, постепенные шаги в сторону совершенствования, адаптации и упрощения уже используемых технологий, снижения издержек, оптимизации форм и функций, повышения надежности и экономии энергии и сырья. С другой стороны, макроизобретения – это такие изобретения, в которых используются новые идеи, не имеющие четких прецедентов и возникшие более-менее с нуля. В смысле численности микроизобретения делаются намного чаще, и именно они обеспечивают основной прирост производительности. Впрочем, макроизобретения занимают столь же важное место в истории техники.
Принципиальной чертой технического прогресса является то, что макроизобретения и микроизобретения не заменяют, а дополняют друг друга. При отсутствии последующих микроизобретений большинство макроизобретений окончили бы свои дни экспонатами в кунсткамерах или набросками в блокнотах. Действительно, бывает так, что автор усовершенствования, позволившего довести до ума то или иное эпохальное изобретение, отбирает всю славу у его непосредственного творца – именно так произошло с паровой машиной, пневматической шиной и велосипедом. Однако если бы не существовало радикальных новшеств, непрерывный процесс совершенствования и оптимизации известных технологий сопровождался бы постепенным снижением отдачи и со временем прекратился бы. Микроизобретения более-менее объяснимы с точки зрения стандартных экономических концепций. Они представляют собой результат поисков и изобретательской работы и зависят от цен и стимулов. Обучение в процессе работы и использования повышает экономическую эффективность и коррелирует с такими экономическими переменными, как объем производства и уровень занятости. С другой стороны, макроизобретения как будто бы не подчиняются очевидным законам, не обязательно являются ответом на стимулы и в большинстве своем не поддаются попыткам увязать их с экзогенными экономическими переменными. Многие из них появились на свет в результате гениальных озарений, удачи или интуиции. Соответственно, в истории техники сохраняется компонент необъясненного, который невозможно истолковать в чисто экономических терминах. Иными словами, удача и вдохновение тоже важны и потому все зависит от конкретной личности. Исследователи, сомневающиеся в ее значении, нередко отталкиваются от аксиомы о заменимости: если бы автором данного изобретения не был X, им стал бы Y – этот вывод обычно делается на примере многочисленных одновременных изобретений. Но хотя такая закономерность верна в отношении некоторых изобретений, включая телефон и лампу накаливания, того же самого нельзя сказать в отношении множества других важных инноваций.
Если и существует такая сфера, в которой преобладает сверхупрощенная детерминистическая точка зрения, утверждающая, что результаты всегда определяются неумолимыми силами, подчиняющими себе индивидов – такими, как законы спроса и предложения или классовая борьба, – то этой сферой является экономическая история техники. Спрашивать, почему крупные прорывы важнее, чем маргинальные улучшения, – все равно что спрашивать, кто выигрывает сражение, генералы или солдаты. Подобно тому, как в военной истории мы прибегаем к таким условностям, как «Наполеон в 1806 г. разбил прусскую армию под Йеной», так же мы можем говорить и о том, что конкретное изобретение было сделано тогда-то или тогда-то. Из подобных заявлений не следует, что приростом производительности в результате применения данного изобретения мы обязаны исключительно его непосредственному изобретателю, так же, как из заявления о победе Наполеона над пруссаками не следует, что он в одиночку разгромил всю их армию. Просто нам удобно выстраивать нарратив вокруг конкретного события.
Различие между микро- и макроизобретениями полезно потому, что, как подчеркивают историки техники, в этой литературе рискованно употреблять слово «первый». Многие технические прорывы имеют историю, начавшуюся задолго до того, как произошло событие, обычно считающееся данным изобретением, и почти все макроизобретения требовали последующих усовершенствований, без которых оставались неработоспособными. Однако во многих случаях одно-два конкретных события действительно сыграли решающую роль. Без таких прорывов технический прогресс в конце концов остановился бы. В работе Ашера (Usher, 1954, p. 64) подчеркивается значение «искусства интуиции», и хотя Ашер утверждает, что нет ни одного индивида, без которого не могла бы обойтись история техники, в то же время он признает, что процесс ее развития задавался индивидуальными свойствами и различиями.
В настоящем исследовании мы будем вынуждены ограничиться небольшим числом примеров, взятых, в первую очередь, из экономической истории Запада. Прежде чем перейти в третьей части книги к обсуждению вопроса о том, почему одним обществам была присуща креативность, а другим – нет, необходимо дать обзор фактов. Авторы работ об экономических аспектах технического прогресса слишком часто рассматривают эту тему в отрыве от конкретного исторического материала или прибегают к искусственным построениям, вырывая из контекста те события и факты, которые соответствуют авторской интерпретации. Стремление к обобщениям можно сдерживать путем более широкого освещения основных тенденций в истории техники. Соответственно, во второй части мы вкратце рассмотрим важнейшие технические достижения последних двух с половиной тысячелетий. Подобное начинание выглядит абсурдно амбициозным: изданная в конце 1950-х гг. 5-томная «История техники» под редакцией Чарльза Сингера и др. содержит 4000 страниц текста и тем не менее обычно считается неполной. Поэтому мы затронем лишь самые важные инновации в ограниченном числе областей, оставляя за рамками рассмотрения доисторический период и раннюю древность, а также эпоху после 1914 г. Но и промежуток между 500 г. до н. э. и 1914 г. настолько богат свидетельствами и фактами, что нам удастся лишь отделить несколько крошек с поверхности глубокого и мощного пласта. В стремлении как-то совладать с изобилием материала я был вынужден в целом игнорировать сферы гражданского строительства, архитектуры, медицины и военной техники, уделяя внимание лишь тем достижениям, которые зримо влияли на уровень жизни.
По итогам исторического обзора мы проведем анализ различий между креативными и некреативными экономиками. В главе 7 будет рассмотрен ряд объяснений, ссылающихся на всевозможные факторы – от питания до религии, от институтов до ценностей и менталитетов. С целью оценить значение этих факторов, в главах 8, 9 и 10 на их основе мы сделаем три сопоставления, сравнив античное общество со средневековым Западом, Китай с Европой после 1400 г. и Великобританию в период промышленной революции с остальной Европой и с Великобританией в эпоху ее постепенного упадка как мирового лидера в технологиях – то есть противопоставим технически динамичные общества тем обществам, которые не обладали такой динамикой.
Четвертая часть книги будет посвящена динамике технических изменений. Конкретно – мы зададимся вопросом о том, происходят ли технические изменения рывками и скачками, или же этот процесс носит непрерывный и постепенный характер. Для того чтобы ответить на этот вопрос, мы проведем аналогию между техническим прогрессом и биологической эволюцией, а также попытаемся применить к анализу техники концепцию периодически нарушаемого равновесия.
История технического развития открыта для обвинений в излишнем оптимизме, в том, что ее принято излагать как историю прогресса, усовершенствований, неудержимого движения от бедности к богатству и процветанию. Но думаю, что с учетом разницы между уровнем жизни на Западе в наши дни и тремя веками ранее подобные обвинения не выдерживают критики. Э. Г. Карр (Carr, 1961) рассказывает, что царь Николай I издал указ, которым запрещал использовать слово «прогресс» в своей империи, и едко добавляет, что западные историки с сильным запозданием последовали примеру царя. Едва ли кто станет всерьез спорить с тем, что история использования людьми своей способности манипулировать законами природы с целью решения экономических задач носит однонаправленный характер и заслуживает названия «прогресс». Если абстрагироваться от того, как техническое развитие влияло на такие внеэкономические понятия, как свобода и братская любовь, то с точки зрения экономиста, судящего об истории сквозь призму вековечной борьбы с бедностью и тяготами, технические изменения достойны слова «прогресс». Разумеется, если технические изменения со временем приведут к физическому уничтожению нашей планеты, выжившие вряд ли захотят называть историю техники «прогрессом». Однако до тех пор я считаю себя вправе пользоваться этим термином – не в телеологическом смысле движения к четко обозначенной цели, а в более ограниченном смысле направленности. Если ту же самую корзину товаров можно производить по более низкой цене – при условии, что она точно измерена и включает такие социальные издержки, как ущерб, наносимый окружающей среде, – то термин «прогресс» окажется здесь вполне уместен.
И все же ключевой посыл нашей книги будет не столь однозначно оптимистичным. История дает нам относительно мало примеров технически прогрессивных обществ. Наш собственный мир представляет в этом плане хотя и не единственное, но все же исключение. По большому счету, силы, противодействовавшие техническому прогрессу, обычно брали верх над силами, желавшими изменений. Поэтому исследование технического прогресса – это исследование исключений, тех случаев, когда в результате редкого стечения обстоятельств нарушалась нормальная тенденция обществ к сползанию в застой и равновесие. Беспрецедентным процветанием, доступным в наши дни для значительной доли человечества, мы в гораздо большей степени обязаны случайным факторам, чем обычно думают. Более того, технический прогресс похож на хрупкое и уязвимое растение, живущее лишь в подходящем окружении и климате и вдобавок почти всегда недолговечное. Он чрезвычайно сильно зависит от социальных и экономических условий и легко может быть остановлен посредством относительно мелких внешних изменений. Если история техники и преподносит нам какой-то урок, то он состоит в том, что шумпетерианский рост, как и прочие виды экономического роста, не стоит и не следует воспринимать как данность.
Часть II. Хроника
Глава 2. Античная эпоха
Вплоть до недавнего времени считалось общепризнанным, что античные цивилизации (греческая, эллинистическая и римская) не достигли больших успехов в технологическом плане (Finley, 1965, 1973; Hodges, 1970; Lee, 1973). Но как указывали в последние годы некоторые критики, такое суждение чрезмерно сурово (K. D. White, 1984). Во-первых, в античную эпоху был осуществлен ряд важных технологических прорывов, масштабы которых, скорее всего, недооцениваются историками вследствие скудости литературных и археологических свидетельств. Во-вторых, представление о том, что можно не только восхищаться научными знаниями как таковыми, но и применять их для решения конкретных задач, несомненно, уже существовало в те годы, получив особенно широкое распространение среди эллинистических механиков. В-третьих, как подчеркивается в работе Финли (Finley, 1973, p. 147), в определенном смысле суровое суждение об античных обществах представляет собой попытку навязать нашу собственную систему ценностей обществу, не заинтересованному в экономическом росте. «До тех пор пока имелась возможность вести приемлемый образ жизни, что бы под ним ни понималось, на первом месте стояли иные ценности». В тех сферах, которые имели для них наибольшее значение, греки и римляне добились колоссальных результатов. Чиполла (Cipolla, 1980, p. 168) к этому добавляет, что наша собственная цивилизация механистична по своей природе и потому мы в значительной степени склонны отождествлять технологии с машинами, в то время как античная цивилизация была ориентирована на другие виды технологий. Ряд важных технологических достижений античной цивилизации принадлежит к тем аспектам технологии, которые носят нефизический характер: так, деньги, алфавит, стенография и геометрия связаны скорее со сферой информационных процессов, нежели со сферой физического производства. И даже достижения в физической сфере по большей части относились к строительству и архитектуре, а не к механическим устройствам. Тем не менее наша оценка античных обществ отражает в себе инстинктивное разочарование цивилизацией, отмеченной такими триумфами в литературе, науке, математике, медицине и в области политической организации[5]. Даже в таких немеханических сферах технологии, как химия и сельское хозяйство, достижения античного мира кажутся менее значительными по сравнению с его предполагаемым потенциалом.
Технический прогресс в античном мире – особенно в римскую эпоху – обслуживал в первую очередь не частный, а общественный сектор. Римские вожди приобретали популярность и политическое влияние, осуществляя удачные общественные проекты. История Рима – и в первую очередь Римской империи – позволяет оценить значение таких людей, как Агриппа и Аполлодор, которые помогали своим покровителям (соответственно Августу и Траяну) в проведении масштабных общественных работ. Столицы цивилизованной Европы в 1800 г. не имели таких мощеных улиц, канализации, водопровода и пожарной охраны, какими мог похвастаться Рим в 1000 г. Однако за сельское хозяйство, производство и услуги отвечал главным образом частный сектор, достижения в котором были малочисленными и медленно внедрялись. Главными сферами, в которых прославились греки и римляне, являлись гражданское строительство, архитектура и гидравлика. Водопроводы для доставки свежей воды и ливневая канализация появляются в Греции уже в первые века античной эпохи[6]. Римская империя, располагавшая колоссальными ресурсами, подняла строительство в общественном секторе до недосягаемых высот, несмотря на то что в большинстве ее строительных достижений, включая дороги и акведуки, использовались существовавшие технологии. Первый римский водопровод был сооружен Аппием Клавдием в 312 г. до н. э., а к I–II вв. н. э. Рим уже имел беспрецедентно сложную систему водоснабжения[7]. Также на высоком уровне находились канализация и вывоз отходов. И в жилых домах, и в банях применялось центральное отопление. Описывая городской уклон римских технологий, Ходжес (Hodges, 1970, p. 197) приходит к выводу о том, что «римский город был более интересен масштабами их применения, нежели их прогрессивностью».
Не меньшее внимание в Риме уделялось инфраструктуре сухопутного транспорта: дороги и мосты, построенные римлянами, по праву вызывают восхищение в качестве одного из их величайших достижений. Успехи в этой сфере главным образом опирались на изобретение цемента, которое Форбс (Forbes, 1958b, p. 73) называет «единственным великим открытием, которое можно приписать римлянам»[8]. Экономическое значение римских дорог не следует преувеличивать. До позднего Средневековья дожили те из них, которые были заброшены, в то время как большинство дорог Галлии в условиях плотного движения и отсутствия ремонта пришло в негодность. Римские дороги строились в военных целях, и их использование населением для торговых перевозок носило случайный характер (Leighton, 1972, p. 48–60). Власти поздней империи накладывали строгие ограничения на вес грузов, допущенных к перевозке, и в отсутствие таких усовершенствований, как конская упряжь, подковы и телеги, экономическое значение дорог, вероятно, сводилось к транспортировке легких и ценных грузов. Римские дороги имели крутые уклоны, не создававшие особых проблем при передвижении пехоты и перемещении легких грузов, но сильно осложнявшие коммерческие перевозки[9]. При строительстве мостов и акведуков римляне использовали революционную технологию бетонных арок и опор, принимавших на себя тяжесть постройки. Некоторые из этих акведуков – например, знаменитый Пон-дю-Гар под Нимом – уцелели. Другие – такие как деревянный мост на рамных опорах, за десять дней наведенный войсками Юлия Цезаря через Рейн (в 55 г. до н. э.) – известны нам лишь по описаниям.
Кроме того, техническая изобретательность обеспечивала прогресс в таком секторе общественной сферы, как сооружение военных машин. Военная техника в целом не является предметом нашего рассмотрения, однако следует отметить, что и греческие, и римские военные технологии представляли собой одну из немногих областей успешного сотрудничества между наукой и практикой[10]. Как ни странно, римляне не внесли особых усовершенствований в греческие и эллинистические военные машины, хотя широко их применяли и делали их все более крупными и мощными.
В отношении того, что мы сегодня называем машинами, вклад античного мира, особенно эллинистической цивилизации, заключался в полном осознании значения таких механических элементов, как рычаг, клин и винт, а также различных элементов трансмиссии – храповика, шкива, шестерни и кулачка. Однако они находили применение главным образом в военных машинах и хитрых игрушках, обычно строившихся ради забавы, а не с какой-либо практической целью. Многие из этих идей были забыты на тысячелетия. Возможно, самым блестящим античным изобретателем и инженером, чьи работы дошли до нас, был Герон Александрийский, живший примерно в конце I в. (Landels, 1978, p. 201). В число устройств, приписываемых Герону, входят эолипил – практичная паровая машина, применявшаяся для открывания храмовых дверей, – торговый автомат (для продажи святой воды в храме) и диоптра – прибор, аналогичный современному теодолиту, используемому в геодезии и строительстве, и состоявший из угломерного инструмента, совмещенного с уровнем. Большинство изобретений Герона в лучшем случае предназначалось для развлечения. То же самое можно сказать о жившем в III в. до н. э. Ктесибии, которого иногда называют александрийским Эдисоном. Считается, что Ктесибий изобрел гидравлический орган, металлические пружины, водяные часы и поршневой насос.
Новый свет на технические достижения эллинизма позволяет пролить недавнее открытие знаменитого Антикитерского механизма, найденного среди груза корабля, затонувшего неподалеку от Крита. Этот механизм представляет собой чрезвычайно сложное устройство для астрономических вычислений, созданное в I в. до н. э. Дерек Прайс, осуществивший его реконструкцию, призвал историков к «полному пересмотру наших представлений о древнегреческой технике. Люди, построившие его, могли сконструировать едва ли не любое механическое устройство, какое только могло им понадобиться» (Price, 1975, p. 48). Пожалуй, это чересчур смелое утверждение. В реальности Антикитерский механизм доказывает лишь то, что эллинистические народы обладали более широкими навыками использования зубчатых колес и прикладной геометрии, чем ранее считалось возможным, и то, что их астролябии (изобретенные во II в. до н. э.) являлись механически сложными устройствами. Как демонстрирует Антикитерский механизм, античная цивилизация была в состоянии строить хитроумные астрономические приборы и умела сооружать намного более сложные зубчатые механизмы, чем прежде полагали. Тем не менее этот механизм был не более чем приспособлением, позволявшим воспроизводить движение Луны, Солнца и планет в научных и, вероятно, астрологических целях. Насколько мы можем судить, он не приносил непосредственной экономической пользы, а по мнению одного исследователя Античности, та специфическая область конструирования, которая позволила создать Антикитерский механизм, лежала в стороне от магистрального русла изобретений той эпохи и не оказала на него заметного влияния (Brumbaugh, 1966, p. 98)[11]. Судя по этому открытию античная цивилизация обладала интеллектуальным потенциалом для сооружения сложных технических устройств. Другой вопрос, почему этот потенциал столь слабо использовался в целях экономического прогресса. К теме техники в греко-римском мире мы еще вернемся в третьей части.
Одной из тех сфер, в которую эллинистическая и римская цивилизации внесли долговечный вклад, являлись водоподъемные устройства и насосы. В Античности широко использовались насосы всевозможных конструкций – для ирригации, осушения шахт, тушения пожаров и откачки воды из корабельных трюмов. Поршневые насосы, известные римлянам и применявшиеся ими, имели серьезный недостаток: их приходилось погружать в воду, что затрудняло их установку и эксплуатацию. Но такое очевидное дополнение к поршневому насосу, как всасывающий насос, было изобретено лишь в XV в. (Oleson, 1984; Landels, 1978, ch. 3). Строительство водоподъемных устройств привело к ряду достижений в механике – таких как изобретение трансмиссии (шестерни, кулачки и цепи). Однако выявляемые позитивные экстерналии, создававшиеся водоподъемными механизмами в других отраслях, немногочисленны, а некоторые важные приспособления – например, кривошип или маховик – остались неизвестны в античном мире.
Прогресс в частном секторе – включая сельское хозяйство, текстильное производство и применение энергии и материалов – за период с 500 г. до н. э. до 500 г. н. э. был весьма скромным. Новые идеи не то чтобы совершенно отсутствовали, но их распространение и применение носило спорадический и замедленный характер. С чисто экономической точки зрения наиболее важным техническим прорывом являлось открытие принципа рычага, приписываемое Архимеду. Из сочетания рычага с принципом спирали родился винт, который использовался как деталь зубчатых передач, крепежное и прижимное приспособление. Эти устройства объединяет известный древним инженерам закон о том, что малое усилие, приложенное издали, по своему воздействию равносильно большому усилию, приложенному вблизи. Винный пресс, основанный на этом принципе, впервые упомянут около 70 г. Плинием, считавшим, что его изобрели греки веком раньше. Еще одно изобретение – сложный блок – позволяло строить краны для подъема тяжелых грузов. В какой степени этими инновациями мы обязаны непосредственно Архимеду, неясно: вполне вероятно, что здесь, как и во многих других случаях, теория следовала за практикой, а не наоборот[12].
В металлургии и горнорудном деле главными достижениями являлось использование колес с черпаками и Архимедова винта. Греки разработали более передовые методы отделения руды от пустой породы, но по большому счету в этой области после 300 г. до н. э. не появилось никаких заметных новшеств. Процесс производства железа в Греции и Риме был медленным и позволял выпускать продукцию неодинакового, а следовательно, низкого качества. Из руды путем нагрева в домнице выжигали углерод, а затем, удаляя оставшиеся загрязнения, получали мягкое малоуглеродистое железо. Главной проблемой, стоявшей перед древними металлургами, была невозможность достичь температуры плавления железа. Губчатые, тестообразные чушки, выходившие у античных кузнецов, следовало подвергать ковке и новому нагреву, чтобы сделать металл более-менее пригодным для применения. Самая качественная, булатная, сталь (вуц) поступала из Индии, хотя металлурги Запада тоже умели производить сталь низкого качества (Barraclough, 1984, vol. 1, p. 19). Вероятно, кузнечные мехи были в ходу уже в IV в., но чугун оставался неизвестен, потому что кузнецы так и не научились получать достаточно высокие температуры. В этом отношении античный мир и раннее Средневековье отставали от Китая, где искусство чугунного литья появилось еще в III в. до н. э. Насколько мы можем судить, греки и римляне не достигли особого прогресса в металлургии, несмотря на широкое использование железа. Свидетельства о достижениях в этой сфере спорны и относятся главным образом к Восточной Европе и Великобритании, будучи нетипичными для средиземноморского мира, находившегося под властью Рима (Tylecote, 1976, p. 53). Максимум что можно сказать о Римской империи – то, что в ней шло распространение передовых технологий, а также, возможно, строились чуть более крупные печи и внедрялись некоторые другие мелкие усовершенствования.
Достижения в области судоходства тоже были скромными. Мореплавание имело принципиальное значение для средиземноморских экономик в античное время, когда главным источником процветания являлась торговля, то есть экономический рост смитианского типа. Возможность для этого роста создавалась специализацией и сложными сетями межрегиональной торговли, опиравшимися на колонизацию, а впоследствии – на политический контроль со стороны Рима и его юридическую систему. Античные торговые корабли несли лишь один прямой парус, в дополнение к которому иногда поднимались небольшие марсели. Миф о том, что античные корабли не могли ходить против ветра, к настоящему времени успешно разоблачен (Casson, 1971, p. 273–274; K. D. White, 1984, p. 144). Даже корабли с прямым парусом могли перемещаться навстречу ветру, хотя они были предназначены главным образом для движения по ветру и, вероятно, не могли ходить против ветра круче, чем «на один пункт», то есть под углом не более чем в 79°. Самый удобный способ маневрировать против ветра – использовать косые паруса (то есть расположенные параллельно килю). Историки в течение многих лет были убеждены, что греки и римляне не знали других парусов, кроме прямых. Однако Кэссон утверждает, что античной цивилизации было известно не менее трех разновидностей косых парусов: гафельный парус, треугольный латинский и четырехугольный латинский парус. У нас есть убедительные свидетельства существования этих парусов, но ясно также, что они не могли использоваться на крупных торговых кораблях, вследствие чего преобладающим типом оставались примитивные прямые паруса. Предполагается, что распространению косого парусного вооружения могли препятствовать нехватка подходящих деревьев для более высоких мачт, меньшая скорость кораблей с косыми парусами при движении по ветру и проблемы с переустановкой парусов при движении галсами (зигзагообразный курс, позволяющий судну идти против ветра). Считается, что управлять судном с помощью весел было трудно, хотя такой авторитет, как Кэссон (Casson, 1971, p. 224), не согласен с этим, а римляне достигли здесь некоторого прогресса, используя шарнирное устройство, несколько облегчавшее маневрирование.
Достижения в сельском хозяйстве носили главным образом местный характер. Орудия и приемы, применявшиеся в римские времена, демонстрируют большое разнообразие при адаптации примитивных приемов средиземноморского сельского хозяйства к местным условиям. Изобретения, направленные на экономию труда, были немногочисленными. Уайт (K. D. White, 1984, p. 58) заключает, что «техническое развитие римского сельского хозяйства происходило повсеместно, однако инновации оставались редкими». Мы знаем, что римляне разводили крупный рогатый скот в том числе ради удобрений, но проблема кормов для скота так и не получила удовлетворительного решения. Успехи римлян в сфере гидравлики отчасти применялись при осушении и ирригации земель, однако их вклад бледнеет на фоне грандиозных ирригационных работ, проводившихся двумя тысячелетиями ранее в Египте и Месопотамии.
Все новшества, внедрявшиеся в сельском хозяйстве, приходили из-за пределов средиземноморского региона. Галлы и другие кельтские народы совершенствовали приспособления для жатвы, и у нас есть несколько знаменитых, но сомнительных описаний примитивных жаток и молотилок. Однако нет никаких свидетельств о том, что эти устройства широко применялись или способствовали серьезному росту производительности[13]. Деревянные бочки – одно из важнейших практических изобретений того времени, – были неизвестны грекам и стали для римского мира «подарком северных народов» (Forbes, 1956b, p. 136). Около 370 г. анонимный римский автор отмечал, что «хотя варварские народы не знают, как достичь славы и влияния посредством красноречия и службы, им отнюдь не чужды познания в механике и изобретательность, позволяющие получать помощь от природы» (цит. по: De Camp, 1960, p. 272). Кроме того, кельтским ремесленникам приписывали изобретение эмали, колеса со спицами, мыла, различных сельскохозяйственных усовершенствований и передовых методов обработки железа. Как показывают археологические свидетельства, в кельтских повозках использовались пеньки из твердой древесины в промежутке между втулкой и осью, облегчавшие вращение колеса наподобие шариковых подшипников (Cunliffe, 1979, p. 118).
