Авантюрные хроники: английская «политическая машина» против России в XIX веке
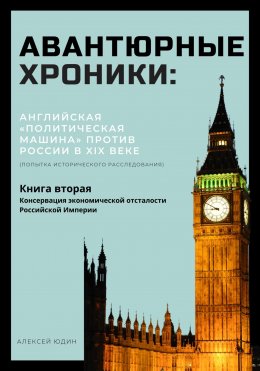
«Теперь, сосредоточившись на девяти описанных мною провалах, дозволяю себе сказать гораздо сильнее, а именно: если бы этих провалов не было, Россия владела бы, на правах полного хозяина, денежным рынком всей Европы, т. е. была бы тем, чем подобает ей быть по ее народонаселению и объему русской земли».
В.А. Кокорев – русский купец
«Экономические провалы»
И реакция, и революция есть, прежде всего, насилие, направленное против органического роста страны.
Иван Солоневич ؘ– русский философ
«Народная монархия»
«По плодам их узнаете их»
Нагорная проповедь
От автора: эпоха упущенных возможностей
История России XIX века вполне обоснованно может считаться столетием упущенных возможностей. Статус великой державы, заработанный дорогой ценой в войнах против Наполеона, вызвал эйфорию в русском обществе, породил великие надежды, но частично потерял свое величие сначала на Сенатской площади в декабре 1825 года, а затем полностью разрушился по итогам Крымской войны. Война со всей очевидностью продемонстрировала глубокую экономическую несостоятельность Российской империи, но главное – выявила отсутствие в России национально ориентированной элиты, продемонстрировала неспособность самодержавия и русского дворянства, наиболее образованного сословия, адекватно воспринимать требования эпохи и тонко подстраивать под них отечественные государственные и общественные институты.
Эта трагическая неспособность понять и осознать себя в рамках существующей системы оказалась характерна для всех русских царствований XIX века. Александр I не решился довести до конца ни одну из начатых им реформ. Николай I тридцать лет руководил империей, исходя из собственных представлений о путях России, и «незапланированное» поражение в Крымской войне стало его личным поражением и драмой его жизни. «Великие реформы» Александра II обернулись великими потрясениями и гибелью царя-реформатора от бомбы террориста. Россия, «подмороженная» и отодвинутая вспять в своем развитии в царствование Александра III, явила всему миру ярчайший пример добровольного отказа государя огромной державы считаться с реалиями. Русский царь из дома Романовых, прозванный в народе «миротворцем», завел империю в роковой тупик и не оставил выбора своему преемнику, а русская элита еще раз доказала свою парадоксальную неспособность понимать и принимать национальные интересы, отказалась выйти за рамки сословных ограничений ради достижения общественного блага, ради будущих поколений великой империи. Последнее романовское царствование оказалось логическим продолжением предыдущего, не унаследовав ни прежней силы, ни прежней воли. Трагический финал архаичной и анемичной династии оказался вполне закономерен. Беда в том, что династия потянула за собой и империю. Читатель вправе не соглашаться со столь жесткими оценками, но лучше это сделать по прочтении книги.
Вместе с тем было бы неправильно возлагать вину за крах Российской империи исключительно на династию Романовых. Велика была роль и внешнего, «британского фактора». Как отмечалось в первой книге1, в начале XIX века приоритеты внешней политики Великобритании начинали трансформироваться. Франция еще оставалась главным противником Британии на европейском театре военных действий, но постепенно приходило понимание, что Россия с ее огромным людским потенциалом, с колоссальной территорией и природными богатствами в недалеком будущем грозит радикальной перенастройкой европейского баланса сил. Нарождающаяся угроза требовала эффективных мер противодействия. На первый план среди приоритетов английской внешней политики выдвигалась задача стратегического сдерживания промышленного развития России, удержания ее на позициях «сырьевого резерва» английской промышленной мощи, а также рынка сбыта английских товаров. Забегая вперед, следует признать, что в главном задача, поставленная английским правящим классом, была решена. Когда работа над книгой близилась к завершению, поиски дополнительных уточняющих материалов дали любопытный результат – статью, написанную С. Бродбери, известным оксфордским экономистом, и историком, и Е. Корчминой, русским историком из университета Копенгагена2. Соавторам удалось подсчитать ВВП России в период между 1690 и 1880 годами. Работа была проделана огромная, о ней и использованной соавторами методике можно прочитать в статье, размещенной на сайте Елены Корчминой. Главный вывод исследования: русский ВВП в расчете на душу населения, основной показатель богатства страны и уровня производительности труда, начиная с восшествия на русский престол Екатерины II и до восьмидесятых годов XIX века загадочным образом стагнировал. В этот период он был существенно меньше одной тысячи международных долларов 1990 года, а отставание от Англии за период увеличилось с 2,5 до 4 раз. Только к 1900 году Россия сумела выйти на уровень абсолютного душевого ВВП, достигнутого во времена Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны, что хорошо видно из приведенного ниже графика.
«Все сказанное – не более чем слова, и вряд ли стоит доверять этим иностранным расчетам», – скажут многие. К сожалению, доверять можно – часть графика, относящаяся к советскому периоду достаточно точно передает тенденции развития Советского Союза, руководители и народ которого предприняли титанические усилия для того, чтобы вывести страну в число самых передовых держав мира. И это следует признать историческим приговором: все царствовавшие представители дома Романовых XIX века оказались не в состоянии соответствовать своему высокому предназначению. Это утверждение не противоречит принципу историзма. Русские императоры позапрошлого века действительно жили и действовали в условиях объективной реальности в соответствии с современными им представлениями о благе и прогрессе. Александр II даже само это слово «прогресс» запретил использовать в официальных документах и в печати, однако среди его зарубежных современников можно найти немало примеров вполне адекватных эпохе правителей, государственных и общественных деятелей.
Стоит ли удивляться, что некоторой «несовременностью хозяев земли Русской» вовсю пользовались морально нечистоплотные личности, занимавшие порой, и надо признать, довольно часто, высокие посты в русском правительстве. Они не только грабили Россию, но позволяли делать это откровенным врагам империи. Что более важно, эта связка внутренних коррупционеров и внешних врагов Российской империи превратилась в эффективный механизм торможения общественного и экономического прогресса в России. Невозможно совершенно определенно указать, какой фактор из двух – династический или внешний – оказался решающим в крахе Российской империи, но абсолютно понятно, что действие второго было бы существенным образом ограничено, будь первый чуть более ориентирован на национальные интересы. Стоит, однако, признать, что «внешний фактор» в лице Британской империи с ее матерой монархией, изощренным политическим классом, мощной экономикой и безграничными финансами, представлял собой опасного, если не смертельного, врага.
Промышленная революция в Англии конца XVIII века в силу ряда причин произошла почти на полвека раньше, чем в большинстве европейских стран, и стала мощным ускорителем экономических и социально-политических процессов в этом уникальном королевстве. В итоге Англия получила статус не просто одной из великих держав, но статус государства-гегемона со всеми вытекающими из этого факта преимуществами, привилегиями и обязанностями, главная из которых – поддерживать достигнутый статус и не допустить появления других гегемонов. Собственно, борьба Лондона за удержание обретенного статуса и есть канва европейского исторического процесса XIX века, заслоняемая бесконечной чередой событий, за которой непосредственному, а тем более отдаленному временем наблюдателю, зачастую трудно разгадать логику событий. Что уж говорить о тайных или неявных «пружинах истории». Особенно непросто становится тогда, когда активные исторические субъекты тщательно маскируют свою деятельность, намеренно искажают исторические трактовки, запутывают причинно-следственные связи в попытке вновь и вновь использовать один и тот же оправдавший себя в прошлом прием или инструмент, чтобы устранить соперников-конкурентов. Примечательно, что большинство этих соперников-конкурентов даже не отдают себя отчета в том, что опять наступают на те же грабли – историческая память и общественная рефлексия присутствуют только в высокоорганизованных государствах-нациях.
В первой книге уже было рассказано о том, что в таких случаях традиционные методы исторических исследований необходимо дополнять следственными приемами. Недаром в некоторых западных странах в высших учебных заведениях появилась специальность – историк-расследователь. К историческим событиям трудно применить традиционные методы дознания – допрос и очную ставку. Здесь больше подходит анализ больших документальных массивов, исторических исследований и мемуарной литературы, в том числе с помощью «искусственного интеллекта», поиск и выявление причинно-следственных связей на базе принципа «сui prodest?», поиск противоречий и даже откровенной лжи в трактовках одних и тех же событий различными историческими персонажами в предъявленных мемуарных описаниях, выявление признаков «фирменных приемов» в деятельности политиков, дипломатов, сотрудников специальных служб. Такое исследование-расследование должно носить системный характер, то есть сочетать глубокое погружение в исторический контекст, наполненный конкретно-историческими личностями с их мотивами и установками и дополненный возможно более объективным анализом современных ему экономических и финансовых реалий. Сложность задачи усугубляется необходимостью найти оптимальную форму сопряжения разнородных материалов, фактов, оценок и выводов, чтобы получился многослойный, но удобочитаемый текст. Именно такой подход представляется наиболее эффективным при исследовании англо-русских отношений, запутанных и часто сознательно искаженных официальной историографией, в том числе советской и российской.
Как уже было показано в первой книге, англо-русские отношения с самого начала, то есть со времен Ивана Грозного, представляли собой непрерывную цепь кризисов и коротких периодов ослабления напряжения, но всегда наполненных явной и тайной деятельностью дипломатии и специальных служб. История англо-русских отношений хранит примеры готовности британского правительства идти на крайние меры, не останавливаясь перед физическим устранением неудобных политиков и монархов, но в арсенале британских дипломатических и специальных служб есть и другие, не столь демонстративно жесткие, но не менее эффективные приемы отстаивания британских интересов в острой борьбе с противниками-конкурентами за власть и производное от нее богатство. И некогда бедная Англия, всегда стремившаяся к власти и богатству, применяла их без колебаний и сожалений. «Никто не спросит: «Чье богатство? Где взято и какой ценой?» Война, торговля и пиратство —Три вида сущности одной», – эти слова И.В. Гете очень объемно и точно характеризуют становление и расцвет британской монархии и её правящего класса.
В отношениях с Россией Британия начала XIX век с организации убийства Павла I, дерзнувшего «поднять руку» на Индию, «жемчужину в короне британской империи». Затем Александр I путем ловких интриг и продуманной игры на тщеславии русского монарха был вовлечен в войну с Наполеоном на стороне Британии. Потом Турция под влиянием Англии несколько раз воевала с Россией. Затем британская королева Виктория отвергла попытки Николая I договориться о разделе сфер влияния в Европе с тем, чтобы раз и навсегда решить Восточный вопрос. Когда русский император попытался самостоятельно захватить черноморские проливы, королева не остановилась перед применением военной силы. Русские признали поражение, но и англичане осознали пределы своих возможностей. После Крымской войны на первый план вышли методы экономической и финансовой диверсии, от которых, впрочем, англичане не отказывались никогда. Одновременно в ход было пущено и «династическое оружие». Две внучки королевы Виктории стали супругами двух русских великих князей, одному из которых предстояло стать русским императором. И здесь возникает вопрос о том, не была ли искусственно ускорена смерть здоровяка Александра III, который слышать не хотел о «гессенской мухе» и хотел видеть своей невесткой Елену Орлеанскую? И следом возникает второй вопрос, о том, что двигало королевой Викторией, когда она прикладывала непомерные усилия к тому, чтобы женить русского слабовольного цесаревича на с детства истеричной, физически слабой, страдавшей люмбаго и головными болями, лишенной малейшего чувства юмора, но чрезвычайно волевой и целеустремленной носительнице гена гемофилии? При этом Британия никогда не прерывала усилий заблаговременно, по старинному «французскому рецепту» готовить в России кадры оппозиционеров и агентуру влияния, чтобы поставить это отсталое, но строптивое государство под полный контроль Британской империи. Настоящая книга представляет собой попытку ответить на эти и многие другие вопросы, которые с неизбежностью возникают в процессе погружения в историю крайне непростых отношений между Британской и Российской империями, а также показать, если не удастся доказать, что предъявленные жесткие оценки представителей условно русской династии Романовых имеют под собой некоторые, в общем достаточно серьезные, основания.
Однако прежде чем приступить к этим попыткам следует хотя бы в самом общем виде разобраться в том, насколько опасного противника Россия встретила в XIX веке в лице Британской империи. Первая часть настоящей книги, посвященная этим вопросам, получилась довольно объемная, хотя тема, несомненно, заслуживает гораздо более подробного исследования3. Автору показалось важным проанализировать процессы, происходившие в Британии в течение XVIII века, которые завершились формированием предельно эффективного государственного аппарата, встроенного в сложнейшую систему британских общественных отношений и институтов, породивших самую передовую экономику и непревзойденную военно-морскую мощь Британской империи XIX века. Именно этот сложноустроенный механизм государственной власти Британии сокрушил Францию, вывел Соединенное Королевство на позиции государства-гегемона и начал смертельную схватку с Российской империей.
Часть первая: Начало британской имперской истории
Империей Англия стала в 1707 году, объединившись с Шотландией, очень бедной и малонаселенной страной, жители которой с завистью наблюдали за тем, как богатеет их южная соседка на колониальной торговле. Следует, однако, отметить, что богатство англичан создавалось не только торговлей. Значительный вклад вносили сельское хозяйство, промышленность и строительство, а также банки и страховые компании. Примечательно, что за XVIII век валовый внутренний продукт Британии вырос в 5,2 раза, с 68,8 до 358,0 миллионов фунтов в текущих ценах. Рост этот происходил далеко не равномерно. ВВП страны стагнировал всю первую половину века на уровне не выше 100 миллионов фунтов. Причин негативной динамики британского ВВП можно привести много, но главная, как представляется, состояла в том, что в стране просто не хватало инвестиционных ресурсов. Положение начало меняться по мере расширения колониальных завоеваний Британии, из которых потекли товарные и финансовые потоки, и с 1750-х годов ВВП начал стремительно расти4. По этому показателю Великобритания еще уступала своему основному конкуренту Франции, на долю которой приходилось 5,5 мирового ВВП или 38,4 миллионов долларов5. Британская доля была скромнее – 5,2 мирового ВВП или 36,2 миллиона долларов, но по уровню производительности труда англичане оставили французов далеко позади: 3,62 доллара на душу населения против 1,38 доллара соответственно. По уровню технического развития Англия превзошла всех конкурентов, ее флот был самым мощным в мире, но вести длительные войны на суше ей было сложно. По численности населения она уступала Франции, своему главному противнику, более чем в три раза: 9,5 миллионов англичан против почти 30 миллионов французов.
Обычно при сопоставлении промышленного потенциала Британии и Франции указывают на то, что доля мануфактурного производства в ВВП обеих стран примерно одинакова – около трети. При этом упускают из виду важное обстоятельство. К началу XIX века Британия располагала достаточно развитым машинным производством, использующим в качестве приводов станочного оборудования паровые машины. Франция только начинала экспериментировать с силой пара, а большинство французской промышленной продукции, главным образом предметов роскоши, производились ремесленными мастерскими. Кроме того, Британия в течение всего XVIII столетия была единственной страной в мире, ВВП которой формировали не только сельское хозяйство и промышленность, но и услуги. Причем на протяжении всего века соотношение составляющих ВВП Британии практически не менялось: 31,3 процента – сельское хозяйство, 32,7 процента – промышленность и строительство, 36 процентов – услуги6. При этом в каждом хозяйственном сегменте произошли глубокие изменения, которые превратили Британскую империю в самое развитое и могущественное государство мира.
Сельское хозяйство в Англии XVIII века
В течение ста с лишним лет в английском сельском хозяйстве произошла настоящая революция. Рост спроса на шерсть и продовольствие при ограниченных земельных ресурсах вынуждал неуклонно повышать производительность труда в аграрном секторе. Мелкие йоменские хозяйства в отсутствие доступного кредита разорялись, йомены продавали землю крупным землевладельцам, становились батраками, либо уходили в город на заработки. Во второй половине XVIII века значительно ускорились темпы огораживания. С 1760 по 1780 годы парламент принял более тысячи биллей об огораживаниях. Завершению этого процесса содействовало принятие в 1800 году английским парламентом билля о всеобщем огораживании. В итоге к концу века свободные крестьяне в английской деревне практически исчезли, а на покинутых землях образовались большие хозяйства. Крупные и средние землевладельцы как правило сдавали в аренду приобретенные правдами и неправдами земли состоятельным фермерам, на которых работали немногие оставшиеся на селе батраки. К концу XVIII века в результате насильственной экспроприации английское крестьянство почти исчезло как класс.
Производительность труда в сельском хозяйстве неуклонно росла. Землевладельцы и фермеры были вынуждены искать способы интенсификации работ, отказались от деления земель на мелкие участки, стали применять новые методы обработки пашни, многие помещики занимались выведением новых сортов растений и продуктивных пород скота. В XVIII веке начался переход от устаревшего трехполья к улучшенному плодопеременному севообороту7, травосеянию, широко использовались дренажные системы, искусственно повышалось качество почвы путем известкования. Существенным образом был усовершенствован плуг, получивший единую кованную режущую плоскость. Это позволило резко сократить тяговое усилие и использовать вместо быков пару лошадей. Появились новые типы сеялок, молотилок, веялок, соломорезок и других орудий, облегчавших фермерский труд. Быстро росло животноводство, особенно овцеводство: промышленность требовала все больше шерсти. Товарность и доходность фермерских хозяйств непрерывно увеличивались, рос спрос со стороны крупных фермеров и лендлордов на сельскохозяйственные орудия и другие товары, что способствовало расширению внутреннего рынка, вызывало потребность в налаживании массового производства необходимых изделий, в снижении их себестоимости, повышении доступности.
Промышленность
Требования села вполне отвечали интересам британского предпринимательского сообщества, которое при поддержке со стороны двора, правительства и парламента во все большей мере ощущало свою общественную полезность и политическую силу. Со времени «славной революции» 1688 года, когда ливрейные компании Сити8 возвели на английский трон Вильгельма Оранского9, развитие мануфактурного производства заметно ускорилось, а во второй половине XVIII века Британия первой из всех европейских государств вступила в эпоху промышленной революции. Британские инженеры создали работоспособную паровую машину, которая позволила строить промышленные предприятия в любой местности, где имелось достаточное количество рабочих рук. Широко использовались паровые машины в горном деле, резко выросла добыча каменного угля, который научились применять при выплавке чугуна и стали. Повышение качества чугуна и стали дало возможность заменить деревянные ткацкие станки и прядильные машины металлическими, повысить их надежность и производительность. Именно тогда в Британии возникла совершенно новая отрасль – машиностроение. Прежний лидер английской промышленности – сукноделие – стал уступать производству хлопчатобумажных тканей из колониального хлопка.
Технические новшества позволили за вторую половину XVIII века наладить массовое, серийное производство самых разнообразных английских товаров, которые в силу их массовости оказались значительно дешевле товаров конкурентов, производимых ремесленниками и примитивными европейскими мануфактурами. Всю эту массу товаров, даже с учетом их дешевизны внутренний рынок поглотить не мог, Англия остро нуждалась в рынках сбыта – альтернативной были кризисы перепроизводства. Много в этом направлении английскому правительству уже удалось добиться: Великобритания владела обширными колониями на территории современной Канады, в Вест Индии, в Австралии и Новой Зеландии, многочисленными островами в Тихом, Индийском и Атлантическом океанах. Британцы практически вытеснили Францию из Индии, прибавив к своим владениям Бенгалию, Бихар и Ориссу. Неисчислимые богатства текли в метрополию из всех частей света, способствуя новым успехам в промышленности и торговле, а также производя в обществе важные перемены. Именно тогда были заложены основы того особого стиля и образа жизни англичан, которые позднее войдут в историю как «викторианская эпоха», «викторианский стиль»10. Даже потерю колоний в Северной Америке в результате Войны за независимость (1775–1783) английские стратеги попытались превратить в приобретение (на месте 13 бывших английских колоний возникли Североамериканские Соединенные Штаты с населением в 5,3 миллиона человек), испытав на американцах влияние либеральных концепций фритредерства. Большим спросом английские товары пользовались в Европе, где шли бесконечные войны, постоянно требовались пушки, порох, ружья, а также другие качественные изделия английских фабрик.
Финансовая система Британии
На фоне успехов английского сельского хозяйства и промышленности английская финансовая система выглядела откровенно слабым звеном. Более того, английское правительство своими не совсем законными манипуляциями с государственным долгом в первые десятилетия XVIII века едва не сорвало промышленную революцию.
Основными источниками государственных доходов оставались три вида налогов: пошлины на импортные товары, акцизные сборы, земельный налог. На протяжении XVII века королевские доходы были относительно небольшими с точки зрения нагрузки на основных плательщиков и колебались около 4–5 процентов ВВП. С приходом к власти Вильгельма III в 1688 году налоги были повышены до 6–7 процентов ВВП и продержались на этом уровне вплоть до прихода к власти правительства Пита-младшего в 1784 году. С этого года налоги стали плавно, но неуклонно расти достигнув к концу века в среднем 9–10 процентов ВВП. В абсолютном выражении доходы короны выросли с 4,2 миллиона фунтов в 1700 году до 31,6 миллиона фунтов в 1800 году, а за столетие суммарно составили 973,1 миллиона фунтов. Расходы английской казны росли гораздо более высокими темпами: с 3,3 до 51,0 миллиона фунтов стерлингов за столетие, достигая временами, главным образом во время войн, пятой части ВВП. Совокупные расходы казны за столетие составили 1313,7 миллионов фунтов. Таким образом, за XVIII век было истрачено на 340,6 миллионов фунтов больше полученных доходов. Не следует принимать эту цифру за сумму государственного долга Великобритании. На начало 1800 года официальный долг британского правительства составлял 445,6 миллиона фунтов. Разница в 105 миллионов фунтов, по всей видимости, объясняется накопленными процентными платежами, которые легли огромной нагрузкой на бюджет Великобритании. Всего за XVIII столетие британскому правительству пришлось выплатить в виде процентных платежей 455,4 миллиона фунтов11, несколько больше суммы основного долга12. Кажется невероятным, что британское правительство было в состоянии нести такую нагрузку при в целом сравнительно слабой налоговой системе и не объявить себя банкротом. Следует напомнить, что проблема государственного долга носила отнюдь не академический характер – в 1707 году в результате государственного банкротства Шотландии пришлось согласиться на объединение с Англией.
В начале 1690-х годов Англия тоже находилась на грани банкротства. Только что завершилась кровопролитная гражданская война и тут же началась почти пятидесятилетняя война с Францией. В 1690 году английский флот потерпел сокрушительное поражение от французов в битве при мысе Бичи Хэд. Казна была пуста, восстанавливать флот было не на что. Банкирские и ювелирные дома, обычные кредитора короля, не испытывая доверия к королевским обещаниям, в 1790 году предоставили заем под 30 процентов годовых. В 1793 году ставка по новому займу была снижена до 14 процентов годовых, но все равно оставалась гораздо выше 3 процентов, к которым Вильгельм III привык в свою бытность штатгальтером Голландии. В том же году под руководством Чарльза Монтегю, первого графа Галифакса, была создана парламентская комиссия, которой было поручено выработать меры по кардинальному решению финансовой проблемы. Монтегю вспомнил, что за три года до того момента в казначейство обращался шотландец Уильям Патерсон, один из купцов ливрейной Компании торговцев продовольствием, с предложением создать особый банк для финансирования расходов казны. Предложение Патерсона было не оригинальным, это была 38 попытка ливрейных компаний лондонского Сити взять на себя финансовые операции правительства. На этот раз сделка состоялась.
В начале 1694 года парламент принял закон о создании Банка Англии13, а в июле того же года Банку была дарована королевская хартия, которой были определены функции и полномочия банка. Банк Англии был создан как акционерная компания, акционеры которой отвечали по ее долгам только в пределах своего участия в капитале. По закону Таннеджа аналогичные права не могли быть предоставлены ни одной другой компании или банковскому учреждению. Это правило строго соблюдалось почти сто пятьдесят лет. На первых порах новое банковское учреждение расположилось в Мессерс Холе, в самом центре Сити, в здании ливрейной Компании торговцев тканями. Первым управляющим Банка Англии был избран Джон Ублон (или Юблон). Выбор был отнюдь не случайным. Ублон, выходец из семьи французских гугенотов, бежавших в Англию от религиозных преследований, занимал пост мастера ливрейной Компании торговцев продовольствием, много раз избирался шерифом, олдерменом, лорд-мером лондонского Сити, а также входил в руководство Ост-Индской компании.
Всего за 12 дней 1268 частных лиц, включая короля, многих придворных и членов парламента, ставших пайщиками нового банка, внесли в кассу банка 720 тысяч фунтов золотой и серебряной монетой. Положение о частичном обеспечении банкнотной эмиссии драгоценными металлами было заложено в королевской хартии Банка Англии и, по сути, узаконило практику банкирских и ювелирных домов, существовавшую до того на протяжении столетий. В качестве первого займа Банк передал в королевское казначейство 1 200 тысяч фунтов в виде банкнот и векселей Банка, которые стали законным платежным средством на территории королевства. Ни один другой банкирский дом по закону Таннеджа правом выпускать банкноты обладать не мог14. Заем был предоставлен под 8 процентов годовых, а также ежегодную комиссию в 4000 фунтов за обслуживание займа. В качестве обеспечения по займу Банку были переданы правительственные облигации, а также право собирать таможенные платежи. С этого времени заемщиком по государственному долгу выступало правительство, а не король. Кроме того Банк Англии с момента основания получил право совершать операции с драгоценными металлами – золотом и серебром – осуществлять выпуск и учет векселей, предоставлять ссуды под обеспечение, а также принимать вклады. Банку запрещалось кредитовать королевскую семью без санкции английского парламента.
На первых порах операции Банка Англии носили ограниченный характер, и конкуренты в лице банкирских и ювелирных домов воспряли духом. В 1697 году парламенту пришлось принять закон, по которому подделка банкнот, эмитированных этим финансовым учреждением, каралась смертной казнью. Этим же законом правительство предоставило Банку монопольное право на ведение всех расчетов правительства, что способствовало росту престижа Банка и стало его конкурентным преимуществом. Кроме того запрещалось учреждение новых крупных банков и компаний с числом учредителей более шести человек. В 1708 году было запрещено выпускать векселя на предъявителя – это мог делать только Банк Англии. Вне закона оказалась деятельность по предоставлению краткосрочных (до шести месяцев) займов. И тем не менее финансовое положение Банка Англии долгое время оставалось неустойчивым. В 1709 году хартия банка была пересмотрена и ему было предоставлено право на увеличение капитала. Банк Англии сразу же выпустил новых банкнот на сумму 760 000 фунтов стерлингов, которые пошли на оплату долгов. Это вызвало скачок инфляции, и за два года Банк оказался совершенно неплатежеспособным, что вновь дало определенные преимущества частным ювелирам15.
Тем не менее статус Банка Англии как кредитора правительства выделял его среди других банковских учреждений. Кроме того, сам факт создания Банка ознаменовал начало особых отношений между правительством и Сити, этим независимым административно-территориальным образованием в центре Лондона, представляющим интересы ливрейных компаний. Английские короли и королевы с елизаветинских времен традиционно защищали интересы английского купечества и банкиров, и порой в английской внешней политике было трудно провести разграничительную линию между интересами государства и бизнеса. Отличие новых отношений между властью и Сити состояло в том, что отныне этот крупный европейский финансовый и деловой центр приобретал функции неформального инструмента английской внутренней и внешней политики. До сих пор Лорд-мэр Лондона до 100 дней в году проводит в зарубежных поездках, посещая не менее 22 стран и произнося не менее 800 речей.
С середины XVIII века финансовая система Великобритании стала усложняться. В дополнение к традиционным банкирским и ювелирным домам стали появляться частные акционерные банки, которые позволяли быстрее и эффективнее аккумулировать денежные средства различных слоев населения, чего требовал начавшийся бурный рост промышленности. К началу XIX века таких банков насчитывалось до четырех сотен. Большое распространение получили вексельные операции. Вексель служил универсальным средством привлечения денежной наличности, инструментом кредитования и платежа, в том числе по международным сделкам (переводные векселя и тратты). Капиталы акционерных банков росли по мере развития промышленности, расширения внутренней и внешней торговли. Этому способствовала и неспокойная обстановка в Европе. Из-за непрекращающихся европейских войн торговые и банковские капиталы перетекали на более безопасные британские острова. Еще больше этот переток усилился после революции во Франции в 1789 году. В Англию и особенно в Шотландию потекло золото французской аристократии, напуганной революционными ужасами. Тем не менее важнейшим источником поступления золота в банковскую систему Англии оставалась деятельность английских торговых компаний в колониях. По подсчетам известного американского историка Б. Адамса, одна только «Ост-индская компания», получившая в 1766 году право собирать налоги в Бенгалии и Бихаре, вывезла оттуда средств на сумму в 1 миллиард фунтов стерлингов16. Все эти капиталы размещались в частных банках, способствуя развитию английской промышленности и торговли, но никак не помогали сокращению государственного долга. Проблема государственного долга стала постоянной заботой английского правительства, и следует сказать, средства, которые использовались для ослабления ее остроты, временами были отнюдь не тривиальными.
Изложенное выше дает общее представление о том, какие преобразования происходили в экономической жизни Британии на протяжении XVIII столетия, но не менее масштабные сдвиги происходили в обществе и государственном устройстве.
Начало важных преобразований в обществе и государстве
Начало важнейших преобразований в английском общественном и государственном устройстве британские историки достаточно единодушно связывают с правлением Вильгельма III Оранского. Как известно, недовольные королем Яковом II вожди тори и вигов пригласили голландского штатгальтера Виллема ван Оранье-Нассау, мужа наследницы английского престола Марии, возглавить вместе с ней английский королевский дом. Всходя на престол в 1889 году, Вильгельм и Мария ратифицировали Билль о правах и тем самым согласились с тем, что король ни под каким предлогом не должен посягать на основополагающие законы королевства, а парламент будет вотировать любые государственные и коронные расходы. Срок полномочий парламентариям был ограничен тремя годами, а исполнительная власть вручалась кабинету, составленному из представителей партии большинства в парламенте. Король лишь формально возглавлял исполнительную власть.
В стране сложилась своеобразная двухпартийная система. При Вильгельме III виги и тори определились в своих симпатиях: партию тори стали поддерживать преимущественно крупные и средние землевладельцы, в том числе сторонники бывшего короля-католика; вокруг вигов объединились старые аристократические семьи, купечество и финансисты, заработавшие огромные капиталы в колониях и стремившиеся к политической власти. На самом деле деление на партии было весьма условным. Как таковых партий в масштабах всей страны не существовало, не было никакой партийной дисциплины, голосование в парламенте чаще всего происходило под влиянием тех или иных депутатских групп и отдельных депутатов, обладавших даром красноречия и называвших себя сторонниками тори либо вигов. При этом следует учитывать, что представители английской земельной аристократии заполняли палату лордов и палату общин, составляли костяк государственного аппарата, руководства армии и флота, формировали систему образования и местного самоуправления, контролировали прессу и издательскую деятельность, по сути в равной мере определяли политику тори и вигов. Сельские джентльмены фактически управляли нацией. Судья Маккин из городка Брексфилд в августе 1793 года в ходе одного из процессов сказал буквально следующее: «Правительство любой страны должно представлять собой нечто вроде корпорации; и в этой стране оно составлено из представителей земельного капитала, которые только одни и имеют право на представительство. Что же касается всякого сброда, у которого нет за душой ничего, кроме личного имущества, то почему же нация должна рассчитывать на него? … Эти люди в состоянии унести весь свой скарб на своих спинах и покинуть страну в мгновение ока. Но земельная собственность не может никуда подеваться»17. Было бы, однако, неверно, забывать про влияние лондонского Сити, этого представителя интересов торгово-промышленно-финансового капитала Британии, который к концу XVIII столетия сам стал крупным земельным собственником и важной частью британских аристократических семей. Все перемешалось и превратилось в удивительный конгломерат, ставший элитой Британской империи, элитой жестокой, беспощадной, высокоэффективной в отстаивании имперских и собственных интересов.
Поэтому было совершенно безразлично, какая партия представляла большинство в парламенте и управляла империй. На протяжении XVIII века виги чаще находились у власти, они стали верной опорой нового монарха-протестанта, но католическая оппозиция не сложила оружия. В 1789 году католики вынудили короля подписать Акт о веротерпимости, по которому они получили право открыто исповедовать свою веру, хотя гражданские права их были ограничены. Волнения католиков, нервозность и напряжение в обществе, истерзанном десятилетиями усобиц18 конца XVII века, вынуждали вигов предпринять экстраординарные шаги, чтобы внести успокоение в умы. Следовало не просто воссоздать единство нации, но выработать новую, особую, своего рода патерналистскую модель взаимоотношений между различными слоями общества, когда низшие классы согласились бы добровольно принять власть высших. Бесконечные войны в Европе и на заморских территориях требовали небывалого единства нации. Забегая вперед, следует признать, что английскому правящему классу удалось успешно решить поставленную задачу. Решение было нетривиальным и вызвало огромный интерес в Европе, где пытались разгадать происхождение источников силы английской внутренней и внешней политики, пытались понять английские институты и устройство английской общественной системы, позволившие сбалансировать роли и влияние короля, парламента, суда, партий, общественного мнения и его выразителей – массовых периодических изданий.
Проект успокоения нации по Локку
В Европе, особенно во Франции, обратили внимание на философские труды Джона Локка19, прежде всего на два его трактата о правлении (1690). Локк отвергал идею неограниченной монархии, ее божественное происхождение, как данную свыше для обуздания животной природы человека, не способного самостоятельно контролировать свои страсти и самоорганизоваться в сообщество, не основанное исключительно на праве сильного, на праве порабощения человека человеком. По Локку, в первоначальном естественном состоянии все люди были свободны и равны. Но эта свобода и равенство были во многом формальными. Люди по природе не способны уживаться друг с другом, не нарушая при этом естественные права, которые, как считал Локк, предоставленные каждому из живущих законом природы. У всех людей есть право на жизнь и право быть свободными в той степени, пока эти права не нарушают свободу и естественные права других20. Однако, без организованного элемента принуждения люди, по словам Локка, вынуждены собственноручно защищать свои собственные естественные права от других людей. И для того, чтобы более эффективно защищать права всех людей, они, как утверждал Локк, объединились и заключили между собой общественный договор. Этот договор обеспечивал их естественные права путём учреждения такого государства, которое принимает законы для их защиты и следит за выполнением этих законов. Государство должно функционировать для достижения той единственной цели, ради которой оно изначально и было создано, а именно для защиты жизни, свободы и собственности.
Согласие людей, как утверждал Локк, является той единственной основой, на которую опирается власть государства: «Если кто-нибудь из тех, кто находится у власти, превышает данную ему по закону власть и использует силу, находящуюся в его распоряжении, для таких действий по отношению к подданным, которые не допускаются законом, то ему можно сопротивляться, как и всякому другому человеку, который силой посягает на права другого». Если государство или правитель нарушает права отдельных граждан, то люди имеют право организовать восстание и избавиться от такого правительства или государства. Когда же законодатели пытаются отнять и уничтожить собственность народа или вернуть его в рабство деспотической власти, то они ставят себя в состояние войны с народом, который вследствие этого освобождается от обязанности любой дальнейшей им покорности.
Трудно было рассчитывать на то, что народ будет массово изучать ученые труды Локка и воспримет его революционные идеи должным образом, но произошло невероятное: буржуа и крестьяне, забыв, что они родились свободными и равными, легко приняли власть земельной аристократии. Трактаты Локка сработали. Еще при жизни Локка они выдержали три издания, и незадолго до смерти он подготовил четвертый вариант. Первое издание оказалось ужасного качества и с большим количеством опечаток. Второе – было еще хуже и было отпечатано на плохой бумаге, вероятно, как издание для бедных. Третье издание получилось лучше, но Локку пришлось собственноручно вносить в него исправления. Кроме того, Локк сам в предисловии указал на то, что часть оригинального текста – окончание первой книги и начало второй – безвозвратно исчезла при печати. Первая книга обрывалась на половине предложения. Примечательно, что Локк, готовя четвертое издание, даже не попытался восстановить утраченные тексты21. Объяснить подобную небрежность и в то же время популярность трактатов о власти и управлении непросто. Можно предположить, что Локк считал случившиеся изъятия из текста несущественными, ибо имел возможность разъяснить читателям суть своих сочинений и восполнить утраченные отрывки. Подобное предположение требует пояснений в силу некоторой неестественности, нелогичности: мог ли Локк один разъяснить смысл своих трактатов массе народа, да еще убедительно доказать всему обществу, что власть уже не находится в состоянии войны с народом, что Славная революция решила почти все проблемы и для Англии и англичан наступает эра небывалого процветания. Внедрить эту мысль в массовое сознание, поднять его до уровня глубокого личного убеждения каждого – задача крайне сложная, требующая времени и скоординированных, целенаправленных усилий огромного коллектива единомышленников. Английские клубы, традиционные коллективные инструменты обкатки и распространения полезных английской аристократии идей, еще не настолько распространились, а кроме того не подходили для решения подобной задачи в силу их кастовости и закрытости. В гораздо большей мере подходили на роль «коллективного пропагандиста» масонские ложи, издавна существовавшие в Англии. Во второй половине XVII века они в очередной раз изменили свою суть и приобрели несколько научный, философский характер, но сохранили свою бессословную и наднациональную организацию.
Масонские ложи в Англии
Значительный толчок формированию интернационального союза европейских интеллектуалов обеспечили Реформация и Тридцатилетняя война (1618–1648). Первое из названных событий способствовало легальному объединению противников католической церкви, второе – их перемещению и сосредоточению в наиболее безопасных для распространения инакомыслия странах континента, в том числе в Англии. Среди многочисленных эмигрантов оказался цвет западноевропейских интеллектуалов, последователей передовых идей Просвещения. Под влиянием их трудов, публичных выступлений и дебатов в Лондонских дискуссионных обществах англичане были подготовлены к восприятию новых идей и более демократичных и светских форм организации взаимодействия сословий. Первоначально масонское движение в Англии было не очень многочисленным, но оно имело свои особенности и преимущества. Главным его преимуществом стало наличие лидеров, которые сумели реорганизовать движение на новых принципах, а также сблизить его с руководителями ливрейных компаний лондонского Сити с их многочисленными членами и работниками.
Сближение масонства и ливрейных компаний существенно расширило масштабы движения, но сохранило его просветительский дух. Как указывает историк С.Е. Киясов22, еще автор «Новой Атлантиды», знаменитый философ и политик, Фрэнсис Бэкон (1561–1626) выступал за то, чтобы в масонских структурах люди науки занимали бы исключительное положение. Практическое осуществление этой мысли привело к созданию в Оксфорде родоначальником научного аналитического метода Робертом Бойлем (1625–1691) так называемого «невидимого колледжа». Впоследствии этот союз ученых, действовавший в течение 1648–1659 годов, был преобразован в Королевское общество. В 1690-х годах Королевское общество поддержало деятельность астронома, математика и главного королевского архитектора, а заодно мастера ложи «Изначальных», сэра Кристофера Рена, который стремился вдохнуть новую энергию в масонство за счет «окончательного сближения интеллектуалов и масонских структур». Но к тому времени расстановка сил внутри движения уже изменилась, представители ливрейных компаний постепенно оттирали родоначальников движения на вторые роли. Судя по всему, именно благодаря ливрейным компаниям главная задача того этапа формулировалась несколько иначе. Братья из ливрейных компаний стремились донести до всех сословий понимание радикального изменения природы английской монархии после Славной революции. В духе идей Локка, используя масонские институты, они убеждали общество в том, что Славная революция стала выражением воли всей английской нации, что она ограничила власть короля силой закона, а власть правительства – ответственностью перед парламентом. Каждый англичанин получил основания гордиться принадлежностью к самому совершенному и справедливому государству, где нет места произволу и где властвует закон. По сути, была создана «идеальная конструкция», в которой монарх или правительство практически не могли нарушить общественный договор и тем подорвать стабильность общества. Локк мог не волноваться по поводу неполноты отпечатанных трактатов: братья-единомышленники были в состоянии восполнить образовавшиеся пробелы.
Эффект предпринятых усилий был поразительный еще и с той точки зрения, что в Англии масонские ложи стали своего рода «вертикальным лифтом», открывшим на время путь в британскую элиту для талантов из всех слоев общества, и прежде всего для буржуа, городских предпринимателей и промышленников. Сама структура общества оставалась неизменной, но возникало ощущение небывалой свободы и либерализма, столь необходимые для развития новой модели общественного устройства, основанного на власти капитала. Цель – примирение нации – становилась вполне достижимой и даже в чем-то достигнутой. Оставалась, однако, нерешенной проблема Шотландии, постоянно бунтующей горной страны, постоянно грозящей смутой и выступавшей за возврат в Англию претендента-католика. На помощь снова пришел Уильям Патерсон.
Немного о Патерсоне
Уильям Патерсон родился в 1658 году на ферме Скипмайр в Шотландии в семье Джона и Элизабет Патерсон. Уильям получил традиционное для своего времени образование. Он изучал грамматику, арифметику, латынь, родители планировали, что сын станет служителем пресвитерианской церкви.
В 17 лет Патерсон эмигрировал в Англию, где обосновался в Бристоле, крупном портовом городе. Местные купцы, внешне мало отличавшиеся от каперов, ходили к берегам Африки и к островам Вест-Индии, торговали черными рабами, какао, патокой, тростниковым сахаром. Благодаря им город процветал, так что идея отправиться в Вест-Индию пришла в голову молодому Патерсону вполне естественным образом. Около 1681 года он оказался на Багамах и занялся торговлей в партнерстве с торговой компании Merchant Taylors’ Company. За восемь лет работы он, как утверждают, скопил приличное состояние. По одной из версий компания занималась выгодным бизнесом – поставляла рабов из Африки в Вест Индию – и при случае грабила испанские транспорты.
В своих странствиях Патерсон познакомился с Лайонелом Вафером23, корабельным хирургом из Уэллса. Вафер был не простым хирургом, он плавал на пиратских кораблях, в одной из переделок был ранен и был вынужден сойти на берег. Произошло это около 1680 года на перешейке Дарьен в Панаме, практически на том месте, откуда много позже начали строить Панамский канал. Вафер провел в Панаме около года и не терял времени даром. Он оказался по натуре исследователем и собрал богатую информацию о географии и истории перешейка, изучил жизнь, язык и обычаи местных индейцев и пришел к выводу, что местные земли представляют богатые возможности для создания кратчайшего сухопутного торгового маршрута между Атлантикой и Тихим океаном. Своей идеей он, судя по всему, поделился с Патерсоном, когда их пути пересеклись.
В середине 1680-х Патерсон начал продвигать проект, который он называл «Дарьен». Он предлагал основать в Панаме постоянную английскую колонию и свободный порт, откуда было бы удобно торговать в акваториях сразу и Атлантики, и Тихого океана. Он особо выделял местное преимущество самого короткого пути между двумя океанами, что позволяло радикально сократить транспортные расходы, создавало уникальные возможности для английского купечества поставить под контроль англичан стратегически важный перешеек. Он был убежден в том, что будущее процветание Англии будет неразрывно связано с торговым путем через Панаму.
Английское правительство не разделило энтузиазм Патерсона. Правительству было не до того. Англия воевала с Францией, а война требовала больших расходов. Кроме того, в Лондоне не хотели раздражать Испанию, которая претендовала на территории в районе Панамского перешейка. Создание английской колонии в Панаме означало неизбежный конфликт с Испанией. Новая война была бы явно преждевременной. Встретив отказ, Патерсон отправился на континент. Он предлагал проект Священной Римской Империи, потом Нидерландам, но нигде не встретил понимания.
Вернувшись в Лондон в 1688 году он включился в реализацию проекта Hampstead Water Company, которая занималась строительством водоводов для снабжения водой английской столицы. Как утверждают, ему удалось заработать и на этом проекте, но главное, как представляется, ему удалось установить важные деловые контакты с ливрейными компаниями и руководством лондонского Сити, которые оказались, как уже было показано, весьма полезны при реализации проекта Банка Англии. Правда Патерсону через год пришлось оставить свой пост в Банке. Как утверждают, его финансовые и торговые идеи, которыми он буквально фонтанировал, казались его коллегам «несколько авантюрными», хотя определенные сомнения относительно истинных причин ухода Патерсона из банка остаются. По крайней мере частным обывателем Патерсон не стал.
Дарьенская катастрофа
Патерсон вплотную занялся проектом «Дарьен». Он перебрался в Эдинбург, где ему удалось, наконец, убедить депутатов шотландского парламента в перспективности своего проекта. Главным аргументом в пользу идеи Патерсона выступила чрезвычайная бедность населения Шотландии, где все с нескрываемой завистью наблюдали за тем, как Англия богатеет на заморской торговле. Бытовало утверждение: «Торговля увеличивает продажи, деньги делают деньги, и мир торговли больше не желает работать своими руками, но имеет потребность в рабочих руках». В 1695 году в шотландском парламенте обсуждался проект «Акта о торговой компании в Африке, Ост-Индии и Вест-Индии» для поддержания международной торговли. Он не вызвал особых возражений и в том же году был утвержден. В соответствии с Актом парламент утвердил устав компании, которая получила непростое название – Компания шотландской торговли с Африкой и Индиями (Company of Scotland trading to Africa and the Indies). Советником компании стал старый знакомый Патерсона Лайонел Вафер.
Желание шотландцев поправить свое материальное положение было столь велико, что практически без задержек в том же году парламент утвердил устав Банка Шотландии, главная задача которого заключалась в финансовой поддержке шотландского бизнеса, и прежде всего проекта «Дарьен». Банк Шотландии сразу приступил к привлечению свободных денежных средств жителей. Несколько неблагоразумно, якобы в целях ограничения конкуренции со стороны английской Ост-Индской компании шотландский парламент законодательно запретил англичанам держать деньги в Банке Шотландии. В ответ англичане вывели все капиталы из Шотландии, что, естественно, не могло не сказаться на финансовом положении страны, но не уменьшило энтузиазма шотландцев. По приблизительным подсчетам, от четверти до половины всего национального богатства страны было инвестировано в мечту под названием «Дарьен». Успех проекта обещал сделать очень бедную Шотландию одной из самых богатых стран мира.
Первые корабли с колонистами покинули Эдинбург в июле 1698 года. В числе 1200 пассажиров был и Патерсон с женой и ребенком. В ноябре того же года они прибыли к месту назначения и приступили к возведению первых построек. Как оказалось, Вафер не все рассказал о трудностях, которые поджидали переселенцев, в частности, о враждебности местных индейцев, о местных болотах и тропических болезнях. Патерсон быстро потерял семью, люди сотнями умирали от голода, лихорадки и стычек с испанцами, которые считали территорию шотландского поселения частью своей колонии Новая Гранада. Спустя год несчастий и лишений остатки выживших покинули колонию и в декабре 1699 года вернулись обратно в Эдинбург. Корабли Патерсона разминулись с кораблями новой партии переселенцев, которые по прибытии в Панаму засвидетельствовали следы несчастий, постигших первую группу. Судьба новой партии оказалась не лучше. Проект потерпел полный крах. Разорился не только Патерсон, разорилась вся Шотландия, не было семьи, которая не вложила в «Дарьен» последние деньги.
Удивительно, но шотландцы ни в чем не винили Патерсона. Более того, по возвращении в Шотландию он был избран в парламент королевства и продолжал заниматься финансовыми проектами. В 1701 году он предложил правительству Шотландии использовать модель амортизационного фонда (Sinking Fund) для погашения национального долга. Идея такого фонда, несмотря на его низкую эффективность в сокращении государственного долга и возможность использования его исключительно в мирное время, впоследствии неоднократно применялась в Англии. Тогда в Шотландии предложение не прошло.
Одновременно Патерсон начал разъяснять шотландцам бесперспективность борьбы за независимость от Англии. В обеих странах находились сторонники и противники объединения. В Шотландии за объединение выступало главным образом купечество, рассчитывавшее на большой английский рынок, а также на возможность присоединиться к торговле с английскими колониями. В Англии надеялись положить конец попыткам превратить Шотландию в прибежище якобитов и инструмент постоянных манипуляций со стороны Франции. Противниками объединения в Шотландии выступали главным образом якобиты, то есть сторонники короля Якова, а также пресвитериане, опасавшиеся козней со стороны господствующей англиканской церкви. Все сомнения противников объединения с Англией отпали после «Дарьенской катастрофы», хотя дискуссии продолжались еще около 5 лет. В этих дискуссиях тайное и явное участие принимали агенты английского правительства, которые вели пропагандистскую и разъяснительную работу во всех слоях населения. Одним из таких агентов стал Даниэль Дефо, автор знаменитого «Робинзона Крузо».
Дефо и разведка
В то время уже известный журналист, сатирик и автор многочисленных политических памфлетов Дефо за свои оппозиционные выступления оказался в лондонской тюрьме. И там ему пришла спасительная мысль. Он написал и представил в правительство проект создания особой службы, которой было бы поручено вести разведку, заниматься контрразведкой, а заодно выполнять разного рода тайные акции, плести интриги, выражаясь современным языком, совершать идеологические диверсии, и не только идеологические. Удивительно, но предложение заключенного памфлетиста английское правительство приняло. Так началась история одного из первых прототипов Интеллидженс Сервис, которой предстояло сыграть важную роль в продвижении и защите британских интересов. По аналогии с Ост-Индской компанией новая спецслужба создавалась как частная контора. Вместе с тем, несмотря на частный характер деятельность конторы оплачивалась из казначейства, цели формулировались кабинетом, но государство не отвечало за ее действия, и никто из ее сотрудников не имел права ссылаться на приказы короля или министров. Дефо возглавил спецслужбу и с головой ушел в ее деятельность. Оказалось он был создан для этой работы. Он разъезжал по Англии, Шотландии и сопредельным странам, переодевался, выдавал себя то за купца, то за священника, то за нищего, сам беседовал с людьми, сам вербовал осведомителей, сам расплачивался с ними.
«У меня есть верные люди во всяком круге, – писал он курировавшему его работу министру. – И вообще с каждым я говорю на подобающем языке. С купцами советуюсь, не завести ли мне здесь торговлю, как строятся тут корабли и т. п. От юриста мне нужен совет по части приобретения крупной недвижимости и земельного участка. Сегодня вхож я в сношения с одним членом парламента по части стекольной промышленности, а завтра с другим говорю о добыче соли. С бунтовщиками из �
