100 великих загадок российских городов
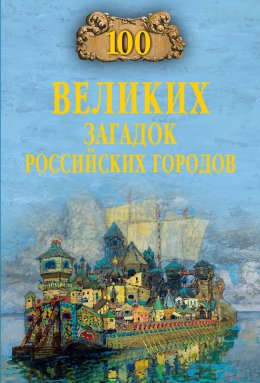
Памяти недавно ушедшего от нас писателя-фантаста Леонида Ивановича Моргуна посвящается эта книга
С 1998 года издательство «Вече» выпускает книги серии «100 великих» – уникальные энциклопедии жизни знаменитых людей и выдающихся творений человеческого гения, самых удивительных явлений и загадок природы, величайших событий истории и культуры.
Более 250 томов сгруппированы в коллекции серии «100 великих»
© Ерёмин В.Н., 2024
© ООО «Издательство «Вече», 2024
От автора
В России 1117 поселений в статусе города. Много это или мало? Не знаю. В США около 30 тыс. городов, во Франции – почти 35 тыс., а в Италии их более 8 тыс. Зато в гигантской Индии всего 87 городов, в том же Китае с 1,5 млрд населением их 687.
Самый большой город России – Москва, с населением более 13 млн человек. Наши самые маленькие города – периодически меняющиеся местами Верхоянск (768 человек) и Чекалин (935 человек).
У каждого российского города свое лицо, свое обаяние, своя история (независимо от того, большой он или маленький) и, конечно же, свои тайны. Как правило, под городскими тайнами люди подразумевают мистику – привидения, мрачные подземелья, душераздирающие события. Я предпочел рассказать о тайнах исторических, лишь в двух-трех рассказах коснулся мистических невидалей или темы инопланетян, чуть больше рассказал о религиозных и природных феноменах. И все же главными в рассказах остаются люди. Человек – носитель тайны, а большинство тайн – рукотворны.
Невозможно не сказать о важнейшей отличительной черте российских городов – мы многонациональная страна. Потому я особое внимание уделил столицам автономий. Получилась воистину яркая, пестрая, удивительная, самобытная мозаика нашего народа. Странно звучит, но такова наша с вами современность.
Ну и самая нежная и самая завлекательная русская провинция. Ее города, несравнимые числом населения с мегаполисами, несут в себе очаровательно заповедные, порой неожиданные и почти волшебные тайны и секреты. Узнаешь об их существовании и попадаешь то ли в сказку, то ли в философскую заповедную страну русского старчества.
Приятного вам прочтения книги.
Города-легенды
Китеж
Впервые я узнал эту легенду в детстве, когда родители повели меня смотреть сказочную оперу Н.А. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». С того времени град Китеж существовал в моём представлении в неразрывной связке с образом прекрасной девы, хищными грабителями-татарами, безумным пьяницей-изменщиком и прочими стандартными персонажами мелодрамы.
Со временем прочитал я легенду о граде Китеже в нескольких пересказах. Но подлинное осознание значения этой староверческой мечты пришло ко мне благодаря двум замечательным юношеским и воистину советским духовным писателям – Станиславу Тимофеевичу Романовскому и Александру Степановичу Старостину. Оба порознь утверждали, что подобно тому, как каждый правоверный мусульманин в течение жизни обязан совершить хадж в Мекку, так каждый русский любой национальности должен хотя бы раз в жизни побывать на берегу озера Светлояр. Только там, где, согласно преданию, по сей день стоит невидимый оку обычного человека град Китеж, можно проникнуться духом жизнестойкости нашего народа в любых, даже самых невыносимых и невообразимых обстоятельствах.
