Хроники казармы номер 7. Начало смены
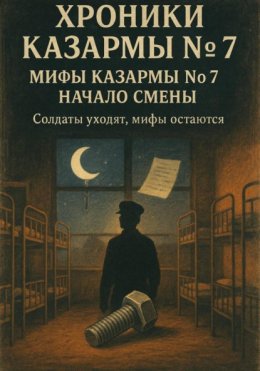
Рассказ 1. Домовой роты
Сначала пропадали носки. Потом – куски сахара из тумбочек. Затем бесследно исчез табачный приварок, бережно собранный тремя солдатами для самокрутки. Рота замерла в недоумении, которое быстро сменилось суеверным страхом.
– Черти, – мрачно заключил рядовой Егоров, переворачивая вещмешок на койку. – Материться надо меньше. Завелись.
Ефрейтор Сидоров только фыркнул, как фыркает человек, у которого служба тянется третий год – не потому что так положено, а потому что жизнь упорная, как сапог, и отстёгиваться не любит.
– «Духи»… Это у вас дома – духи. А тут техника. Техника у нас живая. Это Кузьмич балуется.
Имя «Кузьмич» в роте произносили без смешков. Будто бы рядом присутствовал. Легенда гласила: был когда-то сержант Кузьмич – образцовый, как лист строевого устава, строгий и добрый. Влюбился до беспамятства в повариху тётю Люду. А тётя Люда вышла замуж за лётчика и упорхнула. Кузьмич не пережил, но роту не покинул. Остался при ней домовым. Следит, чтоб по уставу, чтоб носки к паре, чтоб сахар – не в запас, а по совести.
Я тогда был свежий «дух», рядовой Артём. Привыкал ко всему: к храпу, к ночным подъёмам, к железному вкусу жести на губах после кружки чая, к тому, что шутка может спасти от разрыва сердца. И ещё – к Сидорову. Ефрейтор был как старший брат, только непьющий и вечно занятый. У него на всё имелась формула, как у старого ключа от всех дверей.
– Он не вредит, – говорил Сидоров про Кузьмича, заварив чифир пожёстче. – Он проверяет. Нервы щупает. Его задобрить надо. Домовые – они от живота работают. Дашь сала – и порядок.
Сала в роте было ровно на три с половиной бутерброда в месяц на лицо, так что мысль про «задобрить» сперва казалась оскорбительной. Но когда у Егоровa пропали обе портянки сразу (до этого исчезали по одной), вопрос стал принципиальным.
Ночью, в полнолуние – Сидоров наставил, что полнолуние помогает «по тонким каналам связи» – мы, пятеро наиболее суеверных, крались по казарме на цыпочках. Я нёс ломоть чёрного хлеба и аккуратно отломленный кусок солёного сала. Егоров – новую блестящую звёздочку от погона: «мзда». Петя «Омлет», худой москвич с глазами уставшего зайца, тащил маленькую баночку с мёдом – «чтоб жизнь сладче была». У центральной тумбочки всё сложили, как на иконе: сало сверху, хлеб – подложкой, звёздочку – как орден, мёд – по центру. Постоили, как дураки, минуту, слушая, как капает где-то в умывальнике.
– Слава Кузьмичу, – выдохнул Егоров, и мы чесанули по койкам.
Утром угощение исчезло, будто провалилось. А на месте звёздочки лежал пропавший неделю назад мой носок – чистый, аккуратно свернутый «валиком», как на показ.
Я молча сунул его в тумбочку. Радоваться нельзя: сглазишь. Но в душе разлилось тепло, как от котельной, когда открывают люк и из нутра идёт пар – влажный, надёжный.
С тех пор в роте установился ритуал. Раз в месяц, в ночь круглолицей луны, на тумбочке появлялось угощение. Порой сало, порой варенье, иногда даже полсгущёнки – если с караула кто-то принесёт «гуманитарку». И странное дело: носки перестали пропадать. Самовар на кухне стал закипать быстрее – я точно слышал, как он, довольный, клокочет, будто хрюкает. А однажды тень от противогаза на стене отдала мне честь – аккуратно, по уставу. Я не пьющий, всё видел.
Сложно сказать, когда я впервые услышал, как Кузьмич разговаривает. Не голосом – шумом. Он не разговаривал как человек – он шуршал, поскрипывал, переставлял воздушные токи. В роте зимой всё звенит: нары, пружины, железные затворы, двери, тазы. Но в ту ночь звук был особенный – как будто кто-то невидимый переставляет табурет на один гвоздь ближе, чтобы присесть.
Я лежал, глядя в потолок, и думал о доме. Отец писал редко, и каждое письмо было как учение: «Сынок, хватит киснуть. Мужчина держит линию». Он любил военную лексику, хотя сам был не военный – электрик, строгий, молчаливый. В темноте казарма напоминала гараж: пахло соляркой и мокрой тканью, где-то тикала сушилка для портянок. И тут – тонненький металлический «дзынь», как от прикосновения ложечкой к гранёному стакану.
– Тихо ты, – шепнул Егоров в соседней койке. – Засыпай.
Но меня уже «переключило» на тревожный канал. Я нащупал под подушкой свой тайный календарик, начерченный ручкой прямо на стельке берца: там было ещё больше восьмидесяти квадратов до дембеля – целое поле в «морском бою». Закрыл глаза – и услышал, как у дальней тумбы кто-то дышит. Не человек – тише, ровно. Как в котельной, когда горит ровным огнём.
– Кузьмич, – сказал я в ухо тишине, – ты не обижайся, если сало сегодня было с краешка. Больше не было. И варенье – яблочное, но хорошее. Егоров маме написал, пришлёт литровую. Сладкое будет.
Тишина в ответ уткнулась мне в ухо, как кошка. Но я точно знаю: он слышал.
Беда пришла через неделю. Как всегда, повседневно. Днём привезли из штаба комиссию – проверка, два майора, капитан и неизвестный мужчина гражданский, с глазами как у мастера по холодильникам: вечно недовольными. Всё припёрли и перевернули. У нас в казарме обнаружили «излишки сахара». Три куска, завернутых в газету «Красная Звезда», где в кроссворде было обведено слово «судьба».
– Чьё? – орал капитан, гордо раскачивая подбородок. – Или будем писать на всю роту?
Молчали. И правильно делали. Потому что если скажешь «на всю роту», то «на всю роту» и напишут.
Сидоров выступил вперёд, как старшина в театре.
– Моё, – сказал он спокойно. – Чаю люблю сладкий. Кофе нет, а чай – да.
– Шесть суток гауптвахты, – обрадовался капитан. – И за складом присмотрим. Ромашку попьёшь.
Шесть суток для Сидорова – как оторвать пассатижами зуб и сказать «терпи, человек, ты же мужчина». Мне стало стыдно: сахар-то общий, на ритуал шёл. Но как скажешь про ритуал капитану? Он же как холодильник: у него душа за дверцей, на полке под «молочкой».
Вечером рота хмурилась и молчала. И только где-то под дальней койкой тихонько, едва слышно похрюкивало – как закипающий чайник. Кузьмич, похоже, нервничал.
– Домовых надо просить, – сказал Егоров. – Раз мы за него держимся, пусть он за нас.
– Попросишь ты, – буркнул Петя «Омлет». – У него отпуска не бывает. И дедовщина своя. Домовая.
Но я уже знал: просить – не стыдно. Стыдно – не делиться, когда есть чем. Я снял с полки банку тушёнки, ту самую, что приберёг «на чёрный день», и, не оглядываясь, как вор, положил на ритуальную тумбочку. Рядом – ломоть хлеба, зубчик чеснока, курительную бумагу. И записку: «Кузьмич, выручай. За Сидорова обидно. Он наш».
Ночью я долго не мог уснуть. В голове всё рифмовалось: «гауптвахта – шахта – пахта». Мозг у солдата так устроен: чтобы не сойти с ума, он превращает жизнь в рифмы и распорядок в считалки.
Проснулся от того, что пахло жареным луком. Казарма спала. А на тумбочке тушёнки не было. Вместо неё лежал болт – тяжёлый, ржавый, с шестиугольной головкой. На головке кто-то аккуратно процарапал гвоздиком четыре буквы: «ДЕРЖ».
– Держ? – прошептал я. – Держать?
Наутро из штаба пришла бумага: «Сидорова освободить от гауптвахты в связи с…» – и дальше какие-то канцелярские завитки. Капитан смущённо читал, как будто на верхней строке кто-то нарисовал ему усы. Оказалось, «гражданский мастер» – из той самой комиссии – увидел на складе протекающий бак, признал нарушение хранения и распорядился «списать недостачу как технологические потери». Сидорова – «за недоказанностью».
Мы переглянулись. Я достал из тумбочки болт, положил его Сидорову в ладонь. Тот улыбнулся, как улыбаются люди, пережившие неприятности и вернувшиеся – не злые, а чуть мудрее.
– Держаться, – сказал он. – Команда главная.
С тех пор болт лежал на ритуальной тумбочке, как тяжелый оберег. Никто не трогал. Даже капитан, заходя, обходил его взглядом, будто у болта звание – «почётный ветеран».
Домовые, говорят, любят порядок. Наш Кузьмич любил дисциплину особенную, тёплую. Он не терпел «лишних движений»: если кто-то нервно ходил ночью туда-сюда, то обязательно спотыкался о ровно выдвинутую табуретку. Если кто-то плевался семечками на пол, к утру возле его койки обнаруживалась идеально выглаженная тряпка и записка на клочке газеты: «НЕЛЬЗЯ». Почерк был смешной – как у первоклассника: все буквы печатные, рубленные.
А однажды он… погладил. Реально. Я вечером вывесил свою «гимнастёрку» набросом – как висит полотенце в раздевалке. Утром – стрелки по брюкам такие, будто их выдавил станок. И воняет одежда чуть-чуть… тёплым железом. Как у утюга советского, который пахнет негарью и временем. Я гладил рукав ладонью и думал: «Слушай, Кузьмич, ну ты даёшь…»
Сидоров лишь кивнул:
– Значит, принял. Это как в деревне: если домовой принял, мышей не будет. Если не принял, держись.
И тут – случился Егоров.
Егоров был парень не злой, но язык у него – как гвоздь без шляпки: куда ни ткни, обязательно порвёт. Он терпеть не мог суеверий. Считал, что всё можно объяснить. На третьем месяце службы у него вдруг «проснулась справедливость»: мол, кто-то из «стариков» точно ворует у «духов», приписывая всё домовым. И пошёл в наступление. В ту ночь он подкараулил ритуал, выждал до отбоя, а потом, как гусь, полез на стол, снял с тумбочки баночку с вареньем – «чтоб проверить», – и спрятал у себя под подушкой.
– Психология, – сказал он мне, когда мы курили у умывальника. – Вы сами создаёте себе богов, чтоб нянчились с вами. А я – нет.
– Не играй, – попросил я. – Не игрушки.
– Да ладно, – махнул он. – Смотри и учись.
В ту ночь случилось странное. Сначала – тишина. Потом с потолка посыпалась штукатурка – совсем чуть, как соль из солонки. Затем что-то звякнуло в вентиляции. Сорок мужиков во сне синхронно перевернулись на другой бок – жалко было смотреть: так ноги поднимает от холода человек, которому приснилось, что он играет в футбол. Егоров храпел, словно заглушенный аккумулятор. И вдруг – пахнуло… мёдом. Не тем, из банки, а диким, медовым воздухом – прямо как на пасеке, если открыть дверцу улья. Дух сладости стал густым, тягучим, как кисель. И одновременно – запахло железом и пылью, как в каптерке за шкафом.
