Среди людей
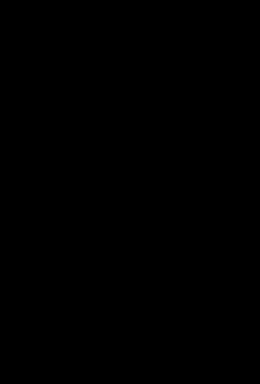
Знак информационной продукции (Федеральный закон № 436–ФЗ от 29.12.2010 г.)
Редактор: Анастасия Шевченко
Издатель: Павел Подкосов
Главный редактор: Татьяна Соловьёва
Руководитель проекта: Ирина Серёгина
Арт-директор: Юрий Буга
Корректоры: Елена Барановская, Ольга Смирнова
Верстка: Андрей Фоминов
Дизайн обложки: Денис Изотов
© И. Ханипаев, 2026
© ООО «Альпина нон-фикшн», 2026
Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.
Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
ОТ АВТОРА
Я сел писать эту книгу, чтобы разобраться, кто, как и почему делает больно людям, которых любит. И почему именно слова – самое опасное оружие в этом деле.
Подозреваю, что более талантливый автор обошелся бы рассказом на пять страниц. А я делаю то, что могу, с тем, что у меня есть.
Как и герои этой истории.
- Я иду на битву с драконом.
- Я обязан его победить.
- Мне не надо его престола.
- Лишь бы голову с плеч отрубить.
ЭПИЗОД 1
ΛΟΓΟΣ | СЛОВО
Смотрю в телефон. Усмехаюсь.
Когда мы покидали Кинешму, инспектор по делам несовершеннолетних Алексей Корчин, лейтенант МВД, написал мне:
– Имей в виду, мы будем за тобой приглядывать. Будь на связи. И лучше тебе залечь на дно.
Когда мы заезжали в этот город, приставленный ко мне госпсихолог из Кинешмы Александра Пална написала:
– Не волнуйся. Я буду за тобой приглядывать. И буду с тобой на связи.
Спустя месяц ни он, ни она не на связи. Вначале мне казалось, что это хорошая новость. Теперь мне так не кажется.
Чуть выше своего предостережения в мессенджере инспектор выслал мне поочередно с десяток аккаунтов ребят, которые в теории мне могли не нравиться и к которым, вполне возможно, у меня имелись недобрые мысли.
Рядом с ватсапом в смартфоне имеется госприложение, тоже мессенджер – для особых детей под присмотром психологов. В чате этого приложения мы иногда переписывались с Александрой Палной, когда было совсем худо и не по времени. И в том чате до обнадеживающего сообщения она отправила мне с десяток картинок с разными необычными оттенками. Она просила выстроить какие-то эмоциональные ассоциации с каждой.
Из десятка хулиганов инспектора я отметил только Бондаря как того, кто мне не очень нравился. И, возможно, потому произошло то, что произошло.
Из десятка картинок психолога я отметил серый цвет как тот, что мне не нравится, потому что не может определиться с тем, на какой он стороне – на светлой или темной.
Инспектор пугал, психолог поддерживала. В одном они сошлись: им было нужно, чтобы я шел на контакт. Ему, чтобы я начал говорить все как есть. Ей, чтобы я начал разговаривать, хотя бы как получается.
Но мне нечего сказать. Все мои усилия уходят на то, чтобы хотя бы думать структурированно. Чтобы думать как человек. Чтобы быть как человек. Чтобы жить среди…
Мама дотрагивается до моего бедра, и я снимаю наушники.
– Даня, передай мне воду, – говорит она и указывает мне на бутылку, лежащую в кармане моей двери. Передаю ей «Святой источник». Мы тормозим на перекрестке. Деревянный крестик, висящий на зеркале, подскакивает, и мама его поправляет.
– …Дорогу к свету отыщет каждый ищущий. Ищущий этот свет! Кто-то из вас спросит, как понять, как же понять…
Мы замечаем с десяток кавказских мужиков, идущих по дороге. Они говорят на русском, но с разными акцентами. Смеются.
– Много их тут. Кавказцев, – говорит мама.
– Нефтевышки. Везде, – объясняю я, хотя она и так это знает.
– Как будто вернулась в молодость. В Пятигорск, – улыбается она. – Необычно.
Кончики ее плохо накрашенных ногтей стучат по рулю, наигрывая незнакомую мне мелодию.
– Доверьтесь сердцу, способному отделить правду… – с надрывом продолжает диктор.
Я собираюсь надеть наушник, но она внезапно останавливает меня вопросом:
– Что слушаешь?
– Песню.
Она отключает радио «Призыв души и сердца». Это хорошо. Но плохо, потому что мне придется говорить.
– Я понимаю, что это песня, – усмехается она осторожно, с едва уловимой тревогой. – А что за?..
– «К небесам».
– Классное название! А кто поет? – максимально неестественно спрашивает она.
«Еще бы», – думаю я. Идеальное название под ее нынешнее состояние. Хорошо, что не «Райские яблоки» Басты.
– Я не… – собираюсь отмазаться, но сразу сдаюсь. Заглядываю в телефон. – Паша Прурок.
– Пру́рок?
– Да, наверное.
Предпринимаю еще одну попытку надеть наушники, но слышу еще один вопрос.
– А о чем она?
Не сразу отвечаю на ее вопрос, пытаясь по взгляду понять, зачем она затеяла этот не нужный никому разговор. Это же просто музыка в моих наушниках. Что тут обсуждать? У всех в наушниках музыка.
Улицу переходит бомж, с усилием проталкивая вперед груженную барахлом тележку. Остановившись, он предъявляет что-то водителю, притормозившему на половине «зебры». Обменявшись оскорблениями, завершает конфликт, демонстрируя средний палец.
Мы трогаемся. Крестик подпрыгивает. Мама его поправляет, нежно, аккуратно, будто успокаивает.
– Прости… – продолжает она, нервно улыбаясь. – Просто ты все время в этих больших… – она показывает свободной рукой воображаемый наушник на своем ухе, – и постоянно слушаешь что-то. Я не против, просто я хочу… Может, и мне понравится?
– Не понравится. Она без смысла. – Хочется добавить «точь-в-точь как и твое радио». – Это русский рэп. Лирика.
На лице мамы разочарование. Не из-за моего вкуса, а из-за моих укусов. Из-за ответов. Еще у нее грусть, боль… Мама – старый, никому не нужный, запыленный, но все еще рабочий телевизор из моего детства. А я – маленький, неприятно щиплющий током проводок, к которому часто приходится прикасаться, но изолировать нельзя. И все это в целом моя попытка упорядочить то, что происходит в моей голове.
Забавно, что я научился это делать: придавать сложному простую, корявую, но понятную метафору еще до того, как мне это предложила Александра Пална, и это очень облегчило мою жизнь. Мама – быстро иссыхающее дерево, а я птичка, которая все еще не приняла, что должна искать себе новый дом.
Мама плавно давит на газ.
– Я прочитала на одном сайте, что один из способов, – она рисует мост, дотрагиваясь до своей груди, а затем до моей, – ну, понять тебя, – послушать твой плейлист. Ты просто постоянно там, внутри, и это твой мир, я понимаю, просто… – продолжает она тараторить с дрожью в голосе, пока я не перебиваю ее:
– Она про свободу, – говорю я, умолчав о том, что сейчас не самое лучшее время меня понимать, затевать ненужные притворные беседы, да и мосты тоже сейчас можно уже не строить. У нас обоих есть более важные проблемы. – И про время тоже там поется.
– Это такие, знаешь, понятия. Большие. Ты можешь объяснить? Помнишь, Александра Пална просила тебя больше идти на контакт. Больше рассказывать. Ты в них хорошо разбираешься. В колледже кому-то может показаться это тоже интересным, и ты расскажешь им. И у тебя будут новые друзья… главное не просто говорить, а создавать…
– Смысловую цепь, – говорю я. – Помню.
«Просто», – говорит она. А я создаю смысловую цепь своим молчанием. Тишина – тоже звук.
– Да. Давай попробуем? Ты просто объясни мне, о чем песня. Как репетиция перед… Без, знаешь, без напряга. Как… как есть. Как будто ты перед ребятами.
Я прокручиваю в голове куплет:
- Что ты видишь, ну же, скажи.
- Это время куда-то бежит.
- Стать большим ты уже не спешишь,
- Но назад, увы, нету пути.
– Песня про время. Про то, что оно течет и в какой-то момент ты уже взрослый и жалеешь, что не можешь прокрутить время назад, – строю я ту самую смысловую цепь.
– В ней много смысла, – удивляется мама и даже кивает. Возможно, притворяясь. Скорее всего, притворяясь. Один из мотивирующих секретиков от Александры Палны: «Подбадривайте его, хвалите при любом удобном случае, берите за руку, смотрите в глаза» и прочая фигня.
– Ну, есть так… – отвечаю я как-то скомканно. Лучше ей не знать, что там есть еще про маму, про то, что автор извиняется перед ней за то, что влюблялся в кого попало. А еще она про боль и про смерть, и об этом маме тоже лучше не знать, потому что песня из позитивно возвышенной перейдет в статус жизнеНЕутверждающей. Все, что не про жизнь, сейчас – это красная линия. Она попросит не слушать такое и всякое другое, похожее на это, и вообще остальное тоже лучше не слушать, иначе мы откатимся назад. От желтых к черным капсулам. Из «пока все норм» или «все не очень хорошо» во «все плохо», а еще к терапевтам, к дерьмовым документальным фильмам о том, как много жизни в этой жизни,
- которую надо жить, а не проживать.
- Иначе прожует и выбросит.
- Так молод и красив был.
- Ах! Жаль-жаль-жаль…
– Приехали, – говорит мама и смотрит на здание колледжа. Беру с заднего сиденья рюкзак. Она спрашивает игриво:
– Какой сегодня день в колледже?
– Шестой, – отвечаю я.
– На шестой день Бог создал человека. Знаешь? – Она подмигивает, будто у нас с ней есть общий секрет, но у нас мало общего. Есть секреты. Но не общие: самопосебешные.
– Я все еще не понял, зачем ты это делаешь. Эти библейские отсылки. Завтра уже все, дни закончатся. Я проверил. Потом Бог отдыхал вроде.
– Почил. Да. Прости, я больше не буду считать. Просто это важное время. Заканчивается твоя первая неделя. Слава Богу, ты вроде хорошо справляешься. Я так боялась…
Я просто киваю. Киваю, потому что не знаю, что сказать. Потому что не знаю, что в такие моменты говорят нормальные люди. И говорят ли. По-моему, ритмичное, как будто понимающее, кивание – прекрасная реакция для таких случаев. Когда ругает препод, когда мама объясняет таинства мироздания, когда на похоронах рассказывают, каким хорошим человеком был ушедший.
– Мне надо ему что-то передать? – спрашиваю я, и она сразу понимает, о ком идет речь. Мама в целом меня хорошо понимает, но был один день, самый важный день, когда она не поняла. И случилось то, что случилось. Но если бы поняла, то не было бы ни мозгоправов, ни полиции. И вопросов, на которые я не смог правильно ответить про фотографии тех, кто мне не нравится, и про карточки с оттенками.
Александра Пална попросила не винить маму. Что все мы люди и иногда можем не замечать самого важного.
Мама рисует на лице улыбку, как у Моны Лизы. Поправляет крестик, другой крестик – золотой, висящий на цепочке на шее. Зачем-то продолжает носить эту штуку. Хотя винит его во всем. Надеюсь, что винит. Должна винить. Любой нормальный человек в такой ситуации винил бы только его и подарки, даже если это последнее, что от него осталось, не носил бы.
– Ничего. Нет. Ничего не надо. Если спросит, скажи, что все хорошо, и все. Если не спросит – ничего. Просто привет, и все. Или нет. Если захочешь – передай.
– Я передам.
Я собираюсь надеть капюшон и открываю дверь.
– Прошу тебя, не надевай капюшон.
Помимо прочтения гребаной брошюрки о том, как надо с «такими, как я», мама просмотрела и кучу роликов на ютубе, но до сих пор не поняла принцип личного пространства. По крайней мере, если судить по брошюрке, предполагается, что у меня свой мир, с которым надо быть бережным и не лезть туда каждые пять минут с советами, как выжить во внешнем мире. Тем более когда сама…
– Дождь, – киваю на обстреливаемое каплями лобовое стекло.
– Прости. Да. Ты просто надеваешь его и закрываешься от мира. Так сказала Александра Пална. Но сейчас дождь, так что да – сейчас можно. Прости.
Я смотрю на стекло. Стекающая капля на трещине от камушка меняет направление, и, если приглядеться под правильным углом, молния бьет по башке стоящего у входа охранника дядю Кешу. Он, как обычно, ругает парней за опоздания и клеится к девочкам.
– Дорогой, а мне тебя забрать?
– Нет, я сам.
– Мне не трудно, я могу…
– Я сам, – перебиваю я. Иногда легче ее перебить. Мама легко перебивается. Ее всегда перебивают. И он перебивал. И толстуха на кассе. И дед из соседней квартиры. И в больнице медсестры. Начал и я.
Выхожу из машины.
– Даня, баночки? – спрашивает она из-за спины и улыбается так, как не улыбаются, когда честно хотят улыбнуться. Как не улыбаются, когда говорят про гребаные капсулы.
– Взял, – показываю желтую баночку, ту, что «пока все норм», и трясу ею. Она всегда в правом нижнем кармане куртки.
– А розовенькие?
– Взял, – стучу по левому верхнему карману. – Все взял.
- Я опять пытаюсь уйти.
- Полные пыльные полки попыток.
- Прыти не хватит грести.
– Кто-то ведь должен ношу нести! – объявляет проповедник на вновь включенном радио.
Мама сигналит мне на прощание, как мамы из американских фильмов о неудачниках. Я не в американском фильме, но, судя по общим признакам, неудачник. Она что-то говорит, но я не слышу, на мне наушники, в которых Паша Прурок завершает свою, как оказалось, не такую уж бессмысленную мысль:
- Мамочка, ты забудь все обиды,
- Что по глупости я натворил.
- Молодой, потянуло магнитом
- К тем, кто меня так не любил[1].
Машина трогается, и мама поправляет крестик.
Я надеваю капюшон.
И не передам отцу привет.
Вхожу через ворота на территорию колледжа. В шестой раз. День сотворения человека, получается.
Напоминаю себе, что пришел, чтобы учиться. Пытаюсь привить это напоминание как привычку. Все ходят сюда учиться. Все учатся, потому что надо учиться. Учиться, чтобы быть рядом со всеми. Быть частью всех. Быть как все. Быть всем. Быть ничем среди всех и всехнего сплошного ничего. Александра Пална сказала, что полезно напоминать о целях, чтобы поддерживать свою мотивацию.
Я прохожу по небольшой студенческой площади. Судя по направлению каменной руки, Ленин скорее косплеит Гэндальфа, предлагая мне, глупцу, бежать в обратную сторону.
Слышу со стороны дороги сигнал и звук торможения. Черная затемненная «камри» останавливается у ворот, игнорируя вопли охранника Кеши. Задняя дверь открывается, оттуда вылезает кавказский парнишка, что-то говорит охраннику, и тот скорее в шутку пытается поймать хулигана. Обойдя меня, хулиган входит в здание. Я за ним.
Там, внутри, на втором этаже меня ждет дверь в аудиторию. Когда я войду, все будут смотреть на меня. Будут думать о том, что это тот новенький, ну который молчит, который тормоз.
Благо тут вновь работает решение от Александры Палны.
«Когда сложно, назови эту вещь и скажи, что ты собрался с ней делать».
Во время нашего последнего сеанса, прощаясь, она сказала:
– То, что происходит с тобой, в твоей голове, – это нагромождение всей информации. То, что у людей лежит на отдельных полках, у тебя лежит на одной огромной. И чтобы это все удержать, ты тратишь слишком много энергии. Тебе нужно оптимизировать пространство.
Короче, по ее словам, в моей голове бардак и вместо того, чтобы его разгребать, я выбираю временное решение: бегаю как сумасшедший со скотчем вокруг него и укрепляю там, где все вот-вот порвется. Проблем все больше, и скотча тоже нужно больше.
Вместо того чтобы действовать, я слишком много думаю.
Поэтому мы тренировали осознанность. То есть давали названия объектам интереса, будто фиксировали их в моем сознании каким-нибудь понятным образом.
Первый месяц я считал это чушью, но в какой-то момент оно сработало. Без понятия, что происходит в голове, когда я даю название вещи. Я и до этих слов знал, что дверь – это дверь и что она нужна только для того, чтобы ее открывать и закрывать. Но когда произношу это, все вдруг обретает смысл. Туман рассеивается. Грохот затихает. Земля возвращается под ноги. И дверь действительно становится дверью, которую я должен открыть. Только объект и действие над ним.
Я собираюсь своими ногами подойти ко входу. Собираюсь взять ручку и писать, собираюсь взять телефон и позвонить. Собираюсь собрать себя и жить эту жизнь.
Пална попросила, чтобы я произносил это каждое утро, но в масштабах жизни эта обманка пока не работает. И жить эту жизнь… сложно.
Уже пару минут стою у первой ступеньки на второй этаж и, как дебил, пытаюсь объяснить ногам, что надо идти. Гребаные лестницы. На всякий случай берусь за перила и начинаю восхождение. Шаг за шагом. Надо войти в кабинет до звонка, иначе опоздаю и все будут смотреть, как я черепашу за дальнюю парту.
- Мне такого не надо.
- Не хочу быть в центре парада.
- Как бы построить ограду.
- Ловлю девушку взглядом.
Ее зовут Карина. Моя одногруппница. Она высокая, в отличие от меня. И красивая. Слишком. Для меня, для колледжа и для этого города. Она не подходит этому месту. Ей бы в Париж или хотя бы Питер. С этим чувством стиля в одежде, с бесконечным желанием жить. Еще она умнее меня и, видимо, всех в нашей группе. У нее красивая улыбка, которой она встречает всех знакомых. Меня тоже она встретила в первый день, но улыбка была другой, не похожей на остальные. Не из американских фильмов. Улыбка была какой-то понимающей. Будто «не парься, я знаю, что с тобой происходит. Я такая же». Но она не такая, по крайней мере на людях она идеальная студентка, идеальный друг, наверное, идеальная дочь. В тот день она устроила мне краткую экскурсию по колледжу. Я молчал, она улыбалась и говорила. Больше мы не разговаривали. Теперь она просто улыбается мне, как будто у нас есть какой-то секрет. И хоть секрета, как и с мамой, у нас с ней нет, но, когда я смотрю в ее глаза, кажется, что есть. Хочется, чтоб был.
Карина долго смотрит в фойе на стенд «Герои специальной военной операции». Подносит два пальца к губам, а затем касается ими одной из фотографий на стенде.
– Ну, че, брат, все, приехал? – внезапно спрашивает тот самый кавказец.
Я испуганно оборачиваюсь.
– Что?
– Говорю, все уже – и ты наступил в эту яму.
– Что я?
– Говорю, втюрился в Карину. Проверь сердце, бьется быстрее обычного?
– Я? Нет, я просто…
Он смеется, хлопнув меня по груди:
– Не парься. Не первый, не последний. – Он замирает, вглядывается в мое лицо внимательно, я отступаю. – А, ты же этот новенький, который, ну… Смотрю на тебя и думаю – знакомое лицо. Твою фотку кинули в групповой чат. Имя есть?
– Что пристал? – хочу спросить я, но спрашивает Карина, подходя к лестнице, а потом, посмотрев на меня, добавляет: – Извини. Надо забанить этого козла Валеру. Как заметила, я сразу удалила. – А потом хмурит брови на моего нового знакомого. – Оставь Данилу.
– Я разрушаю границы между нами! – Он ставит руку мне на плечо. – Данила? Даниил? Дэниел!
– Разрушь границы между собой и учебой, – она кивает на дверь. – Тебе еще объяснять Елене Дмитриевне, почему тебя не было неделю.
– Я же отпросился! Ты должна была меня отмазать! Ты же обещала, что прикроешь! Тоже мне староста…
– На два дня, а не семь. Ты меня подставил.
Забыв обо мне окончательно, они входят. На секунду я замечаю тизер того, что меня ожидает: полная аудитория студентов. Берусь за дверную ручку и говорю:
– Я иду на битву с драконом. Я обязан его победить. Мне не надо его престола. Лишь бы голову с плеч отрубить.
И затем – вдох-выдох. Это дверь, и я ее должен открыть.
Уворачиваясь от десятков взглядов, я пробираюсь в самый конец, где сидит новый знакомый. Поздно идти в другой ряд, поэтому сажусь за ним. Получаются две полупустые парты. Или полуполные.
– Ребята, тридцать седьмая страница. Параграф один-два-два, «Характерные черты экономики развитых стран», – объявляет учитель, подняв над головой оранжевый учебник. Имя учителя я не запомнил, а учебник мне еще не выдали. – Выпишите полностью весь абзац на странице, до фотографии. Итак, Артемьев.
– Тут, – вскакивает из-за стола один. Не ботан, но все время умничает, точнее, играет бровями, будто размышляет на умные темы.
– Афонина?
– Тут. – Она много разговаривает и почти всегда не по теме. Мне кажется, она не понимает, куда и как течет разговор. Если представить общающихся людей машинами, едущими по шоссе, то она, как пьяный водитель, постоянно то вылетает на встречку, то съезжает на тропинку, чтобы затем вылететь из кустов обратно на дорогу.
– Падай, – говорит кавказец, повернувшись ко мне.
– А?
– Учебник есть?
– Банина.
– Здесь. – Молчаливая. Сверхсерьезная. У нее, кажется, есть на эту жизнь план, в который наш колледж и уж тем более город не входят.
– Нет, – отвечаю я на вопрос про учебник.
– Тогда падай, – повторяет он и показывает на свободное место рядом.
Я думаю. Взвешиваю. Не знаю что.
– Ну смотри сам, – говорит он и отворачивается.
– Гольцова?
– Она отпросилась у завуча.
– Ей же хуже. Значит, не узнает ничего про экономику развитых стран. Деревянко?
– Здесь. – Кажется, напичкан препаратами для концентрации внимания. Все время в каких-то нервных тиках. То моргнет судорожно, то дернет носом вбок. А дрожащая нога, кажется, может послужить источником вечной энергии.
Я делаю глубокий вдох и сажусь рядом. Сосед, ухмыльнувшись, ставит учебник посередине, и мы начинаем переписывать абзац до фотки белых мужиков с закрученными усами и в цилиндрах. Бизнесмены довольно позируют в рукопожатии, будто они запускают экономику целой страны, и все это на фоне ничего не понимающих, полураздетых туземцев.
В какой-то момент на фамилии Маркулов сосед по парте встает и садится обратно.
– Я Джамал, – тихо говорит он и протягивает руку под партой.
– Данила, – отвечаю я.
– Рябцева тут, – говорит учитель, посмотрев на Карину, и ставит отметку в журнале.
– В натуре у тебя почерк, – удивляется Джамал, увидев мои записи. – Как у девочек. Я бы такой хотел. На эту суету смотри. – Он показывает мне свою тетрадь, содержание которой больше напоминает поле битвы. А буквы, будто гармошка, тянутся то в одну сторону, то в другую. – Так-то я могу нормально, но мне для дебатов надо быстро накручивать скорость письма, так что я уже привык.
– Са-ави-ин, – тянет преподаватель, и по его тону я понимаю, что это уже повторный призыв.
– Он там. – Карина привстает и показывает на меня.
– Опять завис, – говорит парень с выбеленными волосами, зафиксированными гелем. И все начинают смеяться. Я, конечно, не эксперт в области юмора, но, кажется, дерьмо собачье, а не шутка. Но, возможно, они смеются, потому что знают что-то, чего не знаю я.
Я вскакиваю и сажусь обратно. Историк поднимает бровь и идет дальше по списку.
– Это Валера, – кивает Джамал на крашеного, но я уже знаю его имя. Мама бы назвала его хулиганом, а я – мудаком. И в той и в другой роли он рулит тремя такими же придурками. – Ты есть в группе в «телеге»?
– Нет.
– Понятно… – Поковырявшись в телефоне, он показывает мое фото. Там я стою у первой ступеньки и смотрю, как дебил, в пол, как будто забыл, что собирался делать. Снизу надпись: «ЗавиССавин» и анимация загрузки на башке. Прямо в этот момент парни забрасывают чат моей фоткой, которая теперь не фотка, а стикер, и не абы какой, а анимированный. Прекрасно. Стикеры делаются только про популярных чуваков. Все как хочет мама. – Вчера ночью закинули. Карина удалила и на неделю заткнула Вальтера. Его ник. Ну, Валера.
– Получается, Вальтеру вставили пистон, – бубню я.
– Хорош, – усмехается Джамал. – Шутка за триста.
– Маркулов, не знал, что отношение к немецкому капитализму может быть настолько смешным. Прекратите оказывать дурное влияние на нашего новенького.
Через минуту под смех задних парт к нам перемещается тетрадный лист. Воровато посмотрев на преподавателя, я забираю письмо и передаю соседу.
– А это шутка за сто пятьдесят… – хмурится он и показывает мне: «Прекратить ЧЕРНОЕ влияние!» На обратной стороне пишет: «ПНХ» – и показывает средний палец отправителю – Валере.
До конца пары мы слушаем о том, какие на Западе люди умные, что умудрились так быстро поднять европейскую экономику на ноги после войны. Затем английский и ОБЖ. И были очень долгие и быстрые три часа, потому что все это время я смотрел на часы, готовясь к обществознанию, прогуливать которое в третий раз кряду у меня не получится.
– Блин, – бурчу я, глядя на дверь аудитории. – Как там было… Это дверь, и я должен ее закрыть. Нет. Открыть. Это дверь…
– Братан, ты начинаешь оправдывать локальный мем. Что завис? – спрашивает, нагоняя, Джамал.
– Живот прихватило, – вру я, умудряясь при этом сказать правду, ведь живот действительно прихватило от волнения.
– В конец коридора и налево, мужской. Или прямо болит?
Он идет к кабинету, затем останавливается и еле слышно выругивается, возвращается.
– По ходу, ты немного нервный. Новичок, туда-сюда. Накручиваешь.
У него странная манера говорить, вроде без акцента, но подбирает слова так, будто обязывает постоянно вычленять суть. Если меня психолог учила использовать слова для построения смысловой цепи, то его будто попросила использовать в три раза меньше слов и только те, что помогают объясниться.
Суть того, что он говорит сейчас, – я не в своей тарелке, и это передается моему кишечнику. Киваю.
– Я сразу понял! – ликует он, будто тут есть повод для радости. – Идем. Вместе – типа мы сдружились. Мы же… друзья? – Он подмигивает, но, не увидев моей реакции, закатывает глаза. – Да ладно тебе! Давай потопали. Чисто братская поддержка. Уверенно залетим и упадем где-нибудь.
– Нет, там другая причина. Короче, я сам. Спасибо, – говорю я, и он наконец отстает.
Вытаскиваю телефон и минуту стою, типа переписываюсь с кем-то, на самом деле размышляя, не свалить бы уже домой. С учетом прошедшего с нашей последней встречи времени не думаю, что потерянные пара дней для всех нас хоть что-то значит.
- И раз ничего не значат,
- То не нужно и расплачиваться.
- В расчерченном семейном плане
- Его места захвачены.
- Терпением мамы проплачены.
– Замечательно, – говорит Карина подругам. – Только не забудьте насчет музыки. Как будем включать, через флешку?
– Прямо с телефона. Что-нибудь патриотическое на открытии и в конце то же самое, наверное. Возможно, будет ректор.
– А ему нравится гимн, – подхватывает третья. – Я точно знаю.
– Откуда?
– Он у него на звонке, – усмехается она.
– Ладно, потом разберемся, – подытоживает Карина, встретившись со мной взглядом.
– Маруся? – спрашивает девушка.
– А? – будто опомнившись, роняет она. – Да. Марусю норм.
Она мне покровительственно улыбается. Звенит звонок. Отправив девушек с журналом вперед, она подходит ко мне.
– Джамик написал, что ты чуток перенервничал.
– Нет, я просто по телефону… – Я показываю гаджет.
– Можно честно? – вдруг спрашивает она, сделав шаг ближе. – Я знаю, что Дмитрий Наумович твой отец. И то, что ты слился уже с двух занятий. Это ничего. Я же староста, прикрою. Про ваше родство никто не узнает, если ты сам никому не расскажешь. Он так сказал. У вас даже фамилии разные. Так что секрет в силе.
– Блин… – вздыхаю я. Вытираю ладони о джинсы.
– Ты все делаешь правильно, только надо со счетом. – Она вдруг берет меня за ладони. – Есть разные способы дышать. Давай как вариант – «четыре-семь-восемь». Четыре секунды, вдох носом, семь – задержка и медленный выдох за восемь секунд.
Я оглядываюсь. В фойе уже совсем пусто.
– Не парься. Смотри на меня. – Я подчиняюсь. – Про опоздание он ничего не скажет. Наумович классный. Закрой глаза. Итак, дышим. Носом. – Делаю вдох. – Раз. Два. Три. Четыре. Держишь. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Выдох. Не спеша, – поднимает она бровь. – Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Еще раз.
Мы проводим три таких круга, я чувствую тепло ее ладоней, слышу ее голос и, когда открываю глаза, вижу улыбку: беспрецедентно большие глаза и алые щеки с глубокими ямочками. Она будто была создана для того, чтобы я влюбился в нее с первого взгляда. Само собой, я так и сделал и теперь, когда я смотрю в ее глаза с такой близи, понимаю, что у меня просто не было выбора. В нее невозможно не влюбиться.
– У тебя ладошки мокрые, – усмехается она, и, услышав это, я отдергиваю руки и снова вытираю.
– Извини. Я…
– Как ты сейчас?
– Лучше, – киваю я, даже не подумав. Конечно, лучше. Девушка держала меня за руки целую минуту.
– Отлично. Вы давно не виделись. Знаю. Идем. Он будет тебе рад.
- Мысли мои бегут невпопад.
- Трусливый хаотичный взгляд.
- Это не страх. Сильнее во сто крат.
- Как будто вдребезги,
- взаперти,
- в темноту забрести
- и взяться за искрящие провода.
Она опять берет меня за руку и ведет ко входу, мягко отпустив, входит, и я, спрятавшись за ее стройной фигурой, тоже вхожу. Иду в самый конец, там же нахожу свободный стол. Карина садится прямо перед учителем, который смотрит исподлобья на меня. К счастью, мы совсем не похожи, и никто даже предположить не сможет, что между нами есть родство. Но, к сожалению, мы совсем не похожи, потому что я простой светловолосый невысокий, битый и чудом выживший птенец, видимо, в маму, в то время как Дмитрий Наумович высокий, широкоплечий и стройный к своим сорока пяти годам, с модной растительностью на лице – черные усы плавно перетекают в бороду с небольшим оттенком серебра.
– В этот раз «Олимпийский» полон, – улыбается он одновременно голливудской и теплой родительской улыбкой аудитории, и та откликается предсказуемым смехом, как дрессированная. Меня этим не удивить: я видел несколько его выступлений на ютубе – десятки тысяч просмотров и восторженные аудитории. На сцене он идеальный. А в жизни, думаю, говно.
– Карина, проведешь перекличку?
– Да. – Обладательница нежных рук встает и зачитывает наши фамилии, и, пока она это делает, я размышляю о том, догадался бы кто-нибудь о нашем с Наумовичем родстве, будь у нас одна фамилия? А ему самому это общее еще о чем-то говорит?
- Пусть собирает по крошкам.
- Все то, что нас роднит.
– Савин!
Встать.
Сказать:
– Здесь.
И сесть.
Впервые за много лет встретившись с ним глазами, отворачиваюсь. Думаю, каждый из нас увидел не сына или отца, а маму. Если он не видел ее лица, то это лишь подтверждает, что он мразь.
Одна ручка с хрустом превращается в две полуручки. Две половинки, которые уже никак не станут одной, какой бы клей я ни пробовал. Проверено множество раз экспериментальным путем в течение девяти лет жизни в семье с одним родителем.
Должен был стать убийцей драконов, а стал убийцей ручек. Учителю должно быть обидно. Если он помнит мое детство и наши игры. А если не помнит… что ж, это лишь подтверждает в третий раз – как человек он…
Ковыряюсь в рюкзаке, но не нахожу ни ручку, ни карандаш. Можно попросить у девчонок спереди, но для этого придется с ними говорить. Это проблема.
Вынимаю стержень, пытаюсь записать тему: «Общество как социальная система. Социальный статус личности».
Слышу и, к сожалению, вижу, как ржет сидящий недалеко от меня Валерий Крашеный Тарасов вместе с дружками. Его улыбка стирается, когда учитель оказывается рядом со мной.
– …Таким образом, общество – это объединение людей для удовлетворения социальных потребностей и осуществления… – учитель кладет ручку на свободную сторону моего стола и толкает пальцем ко мне, – социального контроля за членами данного общества. – Возвращается к доске, закрывает учебник, оставляя между страницами указательный палец. – Давайте поговорим про потребности человека. Их можно разделить на два типа. Очевидно, социальные и еще более очевидно… какие? – Он осматривает аудиторию. – Ничего? – улыбается он, поправив синий галстук. Не могу вспомнить, видел ли я его когда-нибудь другим: не стриженым, без выглаженных черного пиджака и брюк, без синего галстука поверх сверкающей белой рубашки без намека на морщинку. Будто бизнесмен из журнала, предлагающий вложить все сбережения в его дело. И что же он тут делает, этот чувак из рекламы, преподает обществознание в говенном колледже говенного придатка, недо-Севера, недо-Урала? Видимо, только я знаю, почему он оказался тут.
В американских фильмах такое называют «залег на дно». С одной стороны, Дмитрий Наумович очень постарался. Столько лет успешно лежит на дне. Не высовывается. С другой, ему повезло, что он живет в России. Здесь залечь на дно нетрудно. Наверное. Всем просто плевать, что ты сделал в прошлой жизни. С одной стороны, мне хочется его прилюдно осудить, вывести на чистую воду, с другой – то же самое можно сказать обо мне, ведь и я тоже залег на дно, как и советовал инспектор по делам несовершеннолетних.
Смешно. Мама в особенно тяжелые дни говорила: «Не будь похож на отца». И вот мы с ним в одной аудитории, пытаемся сделать вид, что не было никаких черных страниц в наших биографиях. Яблоко от яблони.
Учитель качает головой.
– Негусто. Давайте подумаем: какие у нас есть потребности? Рябцева?
– Ну есть, пить…
– Да, физиологические потребности.
– Трахаться, – шутит еле слышно кое-кто из окружения Крашеного. Услышав это, задние ряды начинают смеяться, передавая шутку вперед.
– Тихо-тихо, – говорит учитель, вдруг тоже улыбнувшись. – Круглик, у тебя появилась еще одна версия? – Круглик скользит взглядом по друзьям, но те как будто его не замечают. Облажался – разгребай сам. – Вставай, Костя. Итак, твоя версия?
– Да я просто… ну это… ну как сказать? – Круглик помидорится на глазах. Ему бы пригодился совет Александры Палны, если сложно – назови эту вещь и что ты собрался с ней делать.
– Дай нам свой вариант, только посыпанный магической цензурной пылью.
– Размножение, идиот, – цедит Валера.
– Р-р-размножение? – скорее спрашивает, чем отвечает Круглик.
– Прекрасный ответ, Валера. – Крашеный ликует. – Круглик, садись. Итак, физиологические потребности можно утолить в самой малой группе. И даже сам один человек на это способен. При должном желании человек может выжить на острове в одиночестве.
– А че делать еще на острове? Только дрочить остается… – шепчет Валера, и парни хихикают в ответ.
– Да заткнись уже, – бросает за спину Банина.
– А теперь про второй вид потребностей. Социальные. Их, Валера, удовлетворить самому не получится. Как бы ты ни пытался. Для этого нужен коллектив, и желательно побольше. Но ты и в этом мастак, как я вижу. – Валера, подмигивая парням, корчит важную рожу. – Итак, какую социальную потребность закрываешь ты, будучи умным и талантливым парнем с легкими девиантными наклонностями?
– Деви… чего? – спрашивает он.
– Хулиганскими, – отвечает учитель. – Какую потребность закрываю я, преподавая?
– Зарабатываете? – робко спрашивает одногруппница со второго ряда.
– К сожалению, не так много, как хотелось бы, – усмехается он. – Нет. И я, и Валерий, и Карина…
– Потребность в общении?
– Нет. Не совсем. Три… два…
– Самореализация, – вдруг произносит мой рот.
- Вгоняя меня в пот.
- Показывая всем,
- Что я тот еще задрот.
- Вот бы еще рифму,
- Какой я идиот.
– Правильно, Даник! – учитель показывает на меня пальцем и, быстро стерев удивление с лица, продолжает: – Данила… Савин. Да. Итак. Зачем нам самореализация? В чем ее смысл? Что невозможно без нее?
– Развитие человечества?
– Слишком масштабно, Рифатова.
– Или мы все сойдем с ума? – спрашивает Джамал.
– В каком смысле, Джамик?
– Ну, мы же будем типа все одинаковые. Все как один… – размышляет он, в то время как учитель жестами подталкивает его развить мысль. – Если никто не пытается стать кем-то… самореализоваться, то все как серая масса. А должны быть разными.
– Разными?.. – подается вперед учитель.
– Личностями?
– Бинго, Джамик! – Учитель стреляет в него из воображаемого пистолета. – Да. Мы должны быть разными. Стремление к самореализации развивает индивидуальность. Развивает личность каждого из нас. Проще говоря, именно путь каждого из нас позволяет нам отличаться друг от друга. Но тут у нас появилось новое слово. Маленькое, но очень важное. Какое?
– Путь, – отвечает первой Карина.
– Вот именно. Нельзя быть одинаковыми. Нельзя быть коллективным безмозглым стадом. Каждый из нас личность, а это предполагает, что у нас был, есть или будет свой путь. Так что, дорогие мои, ищите свой путь. – Он смотрит на меня, будто пытаясь мне намекнуть на что-то, видимо позабыв, что мой путь – это быть с мамой, пока она не умрет. И это пока он тут рассказывает про самореализацию. И этот путь я не выбирал. Своего у меня нет. Благодаря этому человеку.
– В итоге у нас имеются яркие примеры: талантливый хулиган, – он указывает на Валеру. – Учитель, – указывает на себя. – Организатор, – указывает на Карину. – Потенциальный отличник, – указывает через всю аудиторию на меня. Ну хоть не потенциальный сын. – И мой друг Джамик… – он указывает на Джамала.
– Шаурмичник! – бросает кто-то из хулиганского отряда. Никто над шуткой вслух не смеется, включая самих хулиганов.
– Ну, Степаненко, ты, конечно, выдал… – качает головой Дмитрий Наумович. – Вставай, друг.
– Блядь… – бурчит себе под нос.
– Ты же в курсе, что каждый третий житель нашего города приехал с юга? Статистика за двадцать первый год, между прочим. Я изучал. Посмотри в окно.
– А?
– Подойди. Посмотри в окно.
Тот подходит и нерешительно выглядывает на улицу.
– Видишь там вдалеке нефтевышки?
– Ага.
– Куда ни посмотри, ты везде их увидишь. Просто на всякий случай Русцентрнефть окружает наш славный городок, который существует в основном благодаря приехавшим сюда работникам. Азербайджанцам, дагестанцам, чеченцам, узбекам и всем остальным.
– Его папа тоже там работает… – злобно бросает одногруппница.
– Да, Галя, – усмехается учитель. – Я-то в курсе, потому что мы пару раз общались с папой Василия, мы оба болеем за «Челси», но я просто обязан позвонить ему, иначе его сын неудачно пошутит где-нибудь в подворотне. Там, где будут менее миролюбивые парни, чем Джамик.
Джамал без какой-либо обиды на лице поднимает большой палец вверх.
– Не звоните, пожалуйста, Дмитрий Наумович. Я тупанул.
– Джамал, прощаешь?
– Да он же и так там работает! – возмущается Крашеный. – Вася не соврал же, получается!
– Валера, – строго поднимает бровь учитель. – На дебатах надо так яро отстаивать позицию.
– Да пофиг, – отмахивается Джамал. – Мне-то че.
– Молодец. А вот я не прощаю. За сделанное и сказанное надо нести ответственность. Я же говорил, мой путь – учитель. Садись, Вася. Джамик, обещай: никаких разборок. Да?
– Никаких разборок. Тока перекреститься не просите.
– Шутка за пятьсот, – усмехается учитель. – Итак, социальный контроль – это целенаправленное воздействие на личность со стороны общества с целью достижения общепринятого порядка…
Ближе к концу пары я готовлюсь реализовать свой план: замаскировавшись под нормального человека, скрыться в толпе от учителя и выскользнуть из аудитории, но, видимо прочитав намерение в моих глазах цвета его глаз, а это единственное наше сходство, он преграждает мне путь. Звенит звонок.
– Сидим, сидим. Ребята, понимаю, последняя пара, вы все устали, но имейте в виду, завтра утром в актовом зале будет проходить «Светлая сторона». Мы подготовили классные темы для дебатов. Приходите поддержать нашу команду. Свободны!
Человеческая гусеница собирается у выхода. Учитель прощается с каждым, но поглядывает на меня. Ни разу не позвонив ему с переезда и не предложив встречу, мне казалось, я ясно дал понять, что нам не о чем говорить.
Пусть каждый остается на своем пути.
Он учитель, я ученик.
– Ника, ты обещала доклад на следующей неделе. Джамик, ты в резерве на дебаты, завтра жду и тебя.
– Да, сэр, – сосед отдает честь.
– Дмитрий Наумович, – зовет учителя Степаненко к доске, что как нельзя вовремя. Мой шанс сбежать. Молодец, молодой ксенофоб!
Учитель, бросив в мою сторону заинтересованный взгляд, отходит.
– Насчет отца… – вяло начинает Вася.
– Я должен с ним поговорить, – категорично перебивает Дмитрий Наумович.
Мечтаю подтолкнуть гусеницу, но в этом, кажется, нет необходимости. Учитель занят, а я почти в фойе.
– Савин, подождите, пожалуйста, – звучит голос – глубокий, звонкий, поставленный, такой весь заполняющий аудиторию. Голос, которому нельзя отказать. Голос, который я помню с детства. В тех воспоминаниях я люблю этот голос. Радостно бегу на руки к его источнику. А теперь ненавижу.
Я останавливаюсь. Он указывает мне на стол. И я послушно занимаю указанное место, но не сажусь, пытаясь хоть как-то выразить протест.
– У него сейчас проблемы… – мямлит хулиган. – Он не в настроении.
– Что-то случилось? Может, я могу чем-то помочь?
Степаненко качает головой.
– Он это… Его уволили. Их объект закрылся на той неделе.
– Он работал на А6? – спрашивает учитель, устало потерев лицо. Степаненко кивает. – Бл… Извини. – Дмитрий Наумович берет паузу. Смотрит туда, в сторону окна, нефтевышки на месте. – У меня есть знакомый на Б2. Начальник объекта. Это на другой стороне города, на севере, ближе к озерам. Туда тяжелее добираться, но объект рабочий. Как минимум следующие полгода их не закроют. Он так говорит. Пробрось отцу идейку. И если его устроит, пусть свяжется со мной. Да?
– Да.
– Договорились, мужик. – Он хлопает парня по плечу и, улыбнувшись, завершает: – Свободен.
Степаненко идет к выходу.
– Эй, – останавливает его учитель. – Больше никаких шуточек вокруг национализма. У нас тут и так напряженка.
– Хорошо.
Бросив недоброжелательный и несколько подозрительный взгляд на меня, Вася уходит.
Человек, которого я не готов даже мысленно назвать отцом, несколько секунд смотрит на дверь, а потом со вздохом встает:
– Н-да. – Идет ко мне. – Ну как ты, Даник?
– Норм, – пожимаю плечами, потому что действительно норм. Но после этого разговора, возможно, не буду.
- Буду как ручка, сломанная надвое,
- Буду как стержень, нагой и ненужный.
- Мне место на выжженном поле.
- Среди похожих, контуженых.
– Как мама?
– Тоже, – киваю я, думая о том, что он тоже решил играть с ней в одну игру. Отменить имена и оставить социальные роли. И если мама свою сохранила, то этот не очень знакомый мне мужик свою роль легко поменял.
Учитель протягивает руку и, улыбнувшись, говорит:
– Можешь не пожимать. Я пойму. – Я жму и говорю себе, что делаю это только ради мамы, которая передает приветы и хранит подаренные крестики, вместо того чтобы ненавидеть и проклинать. – Поболтаем? – Он указывает на самый конец аудитории, и мы дрейфуем туда. – У города небольшая проблема. – По его интонации я понимаю, что проблема большая. – Из-за санкций пошатало нефть и металлы. Акции некоторых филиалов больших компаний жестко просели. Промышленники плавно перебираются ближе к Москве, да и скважины уже старые. Работают почти что в минус. Начальник, о котором я говорил Васе, мой друг, считает, что многие объекты фактически создают видимость работы. Это пузыри, которые лопнут, когда москвичи приедут с проверками. Просто пока не до этого. – Учитель садится на стол. Он всегда был таким – непохожим на остальных взрослых.
- Как будто бы крутым.
- Всегда везде своим.
– Второй год идут разговоры о том, что Русцентрнефть закроет добычу. Тысячи людей останутся без работы, и из-за них – другие тысячи. Сам понимаешь, это будет жесткий удар по экономике региона. В прошлом году Северсталь закрыла региональное производство. Две с половиной тысячи мужиков на улицу. Разом. В течение одного дня. – Он пронзительно смотрит в мое лицо, будто ожидая, что я пойму, в каком на самом деле положении находится город. Но мне бы понять, в каком положении к нам с мамой находится этот сострадательный человек. – Остались только свалки металлолома. Видел, наверное, за городом?
Я киваю.
– Поэтому многие оставшиеся без работы подписали контракт. – Стенд с героями в фойе видел?
– Да.
– Многих из погибших я знал… В общем, экономические проблемы отражаются на семьях. Народ стал дерганый. Раньше никаких национальных разборок не было, а теперь бывает, что вспыхивают. Да еще и за городом, в деревушках орудуют банды. Постоянно какие-то перестрелки, дележки территорий. Все стало немного сложным, и теперь мы все должны прилагать усилия. Хотя бы внутри своих семей.
С этими речами ему бы на выборы идти. Да и про семьи он, конечно, зря ляпнул при мне. Интересно, как дела с его собственными усилиями.
После небольшой паузы он спрашивает:
– Ну и чем занимаешься? Вы же в общежитии на Бакинской поселились?
– Да.
– Я жил там рядом пару месяцев, когда только сюда переехал. Очень редкий автобус и дороги как будто для трактористов. Не тяжело добираться?
– Норм. Мама подвозит.
– Послушай, – вдруг включается он, будто все, что мы обсудили, было просто созданием почвы для этого разговора, – мы можем не обсуждать то, что ты два раза пропустил мои занятия. Это не проблема. Я пойму, если ты не захочешь со мной и общаться тоже. Ты имеешь на это полное право. И сколько бы раз я ни извинялся, от этого не будет никакого толка. Но… нам с тобой надо выстроить какие-то отношения, ведь время…
Я встаю.
– Постой, постой. – Он берет меня за руку, но быстро отпускает. – Прости. Я просто пытаюсь наладить контакт. Мы же семья. – Я кусаю изнутри нижнюю губу до крови, хотя обещал больше так не делать. Но мне нравится вкус крови. Как не делать то, что нравится? – Хорошо. Мы не семья, но были ею. Прошу тебя, давай попробуем. Просто как приятели. Без обязательств.
Наверное, с такими словами и началось то, что закончилось как «залечь на дно».
Я растоптанная слякоть, которая отказывается таять. Я застрявший на высоком дереве дырявый полупрозрачный пакет.
- Я мертвый человеческий макет.
- Я пустая упаковка из-под сигарет.
- А может, просто дым.
- Больше не останусь с ним.
– У меня родился сын! – кричит он вслед. – Даник, у меня родился ребенок. – Я поворачиваюсь. – Твой брат. Господи, у вас один цвет глаз. У тебя есть брат, – напирает он.
– Как его зовут?
– Вячеслав. Слава. Ему восемь месяцев. Я хотел тебе рассказать, но твоя мать…
ЕЛЕНА! ТВОЮ БЫВШУЮ ЖЕНУ! МОЮ МАТЬ! ЗОВУТ ЛЕНА!
Я – лист. Я высох. Меня срывает ветер и несет. Я легкий… высохший… листок. Я свободен. И спокоен.
– …Она подумала, что тебе пока лучше не знать. Но… какой смысл это скрывать. Это же хорошая новость, – то ли утверждает, то ли спрашивает он и смотрит на меня, как будто я сдаю тест на человековость. Не может ведь рождение ребенка быть чем-то плохим? Или может? Или…
В моих ушах звучит страшный голос: «ТОГДА НЕ НАДО БЫЛО ЕГО РОЖАТЬ!» – что-то из прошлого. Что-то из детства. Голос, который я любил, а теперь ненавижу.
– Да, – киваю я. Дети всегда хорошо. А особенно хорошо, когда есть и родители. Вообще прекрасно, если есть оба и в одной квартире.
– Хорошо, – выдыхает учитель, улыбнувшись. Похоже, тест пройден. Он вытирает влажные красные глаза и нос. – Хорошо… Прости, что я так. Огорошил. Я хотел сделать это в удобный момент, а получилось так. Теперь мне гораздо легче. Когда сказал. Приходи завтра утром на «Светлую сторону».
– Это что?
– Это риторический турнир.
– Типа батл?
– Дебаты. Только не как в интернете, где эти татуированные придурки друг друга матом кроют. Я знаю, что ты очень умный. Тебе понравится. Интеллектуальный спор. Приедет команда из Гатчины. Наша тройка против их. Капитан наших – ваша староста Карина, все ребята свои. Придешь поболеть?
Рябцева Карина. Большие круглые глаза, ямочки на щеках, нежные руки. Светлая улыбка.
– Приду.
– Отлично. Завтра в девять, актовый зал. Недавно сделали ремонт. Тебе понравится. Все, молчу.
Я разворачиваюсь и ухожу, оставив на парте у двери его ручку. Я знаю и он знает, что мне от него ничего не надо.
- Ни ручки, ни привета.
- И под дулом пистолета.
- А то, что сломалось, починю сам —
- Не настолько туп, чтоб идти по старым путям.
На выходе из колледжа вижу Карину и Джамала на скамейке. Мне хочется подойти к ним, чтобы подойти к ней. Поблагодарить его за учебник, чтобы затем поблагодарить ее за руки. Но я не сделаю этого. Я надеваю капюшон, наушники, но не успеваю включить песню, как слышу сбоку:
– Эй, Савин! – Карина машет мне. Я делаю вид, что не вижу и не слышу. Не потому, что не хочу подходить, но потому, что не знаю, как это сделать нормально. Как будто делаю это каждый день. Слышу свист. Такой громкий, что невозможно игнорировать. Поворачиваюсь. Джамал, вынимая изо рта мизинцы, подзывает меня. Теперь придется идти. Такой свист я бы услышал и из дома.
– Это неважно. Смысл же в том, чтобы победить мозгами, – говорит Карина.
– Я же не предлагаю мухлевать! – бойко отвечает Джамал. – О, вот и он.
– Спасибо за книжку, – говорю ему и, повернувшись к старосте, пытаюсь поблагодарить и ее, но в процессе собирания слов в предложение понимаю, что не могу собрать даже «спасибо, что подержала за руки». Хотя прозвучало бы стремно. Зато мама бы обрадовалась – Данила держался за руки с реальной девушкой.
Я глохну на полпути, ничего ей не говоря.
– Джамик, не надо, – говорит Карина, вставая со скамьи.
– Дмитрий Наумович одобрит!
– Никаких искажателей!
– Тогда крикун! – предлагает он, пропустив ее слова мимо ушей. – Посмотри на Валеру! Я тоже так могу – кричать пять минут.
– Я капитан, и я против. А ты в резерве, мы все сделаем сами. Я же говорю тебе, у меня есть план, хоть Дмитрию Наумовичу он и не понравится.
– Ответственно заявляю, что ты не используешь весь наш потенциал!
– Все, я побежала. Даник, – произносит она мое имя так, как ко мне обращался только учитель, в детстве, когда он еще был моим отцом. Больше никто. – Рада была поболтать!
Она убегает, а мы провожаем ее взглядами.
– Кто, по-твоему, такой искажатель? – задает Джамал неожиданный вопрос, продолжая смотреть вслед Карине. Наверное, со стороны мы выглядим влюбленными в одну девушку дураками.
– А?
– Искажатель – кто это?
– Я не… – пытаюсь я инстинктивно выйти из разговора, но, вспомнив данное маме обещание про общение с ребятами, собираюсь, обдумываю и отвечаю: – Наверное, тот, кто что-то искажает?
– В натуре, ты кэп. Но вообще да. Шаурма ужасная еда. Никакого вкуса. Что думаешь?
– Мне норм, – пожимаю плечами.
– То есть вы хотите сказать, что это нормально: нарушая все санитарные нормы, готовить это «блюдо», – он рисует кавычки в воздухе, – фактически на открытом воздухе, используя непроверенное мясо, а также умудряясь в течение дня толком не мыть свои кухонные приборы, ваш, так сказать, инструментарий, излюбленный мухами и тараканами. Так вы считаете? Кашлять и чихать на это? – напирает он, сдвинув брови.
– Ну… смотря где готовить… – теряюсь я, а затем сдаюсь. – Но я не… не понял.
– Вот, брат, это искажатель, – внезапно он меняется в лице и встает. – Я сделал утверждение. Шаурма – ужасная еда. Ты был против, то есть фактически опроверг мое утверждение, сказав, что она вкусная. Так?
– …Так, – отвечаю я, пытаясь проследить за мыслью. Мы спускаемся по широким и длинным бетонным ступенькам к воротам, у которых дядя Кеша, ковыряясь в носу, топчет асфальт.
– И чтобы в глазах жюри выйти победителем, – он указывает на охранника – тот непонимающе чешет репу, – я должен растоптать твою позицию. Но что бы я ни сказал, ты все равно любишь шаурму. Мне не победить в честном споре.
– И поэтому ты искажаешь наш разговор так, чтобы всем казалось, что я поддерживаю приготовление ее в местах, нарушающих санитарные условия?
– Да! У тебя работает башка! – почти удивляется он. Немудрено. Для всех одногруппников я, наверное, тормоз. – Твое дело – не поддаваться на эти уловки и вернуть меня к реальной сути спора. Это секрет победы над искажателем.
– Понял, – киваю я.
– Раньше участвовал в дебатах?
– Не-а. Это не мое. Я… это… не особо перед людьми. Ну…
– Это мы исправим, брат, – отмахивается он. – Надо просто пробудить в тебе… – он останавливается, задумавшись, а потом подходит ближе, тычет пальцем меня в грудь и как-то мрачно говорит: – Пробудить в тебе твою… темную сторону. Скоро ты все поймешь.
– У меня все нормально, – отвечаю непонятно на что. У всех, наверное, есть темные стороны. Но я знаю все про себя. Почти все. Слишком много времени провел, копаясь в себе. Понятное дело, что там темно. Во всех темно, если глубоко копаться, но если суть его утверждения в том, что я ужасный человек, то нет. Я могу быть ни рыбой ни мясом, но человек я нормальный. Людям плохого не желаю и гадостей не делаю. И хоть инспектор по делам несовершеннолетних Алексей Корчин из города Кинешмы не согласен, психолог Александра Пална подтвердит.
Мои проблемы в другом, и за этим лучше к человеку, считающему себя моим отцом.
– Да ты сумасшедший! Гребаный псих, – продолжает он давить.
Я замолкаю, не находя в себе сил защититься. А потом понимаю:
– Опять ты…
– Поймал! Ха!
– Искажатель?
– Не-а. В этот раз лжец. Тут надо уловить разницу. Сейчас я накидал немного, а тогда чуток перекрутил. Ты странный, брат. Но ты же не псих? – спрашивает он, но, не дождавшись моего ответа, накидывает рюкзак на плечи и ускоряется вдоль дороги. Мне в другую сторону, поэтому я не очень за ним спешу. Развернувшись, он спрашивает: – Шаурму будешь? Бомба. Без тараканов. Вроде.
«Не знаю», – отвечаю я мысленно на его вопрос. Но не про шаурму, а про мое ментальное состояние. Про то, псих ли я, про то, остались ли во мне темные стороны, о которых я не знаю и которые надо пробудить. Про все одно сплошное «не знаю».
Завтра утром в кабинете нового психолога (или уже психотерапевта, я не разобрался, но какая разница) будем пытаться ответить на этот вопрос, чувствую ли я вновь желание кому-нибудь сделать больно. И если я отвечу неправильно, мне предстоит знакомство с новым инспектором по делам несовершеннолетних.
ЭПИЗОД 2
Η ΣΚΗΝΗ | СЦЕНА
Мы идем вдоль железной дороги, разделяющей город на две части. Западную часть называют Жестянкой из-за огромных свалок металла со всего Северного Урала, а восточную – Нефтянкой из-за огромного завода по переработке нефти. На пересечении этих улиц стоит цех по производству пилорамы, откуда доносятся страшные звуки: что-то пилится, что-то грохочет, а что-то скрежещет. На главном перекрестке города было бы логичней иметь несколько ресторанов или «Пятерочку», но разгадка в том, что вокруг этого цеха, где работали буквально все жители, и начал разрастаться поселок. Дерево сто лет назад решало, но ситуация поменялась. Когда нашлись нефть и газ, если выражаться игровым сленгом, поселок апнулся до полноценного города. Вопрос в том, что будет, когда нефть и газ кончатся. Как я узнал сегодня, со слов Дмитрия Наумовича, город не готов превращаться обратно в поселок.
Джамал молча идет вдоль завода, активно с кем-то переписываясь.
– Чуть суета, – бросает он за спину, видимо извиняясь, хоть я ничего и не говорил, а затем записывает голосовое: – Да понял я. Вечером закину. Сейчас нет возможности. – Мы обходим завод, из глубин которого доносится какой-то очень живой для механизмов звук, будто урчание дракона. – Наконец-то! Это брат двоюродный. Задолбал. То это, то то, в натуре, темщик.
Ничего не отвечаю и сворачиваю за ним. Мы вдруг оказываемся в широком дворе, в отличном состоянии, со скамейками и детской площадкой, а в центре большая круговая кабинка с вывеской «ШАУРМА ХАЛЯЛЬ № 1».
– Был тут?
– Нет, – отвечаю я, сдержав позыв объяснить, что в принципе в городе не был нигде, кроме колледжа и супермаркета.
– Это мужики с завода намутили, – он кивает в сторону двора. – Тут раньше был какой-то пиздец. Все в грязи, в лужах. Салам алейкум! – кричит он через площадку мужику сорока лет, который качает ребенка на качелях. Тот поднимает руку. – Тут много всех. Наших-ваших-всехних. Короче, островок СССР, как сказал бы мой отец. Свобода, равенство, труд, май. Или как там? Короче, все собрались и сами забабахали. Пока от этой администрации чего-то дождешься… Если бы ты видел, какой тут был срач год назад. Хотели поставить скамейки вначале, приходят одни, мол, идите в ЖКХ, другие отправили в какой-то градостроительный отдел, потом в архитектурный. Там кричат: «В смысле для людей скамейки? А вам че с этого?» Понимаешь? Они уже настроены, что у всех какие-то схемы заготовлены. Дядя Миша, владелец цеха, рассказывал, какие они охреневшие – сами не делают и делать не дают. Короче, ночью внаглую залил асфальт, повесил на входе проект… Ну как это все будет выглядеть в конце, и начал работу со всеми желающими. С администрации прибежали: произвол, туда-сюда, он им полтинник, и добазарились на месте. За пять минут, за слова отвечаю. Своими глазами видел, как они изменились, когда бабки увидели. И вот, – Джамал широким жестом охватывает весь двор, – замутили площадку и бахнули по центру шаурму. – Смеясь, он завершает: – А мэр им грамоту потом.
Мы подходим к окошку шаурмичной, в которую он зачем-то засовывает полбашки.
– Салам алейкум, – смеется он, – эй, че там, че там?
– Заходи давай! – кричат изнутри.
– Не, у меня сегодня суета. Дядя тут?
– Нету. Вышел. И у тебя суета, и у него суета, как будто родственники.
– Опять у тебя шутки за двести. Намути, да, две штуки. Большие, – Джамал выглядывает наружу, смотрит на меня оценивающе и возвращает голову внутрь, – да, две большие.
– Две тебе зачем? Двумя руками будешь кушать, что ли? Левой нельзя. Харам, – смеется тот, изнутри, с жестким акцентом.
– Неплохо. Шутка за триста. Сделай, да, по-братски, я тут с кентом. Он в городе новенький.
– Ва!
У окна, где стою я, раздвигается штора, и на меня смотрит смуглый азиат сорока пяти лет.
– Новенький, что ли? – усмехается он непонятно чему. Я киваю. Он улыбается еще шире. – Тогда, брат, мы тебе много мяса закинем. Ты какой-то мелкий. – Смотрит на Джамала. – Это на ще… Щепкий?
– Щуплый, – подсказывает одногруппник.
– Щуплий! Во. Надо исправить, жи есть. – Он говорит что-то на своем языке, и за его спиной, тоже ухмыльнувшись, принимается за работу еще один, помоложе.
– Не говори «жи есть». Это дагестанская тема. Вам не подходит.
– Как нравится, так и говорю. Залипло «жи есть». Джама, залетай, да. Сейчас с центра большой заказ будет. Еще две руки нужно.
Пока они болтают, я робко подсовываю сохраненную мной для непредвиденных случаев купюру в тысячу рублей.
– Тормози. – Джамал подмигивает мне. – Это мое место.
– Ты че пургу несешь, – старший опять выглядывает из окна. – Блондин, майонез много или мало любишь, брат?
– Много, – киваю я, хотя не блондин.
– Дяди место, – сознается Джамал, и мы садимся, видимо, на скамейку ожидания.
– Это таджики, – он кивает за спину. – Бомбовые мужики. Дядя нанял. Они настоящие профи. Магистры люлей и шаурмы.
– Ты тут подрабатываешь? – спрашиваю я, а потом понимаю, что этот вопрос может его как-то задеть из-за сегодняшней шутки про «путь шаурмичника».
– Да, – отвечает он спокойно. – А че делать? Живу у него на шее. Самому не по кайфу. Когда есть время, залетаю сюда. Бах-бух, резко где надо помогу и свалю. – Почесав жидкую бородку, он опять лезет в телефон, а я смотрю на него и размышляю о том, откуда взялся такой перец. Какая-то сюрреалистическая смесь острого ума и кавказского колорита.
Джамал открывает рот, чтобы что-то сказать, но сзади звучит:
– Забирай!
– Я возьму, – предпринимаю я инициативу. Ведь хоть в чем-то должен.
– Сам откуда? – спрашивает магистр шаурмы.
– А? – Дебильная привычка.
– Откуда, говорю. – Он сует мне два горячих и вкусно пахнущих свертка.
– Заволжск. Это маленький город в трехстах километрах от Москвы, потом Кинешма. Это город там же рядом, но побольше, и теперь сюда.
– Ты, брат, путешественник, – нарекает он меня таким тоном, будто осталось приложить к обоим плечам меч, а в его случае – кухонную лопатку.
– Спасибо.
– На здаровья, брат.
Молодой работник добавляет что-то на таджикском.
– Говорит, оценка поставь в яндекс-карте. – Старший подмигивает. – Тока если понравится.
Я вдруг ловлю себя на мысли, что несу шаурму какому-то знакомому чуваку и мы собираемся вместе есть. У меня давно не было знакомств. Не было знакомства как процесса, протекающего через разные стадии до дружбы или вражды. Ведь другом не называют (разве что в детстве, «А давай дружить?»), другом становятся как-то плавно, переживая всякое общее дерьмо и радости. В отношениях другое: давай встречаться! Я тебя люблю! Выходи за меня! Там все официально. У дружбы не так. Это просто происходит. Само по себе. И, кажется, это прямо сейчас происходит со мной.
Пара моих друзей остались в Кинешме, и те с моего переезда ничего не пишут.
- Проблем у каждого выше крыши.
- На работе крысы. Дома мыши.
- Ждите, пока откинусь! Отправлю сигнал свыше.
– Че делаешь? – спрашивает он с набитым ртом.
– А?
– Ты постоянно что-то бубнишь. Молишься, что ли?
– А, нет. Я просто… – Мысль обрывается. Как всегда, когда надо сказать что-то о себе. Когда надо открыться. Когда надо рано или поздно показать свою ненормальность. Гребаная смысловая цепь, которую надо постоянно строить, когда открываешь рот. Решаю не рассказывать о рифмах. Список моих странностей в глазах одногруппников и так полон. – Ничего.
Я надкусываю шаурму, и, видимо, поймав мой изумленный взгляд, Джамал вытягивает улыбку до ушей и спрашивает:
– И ка-а-ак?
– Клево.
– «Клево», – усмехается он моей формулировке. – Сам ты клево. Тут так не говорят. Это бомба, брат. Соленые огурцы и чесночный соус решают. Отработанная на Махачкале схема.
– Ты… хочешь… – начинаю я бубнить, но затем, вспомнив Карину и сделав глубокий вдох, проговариваю обвинительную речь: – Ты хочешь сказать, что помидорам не место в составе шаурмы? Что они менее полезные? Что соленые огурцы имеют весь необходимый набор микроэлементов? Да и вообще значительно вкуснее?
Джамал некоторое время смотрит на меня задумчиво. Пытаюсь понять, оценил ли он мои риторические потуги или определяет уровень моей дебильности. Его челюсть замирает, так и не дожевав содержимое, и, когда я, признав, что в очередной раз тупанул, собираюсь извиниться, он, хрюкнув, начинает ржать.
– Хорош! – кричит он и, кашлянув, добавляет: – Из-за тебя даже майонез в нос залетел! Неплохо-неплохо. Идем. – Посмотрев в сторону шаурмичной, он кричит: – Дядя Нурик, саул!
В ответ тот высовывает смуглую руку, кисть которой спрятана под белой перчаткой, и машет нам.
– Только смотри, – продолжает Джамал. – Тут надо действовать более технично. Никто не должен заметить, что ты искажаешь мое утверждение. А ты с ходу напал на меня с помидорами. Там тяжело проследить смысловую цепь. – И здесь эта гребаная смысловая цепь. – Надо делать плавно. Это во-первых, и во-вторых, нет никакого смысла искажать, если ты не заработал на этом баллов в глазах судей. Ты должен вначале сжать в кулаке мое мнение, исказить его, будто я это имел в виду, и потом раздавить его своими помидорами. И чтобы тебя за это похвалили.
– Раздавить помидорами, как будто задавить задницей, – усмехаюсь я. – Шутка за триста.
Он ржет, а потом, успокоившись, говорит:
– Смотри, вот так примерно: «Вы имеете в виду, что шаурма возможна только при наличии соленых огурчиков? Как вы это определили? Есть какие-то общепринятые законы или исследования? Вы абсолютно не правы…» Вот теперь я плохой парень, и ты начинаешь разносить своими доводами. Так будет эффектней и эффективней. Вначале настроишь судей, заставишь их возмутиться, а потом кивать на твое решение проблемы. Догоняешь?
– Да.
– Это же наша тема! Дагестанско-греческая.
– Чего? – спрашиваю я, не поняв прикола.
– Греки придумали борьбу и дебаты, а мы подхватили и соединили. Сократу надо в Махачкале за это участок выделить, – смеется он. Да и я тоже заражаюсь его настроением.
Мы возвращаемся к железной дороге. Нас обгоняет парочка спортсменок в обтягивающих спортивных штанах. Джамал, проводив девушек взглядом, продолжает:
– Притормози, ща я буду умничать. Общаются однажды где-то во дворе Сократ и Главкон, родной братишка Платона. Ты же его знаешь?
Я просто мычу с набитым ртом.
– Короче, спорят о чем-то. Им же делать нефиг было, выходят на улицу, чисто чтобы кипиш словарный поднять. Как даги. – Джамал ржет. – И говорит Сократ, примерный смысл, мол, «люди, не очень того желая, впадают в эристику». А Главкон, задолбавшийся кипишевать… Сократ же был мерзким парнем, ты в курсе? Короче, Главкон спрашивает, мол, «мы тоже, по-твоему, скатились в эристику?» А Сократ отвечает: «По ходу, мы все сами не замечаем, как начинаем спорить». Я не помню, к чему этот пример, но в основе всего спор, понимаешь? Желание просто побазарить из горделивости и победить в споре. Эго!
– А эристика – это?..
– Искусство кипишевать! Там много чего интересного. Спор помогает развиваться: Аристотель, Платон, Цицерон-бадминтон…
– Тутанхамон, – вставляю я. – Лучше рифма. – Затем прячу взгляд. В голову пришел десяток рифм. И домофон, и саксофон, и много чего другого. Усилием останавливаю мысли.
– Дмитрий Наумович нас неплохо поднатаскал. Рассказал про Рим, про Грецию. Много чего, – продолжает мысль Джамал. – Заставил учить историю дебатов. Короче, ты зря считаешь, что дебаты бесполезная штука.
– Опять искажаешь! Я такого не говорил, – подлавливаю его я.
– Вот! Вот же доказательство! В этот раз я это сделал не специально, но это идеально! А ты заметил и сразу поставил меня на место. Брат, это твоя тема. Ты, по ходу, держишь суть обсуждения. Логическую цепочку. Из тебя получится отличный спорщик.
Прекрасно. Оказывается, я держу логическую цепочку, просто не могу ее выдать изо рта. Задумываюсь о том, насколько высока вероятность того, что мама его подговорила.
– Но есть кое-что еще круче обычных дебатов, – вдруг произносит он, стрельнув в меня хитрым взглядом. – Называется «Темная сторо…»
Сигнал машины прерывает наш разговор. Знакомая черная «камри» останавливается впереди, и из нее выходит парень в очках и в черной кожаной куртке.
– Я же пишу, че не отвечаешь?! – возмущается он, снимая очки. На вид не старше тридцати лет. Еще двое тоже выходят. Судя по внешнему виду, суровые кавказцы.
– Я написал тебе. Дела у меня.
– Я вижу, шаурмой затарился, ходишь тут. Я же жду! Че за блондин? – кивает он на меня, хоть я и не блондин. Я тот, кто хочет как можно быстрее дать деру отсюда, но боится, будто как с хищником: делай что хочешь, но не беги.
– Одногруппник.
– Э-э-э, завтра же суббота. Опять собрался в чей-то микрофон дуть? – еле договаривает, падая со смеху.
– Оставь, да, эти шутки за сто. Я в запасе.
– Мой братишка в запасе? Че за порожняк? Давай падай в машину. – Не дождавшись ответа Джамала, он подхватывает того за плечо, делает это грубо, но привычно.
– Скажу дяде, наваляет вам. Портите мою учебу. – Он освобождается и идет ко мне.
– Это мой двоюродный брат. Он чуть тронутый. Поеду с ними, а то он не отстанет. Завтра в девять тогда? – спрашивает он и ждет ответ с таким взглядом, будто все уже решено.
– Да?..
– Да! Актовый зал.
Сомнительный двоюродный брат, стоя у машины, засовывает в салон руку и сигналит.
– Отсюда на светофоре свернешь влево и на большом перекрестке уже увидишь колледж, – подсказывает он.
– У меня яндекс-карты, – показываю я телефон с открытой в поиске «Шаурма Халяль № 1». Ставлю заведению пятерку.
– Давай, – кивает он и уходит.
Я иду домой, следуя за стрелкой. Идти сорок минут. И это хорошо. Александра Пална говорила, что долгие прогулки полезны для меня. Типа очищают разум и помогают перезагрузиться. Я начал их практиковать. Вначале тяжело, затем все легче. Шел без наушников. Потому что иногда полезна тишина. Когда начинал ходить, было необычно слышать мир, а не музыку, а затем стало не очень – начал слышать собственные мысли. Всякие спикеры по личному росту говорят, что это нормально, что надо слышать себя. Но когда мыслей слишком много, это становится проблемой. Когда они какие-то слишком напористые. Когда внутри тебя будто еще один ты, но злой, трусливый одновременно. Когда этот шум накрывает. И закапывает тоже. В тишине ты как бы бессилен против них.
Потом я вернул наушники, выкрутил на максимум, и все вновь встало на места. И не нужен никакой собственный голос. Ну его на хрен.
- Я иду домой. Злой.
- Я иду домой. Отстой.
- Я должен быть рад.
- У меня родился брат.
- Я в режиме автомат.
- Наушники. Капюшон.
- Заглохни, Цицерон.
- Или внутренний Сократ,
- Подкрутим звук в стократ.
- Как проходит время за окнами.
- Ты беги быстрей. Меня не томи.
- Все же как бы ни был прекрасен мир,
- Только не для тех, кто всегда один[2].
Я сижу на кухне. Смотрю на потолок, два угла из которых захватываются чем-то черным, мертвым, но живым. Грибок. Сырость. Смерть. Рак. Но эти слова мы больше не говорим, потому что мама верит, что упоминание болезней их притягивает.
За окном темно. Капли бьются в стекло. Свист из дверного прохода заставляет меня обернуться. Что-то новенькое. За те две недели, что мы тут живем, впервые поднялся такой ветер.
– Думал, о жизни все я знаю. Но встретил вас и вмиг пропал. Вы уж простите, дорогая. Любовь как клетка. Вас поймал, – шепчет мама себе под нос.
– Не читай это. Мы же договорились.
Она на пару секунд замирает, затем спрашивает:
– Как прошел день? – Ставит передо мной макароны в томатном соусе, посыпанные резко пахнущим тертым сыром. – Ты опоздал. Наверное, автобуса долго не было?
– Не. Я… – собираюсь объяснить ей, что задержался, потому что… потому что что? С кем-то подружился? Гулял? Общался? Маму обрадует эта новость, и это хорошо, но будет означать, что я смирился с ее решением. А я не смирился. Мы не должны быть здесь. Не должны были переезжать. Не должны быть рядом с ним. И я не начинаю новую жизнь.
– Что?
– Я гулял.
– Один?
- «Когда сложно – назови эту вещь».
ВРАНЬЕ.
- «И скажи, что ты собираешься с ней сделать».
СКАЗАТЬ. СОВРАТЬ. ВРИ ЕЙ. ВРИ, СМОТРЯ ПРЯМО В ЕЕ ГЛАЗА. МАТЬ ДЛЯ ЭТОГО И НУЖНА. ЧТОБЫ ВЕРИТЬ ВО ВСЕ, ЧТО ТЫ ГОВОРИШЬ. ПРОСТО СОВРИ. Скажи, что был один.
– С одногруппником.
– О как. Что за одногруппник?
– Джамал. Он… – Идиот. Ври. – Нам дали задание, и мы… решили обсудить его. Делаем вместе.
– А Джамал – он кто? Азербайджанец?
– Дагестанец.
– А какое задание? – Мама включает режим клещей. Она, вероятно, думает, что я не замечаю этого. Ей плевать на задание и на него. Ей важно, чтобы я рассказывал о чем-то. Ей важно делать вид, что все идет, как должно идти. «Ваш психованный ребенок адаптируется».
– Деб… – осекаюсь, поняв, что дебаты приведут к разговорам о нем. Но я не смогу весь год делать вид, что его не существует, делать вид, что он не является моим преподавателем. Делать вид, что он не мой отец.
Подонок. Мразь. Подлец.
– Дебаты. Меня пригласили поучаствовать. – Перебор с враньем. Исправляюсь: – То есть посмотреть. Просто посмотреть. Завтра.
Смотрю на маму. Она смотрит на старую деревянную солонку с цветочками и ягодками, дырявую сверху, как наша прогнившая дверь, и, по всей видимости, такая же участь ждет потолок, если что-то не сделать с грибком.
- Как наша жизнь после него.
- Ветки и капли бьются в окно.
Дверь опять свистит. Мама, бросив взгляд в проход, кивает, но не моим словам, а чему-то своему. Наверное, считает, что мы нашли с ним общий язык, подружились, приняли друг друга. Она нерешительно наконец спрашивает то, о чем должна была спросить сразу:
– Вы виделись?
Я киваю.
– Передал ему привет?
На кой хрен ее привет ему сдался? Он даже не называет ее имени. «Твоя мать». Но еще важнее, на кой хрен ей передавать ему привет? Кто он? Что он?
Она хочет это услышать, что я передал ему привет. Хочет показать ему, что у нас все хорошо и что мы его простили. Но мы его НЕ простили. У нас все НЕ хорошо.
– Нет.
Мы молчим.
– Ничего, – говорит она, ставит руку на мой сжатый кулак и, улыбнувшись, стучит по нему пальцем. – Тук-тук, это червячок, разожмите кулачок.
– Мам…
– Тук-тук. Это червячок. На улице дождик. Я совсем-совсем промок.
- Сдаюсь. Разжимаю пальцы,
- Обязан улыбаться,
- Как в объективы папарацци.
- Белые тридцать два братца.
- Вот вам мой здоровый кальций.
Теплыми щупальцами она обволакивает мои пальцы. Как и все вокруг, руки мамы противоречивы. Только они могут быть грубыми и нежными одновременно.
- Грубыми внешне, нежными внутри.
- Грубыми от работы, нежными от любви.
– Молодец. Вы поговорили?
– Да.
– Хорошо… Это хорошо, – выдыхает она, будто я сдал экзамен. – Если не хочешь, не рассказывай. Главное, что вы…
– Он рассказал про нефтевышки. Что они закрываются. Многих увольняют. – Дверь свистит. Меня это злит. – И то… что у него есть сын. – Обдумывая наши роли по дороге домой, я решил, что ребенок скорее его сын, чем мой брат. – Он сказал, что ты все знала и не хотела, чтобы я знал…
Ты облажался, червячок. Пошел быстро в уголок! Или раздавит кулачок.
– Даня, – говорит мама. – Да-а-аня. Дыши.
Я дышу.
– Какие дать? Розовенькие?
Я мотаю головой.
– Желтенькие?
Я киваю.
Мама, продолжая держать меня одной рукой, другой достает с полки с посудой баночку с капсулами «все не очень хорошо» и рассыпает передо мной несколько штук. Она не помнит, какие мне нужны и в каких количествах. Раньше помнила, но ее лечение теперь мешает моему.
Запиваю две капсулы водой из подсунутого стакана.
– Все хорошо. Все хорошо, да?
Я падающая с неба снежинка. Я картина за стеклянной защитой в музее. Я далекая вечная холодная звезда, которой плевать на все. На черные дыры и взрывы планет.
– Все хорошо.
– Точно?
– Можешь отпустить руку.
– Да. Прости. Я ошиблась. Надо было сразу тебе сказать.
– Надо было сказать как есть. И все.
– Да. Ты прав. Какой он?
– Нормальный… – Я подбираю правильное слово для лучшей смысловой цепи. – Всем нравится. Вроде. Много улыбается. Нормальный учитель.
- Твоей жизни грабитель.
- Лицемерия и трусости обитель.
- Костей нашей семьи дробитель.
- Дверь свистит.
- Окно трещит.
– Я скажу коменданту, – говорит мама. – Попрошу поменять в двери уплотнители.
– Дверь наша. Мы же сюда переехали.
– Тут все по-другому. Это же общежитие. Завтра я уточню.
– У нас т-т-туалет и душ общие. А д-дверь наша. Хоть д-дверь тут должна быть наша!
Я встаю с намерением уйти в свою комнату и закрыться. Но своей комнаты уже нет и закрываться негде. И нечем – двери тоже нет. Под столом больше нельзя – не влезу. Под покрывалом тоже – оно взрослых не защищает.
Кабинет предыдущего психолога мне нравился больше. Потолок был выше, стены шире. Стены были белые – не было шкафов с документами и скрипящих полов. Не было всякого барахла вокруг.
Предыдущий психолог тоже нравился больше – Александра Пална была красивой женщиной. Она ухаживала за собой, либо в генной игре в кости ей выпали шестерки. Мне единички. Худшее от мамы, худшее от отца. Хоть мама и говорит, что у меня его красивые глаза. И фоточки его показывала, но он совсем не казался моим отцом. Какой-то другой мужик. Просто другой – красивый, будто актер, который примерно до семидесяти будет играть молодых красавчиков.
Александра Пална умная. Обучилась в Москве и вернулась в Кинешму из-за больного отца. Они столкнулись с мамой в больнице. Мама ложилась, а Александра Пална в очередной раз забирала после выписки отца. Он собирался умереть еще три года назад, но зачем-то продолжать жить и мучиться после каждого мочеиспускания. По состоянию на сегодня отец все еще жив, а это значит, что мой взрослый, но молодой и очень красивый психолог все еще в Кинешме, и в теории, если мама одумается, мы вернемся. Вот будет обидно, если мы вернемся, а отец Александры Палны вдруг умрет. Мы к ней, а она в Москву.
Новый психолог – Наталья Аркадьевна – нравится меньше, как минимум потому, что с ней придется заново знакомиться. Для меня это всегда сложная задача. Это, как правило, предполагает, что человек ответит взаимностью и захочет стать частью моего мира. А в свой мир я бы никого не пригласил. Я хочу в мир Карины, но моего мира ей лучше не знать.
