Цыганкино кольцо, красная смальта
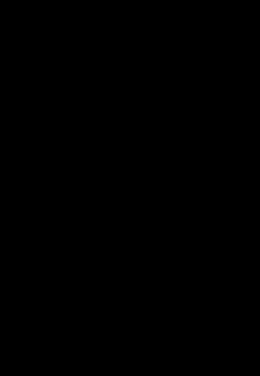
I
1. Первое воспоминание о Курпинке связано со смертью Дедушки
Дедушка умер в Курпинке, в сосняке, где земля была сухой и мягкой, как хлеб, и на много метров вглубь перемешанной с сосновыми иглами, где рыли погреба, и вода никогда не просачивалась в них, где всегда стоял вечер от густых зарослей акаций и вечно пахло смолой, источаемой соснами. Последнее время дедушка не спал лежа – постоянный «шум воды» в голове усиливался, когда он ложился.
Он научился спать сидя, прислонившись головой к стене, и часто засыпал так и днем. Закрывал глаза – медленно, многими складками опускались его веки, и опустились в последний раз, когда он сидел под сосной за столом, который сам сделал. Он медленно, боком упал со скамьи на сухую и мягкую землю, в шум ревущей воды. Опустился в воду, и она уже не шумела. Утонул в смерти.
Когда дедушка заболел и третий день не пошел на пасеку, бабушка отвезла нас с моей двоюродной сестрой Мариной на лошади в совхоз, к дяде Василию, и вернулась к дедушке, в Курпинку.
Она увидела его под сосной, издалека, спрыгивая с трясущейся телеги, удивилась, почему у дедушки голова в земле, и завыла, когда поняла, что это муравьи начали погребать его, созидая у головы усопшего свой дом. Пасека с трех концов ответила ей воем, потому что все три цепные собаки уже кусали свои языки от жажды и ждали хозяина или смерти – не принимали еды и питья из других рук.
В день похорон нам велели не выходить из спальни дяди Василия и тети Веры, не играть и говорить шепотом. И мы нашли под кроватью зеленые помидоры и уже не слышали, как стонут в зале и говорит монашка, как не слушали никогда гула пчел и тиканья будильника. Иногда дверь открывалась – и заходили старухи в черных платках, целовали нас с Мариной прокисшими губами, спрашивали, жалко ли нам дедушку и когда приедет моя «мамка». Старухи уходили, и на паласе оставался нафталин от их траурных платьев, причитания приближались, и голос монахини черным крылом задевал дверь спальни.
Мама тоже приехала в день похорон. Я увидела в окно, через толстые жилы ливня, как она выскочила из чужой легковой машины и, вся в черном, не надевая светлого плаща, а держа его, сразу же прогнувшийся, над головой, побежала к калитке, и каблуки ее на каждом шагу увязали в земле, как в воде тонули, а чулки ее быстро темнели.
И я побежала ей навстречу, а тетя Вера поймала меня поперек живота, обняла лживо, потому что как мама, но не мама, и не пустила.
Мама не вошла в дом, а во дворе загудел и сразу поехал КамАЗ, и там на лавках под брезентом вокруг дедушки сидели все – и бабушка, и Марина, и мама, – а меня увела на пропахшую газом кухню тетя. И я кричала до тех пор, пока не вернулись все, кроме дедушки. В эти три часа я оплакала свою свободу встречать, обнимать, видеть, хоронить, скорбеть и не слышала шума падающей, разбивающейся, бегущей воды.
Я не помню лица моей тети до того момента, как она, сама чуть не плача, стала пытаться утешить меня, разрываясь между плитой и террасой, где старухи-помощницы чистили и резали овощи, усыпая очистками свои фартуки и опухшие ноги. В эти три часа я запомнила тетю – молодую, по локти мокрорукую. Ее короткую стрижку, розовые ноздри, дрожащие как лепестки, и карие коровьи глаза, и мелкие зубы, и тень на шее от выступающего подбородка, и цепочку, звенья которой блестели, как капельки пота, сбегая за воротничок, и маленькое золотое крыло креста, вылезшее между двумя пуговицами коричневой блузки. Тетя Вера давала мне погрызть морковку и помешать салат, и я возненавидела ее за эти три часа.
2. Мама приезжала и привозила подарки
Мама приезжала и привозила подарки – всё мне и Марине одинаковое, новое, с чужим запахом Москвы и магазинов.
То, что дарила мама, Марина и бабушка называли «гостинчиками».
Маму привозил брат, дядя Василий, папа Марины. Он подбрасывал ее под потолок – а меня мама не давала – и катал нас в кабине КамАЗа, где было грубо и уютно, и Марина сигналила, а теленок в сосняке трубил в ответ.
У мамы были: косметика, чемодан пропахшей духами одежды, этюдник и краски. По утрам мы просыпались от нежных и едких запахов и видели маму за столом, потому что дверная занавеска была уже отдернута. Мамино лицо светилось от не успевшего впитаться крема, и зеркало в ее руках тоже светилось, отражая солнце в окне. Мама писала акварелью пейзажи и каждый палец вытирала платком. Она развешивала пейзажи по стенам, и на листах ватмана видны были потеки. Мамин приезд означал: скоро она увезет меня в Москву.
Мама водила нас гулять далеко. Она клала в корзину перочинный нож, фляжку, завернутые в газету хлеб, вкрутую сваренные яйца и крупную, как бисер, соль в спичечном коробке. Мы звали Тузика и отправлялись в Сурковский лог. Долго шли по темному лесу, хныкали, то и дело снимали паутинки с лица, мама обирала с нас колючие липучки и репьи. Мы садились на все склизкие трухлявые бревна, чесались, просили есть и пить.
Но наконец лес светлел – берез становилось все больше, мы ступали по истлевшим веткам, и они, как мел, крошились под нашими ногами. Оказывалось, мы на горе, и, чтобы не бежать, приходилось хвататься за мягко мерцающие стволы.
Ветер трепал на березах тонкую зашелушившуюся кожицу, которая легко сдирается, и в воздухе стояло плескание тончайших крыльев.
Желанно и неожиданно расступались березы, и мы видели Лог. Это была зеленая ладонь – от пяти холмов уходили в леса и совхозные сады пять дорог, как пять пальцев, три ручья линиями жизни, ума и сердца истекали из одного родника, скрытого в заболоченной ложбине. Пастух гнал стадо по линии судьбы, и мы видели, как медовые коровы покачиваются на тонких ногах.
Мы сбегали в Лог как бы с запястья, и мама сходила следом, трогая березы и качая корзинкой. То тенью было покрыто ее лицо, то, будто тень уносил ветер, светом невозможным сияло.
Когда мы спускались в Лог, оказывалось, что стадо далеко, а сверху виделось, что рядом, и едва слышались хлопанье кнута и коровьи мыки, как стоны. Мы шли к роднику по линии жизни. Вода текла прямо по лугу, и травинки извивались в ней как живые, ползли на месте, всхлипывали под ногой и приподнимались, уничтожая след. Тузик бежал по ручью, опустив в него язык, и язык плыл по траве. Мама раздвигала острую осоку, и под вымытыми из земли корнями лозины, меж двух камней мы видели глинистое донце, покрытое серой дрожащей водой. Рыжий и крупный, как труха, песок возле родника был изрыт – мама показывала нам следы лисы и кабана. Древесный сор – веточки, частицы коры и отжившие листья – падал на родник и, повращавшись в нем, выплывал в устье одного из ручьев; задерживался там и бился, зацепившись на порогах, образованных корнями, и тихо отходил, и уходил по масляной траве, по мягкой воде.
Грибы жили на крутых склонах холмов, поросших ельником и осинами. Пологие склоны шевелились цветами, теплыми от солнца. Мы с Мариной ложились на вершине холма и, закрыв лица руками, катились вниз. Перед глазами красная мгла сменяла зеленую. Что-то кололо, хлестало, ласкало, липло – и оставалось выше. Казалось, что катишься быстро, долго и останавливаешься вдруг не внизу, а на каком-то бугре, всегда лицом вниз. Переворачиваешься на спину, думая, что покатишься дальше, и удивленно понимаешь, что лежишь на ровной земле, у самого подножия холма, а небо поворачивается над тобой и никак не может повернуться. А с холма налетело влажное дыхание, теплый запах псины, и Тузик, наступая мне на руки, встал надо мной, и с мольбой и тревогой уставил на меня каре-розовые глаза из-под черных ресниц, и, как тряпочку, уронил мне на лицо язык. Я завизжала и толкнула его в скользкий, как масленок, нос, вскочила и увидела, как медленно скатывается с другого холма Марина и кузнечики сухими брызгами прыскают вокруг нее.
На одном холме росли «корольки». Мы рвали красные яблочки с желтой начинкой и ели их, вяжущие рот, просто от жадности, потому что они были маленькие – на три укуса. Марина сказала: «Эти яблочки колдовские. Кто съест – станет царицей. А царица – это самая красивая во всем, во всем… на всей земле самая». И мы ели, ели яблочки и с холма кидали огрызки. Мамин грибной ножичек сверкал в ельнике, будто там прыгал большой серебряный кузнечик.
Так хотелось благодарить кого-то, и, не знающие молитв, мы пели песню «Широка страна моя родная…», а пастух гнал уже стадо по одной из дорог и что-то кричал, беззвучно хлопая кнутом, но не слышали мы и не знали – что.
Однажды мама увела меня так далеко, что ноги болели, и я садилась и садилась на обочину. Мама взяла меня на руки и несла, и я видела, что сзади дорога, и деревья, и поле, а потом отвернулась и, когда снова взглянула назад, – вместо дороги стала Белая Земля. В ней были белые камни, а вдали – дома. Но набежала тень, и Белой Земли не стало – опять только дорога.
Мама смутно помнила, что было такое – каким-то летом ходила она со мной к «Победе», но что было у меня там видение Белой Земли – не знала. А Марина поверила моему рассказу, и мы несколько лет подряд просили и просили маму отвести нас к Белой Земле, и Белая Земля снилась Марине.
Мама приезжала, и это значило, что скоро мы с ней уедем в город.
Мне разрешили сидеть, свесив ноги с телеги, и очень скоро, уже у поворота на Малинник, мне натерло поджилки. Но я все равно сидела по-прежнему, и грязь с колеса прыгала мне на колготки.
Дом был моим Домом по незаконному праву чужеземки. Каждую осень я уезжала оттуда навсегда.
Дома давно уже не видно, и не видно сосняка, скрывшего Дом, и не видно Курпинского Леса, скрывшего сосняк. Вот не видно и Малинника, скрывшего Лес. Уползают от меня поля, отшатываются деревья, на мгновение мелькнул один из холмов Лога, и что-то нехорошее случилось с моим сердцем – тоска сжала его.
3. Первая ревность
Был еще жив наш первый сторож дядя Ваня Любов, и я с ним и с бабушкой сидела возле Дома.
Солнце заходило, сосны стали телесного цвета, и мне казалось, что они похожи на четыре пальца, показывающие мой возраст. Выпуклый портрет на дедушкином памятнике-кенотафе отражал низкие лучи, пронзившие Старый Сад.
В большом мятом тазу бабушка чистила грибы, и, мокрые, они скользили в ее руках и ворочались, и острый нож крошил их и рассекал, и обрубки плавали в тазу.
– Лето дождливое, грибы зачервивели, – сказала бабушка.
Дядя Ваня плюнул:
– Все становится хреново.
Он курил вонючую папироску, и, когда затягивался, его щеки в белой щетине глубоко западали.
– Глянь, что есть. – Бабушка показала дяде Ване серый гриб, весь трухлявый.
Дядя Ваня молча кивнул.
– Ба, покажи мне!
– Смотри. – Бабушка бросила гриб мне на колени, и он распался, рассыпался.
– Кто же у вас такие грибы берет?
– Девочки наши, припевочки, цопают не глядя.
Дядя Ваня стряхнул себе на сапог пепел и сказал:
– Вот Иван Васильевич ушел, а как все мы, старики, уберемся, никакой не будет жизни…
– Не говори…
Сад потемнел и придвинулся, дедушкин памятник скрыла тень.
– Как жила я молодая… Вот была у нас жизнь, – сказала бабушка и разломила свинушку. – Бегала я как птичка… Жили на Смоленщине, богатый двор был, всего было много… Это мы потом обеднели, когда раскулачивать стали, войны пошли… Девка я была бедовая, поклади себе не давала. Бывало, ключи от кладовки украду у бабки – она прячет на притолоке, а я вижу, она на двор, а я – цоп. Заберуся туда, наберу всего-всего – сала и колбасы, матка моя колбасу набивала и сыр варила, хлеба возьму краюху, припрячу все это добро на сеновале, зарою, зарою и зову подружек, парней, пойдем, мол, в лес, погуляем. Придем ночью, а я под кофту запихаю все туды и ташшу, как с брюхом. Ребяты костры разводили, тоже кто что достал где, разложим – и пир у нас. Есть – ели, а не пили, не было у нас в молодых такого недостатка.
Бабушка и дядя Ваня как будто постарели – вечерние тени углубили морщины, и блеск глаз пропал.
– Но открылася эта дела – замечать стали, не то что-то, – исчезает добро, и не знают, где делася. Батя на Петра думал, хотел прибить, да я созналась. Я, мол, ключи брала – и деру. Четыре ночи домой не ходила, голодовала, у Клавки на сеновале хоронилась. Потом сестра пришла, «Иди, – говорит, – батька сказал, драть не будет, но если еще что пропанет – худо тебе придет».
– Да и у нас тут знатно было, – сказал дядя Ваня. – День наработаешь, рук нет, ног нет, а домой приполз, мамка есть дала – и откуда сила?! Умылся, рубаху сменил и – на мотанье – в другое село ходили. Час туда, час оттуда, иной раз домой захожу только воду глотнуть и – на работу.
– А мы-то что чудили! – Бабушка ногой отодвинула таз, вода плеснула темно, и нож утонул, рыбой ушел вниз, сомкнулись над ним гладкие шляпки. – Раз была такая дела… а было нам лет по малу, совсем были дети еще, выследили наши ребята двоих – бабу с мужиком. Встречалися они в бане, за селом туды, баба она была гулящая, а мужик пьянчужка, дайкося подносила ему – вот и бегал. Вызнали мы про них – и что же? Взяли лопаты, заступы и в кустах затаилися. Глядь – они прошли, поговорили чуток на улице, в баню – и затихли. Мы вышли и на дорожке тама стали рыть. Всю ночь рыли, со всей моченьки, а земля каменная, убитая. Вырыли мы яму, сеном прикрыли и в кустах легли, тяжело дышим, а дых сдерживаем, ждем. Что же, идут они, спешат и в яму нашу – кряк! Аж костьми затрещали – во какую глубоченную сгондобили. Ох, они испугались! Мужик говорит: «Это небось ребятишки». А потом подумали-подумали и: «Нет, – говорят, – дети это не могли, это ктой-то взрослый вызнал про нас». – «И давай-ка, – баба говорит, – мы с тобой разойдемся, пока хужее чего не было нам».
– Во как!
– Да. Раньше суд людской был, а теперь…
Бабушка поднялась и унесла таз в Дом, брызнула вода на лавку. Стемнело совсем, и комары медленно проплывали у моего лица, как пепел. Я смотрела на дядю Ваню, уже не различая черт. Он не курил больше, посмеивался и чем-то шуршал в кармане.
– Ну-ка, – сказал дядя Ваня и протянул мне что-то.
Я спрыгнула с лавки и подошла. Распечатанную пачку нюхательного табака держал дядя Ваня на черной ладони.
– Хочешь нюхнуть?
Я почувствовала подвох, затосковала и оглянулась на дедушкин кенотаф. Голубая ограда была серой в темноте.
– Хочу.
– Дай руку.
Дядя Ваня высыпал на мою вспотевшую ладонь несколько крошек табака, похожих на лошадиный помет, и зажал мне одну ноздрю пальцем.
– Ну-ка, вдохни!
Я потянула носом, но крошки прилипли к потной ладони.
– Никак? Да ты глубже, тут чуток.
Но я медлила, надеясь на спасение – вышла из Дома бабушка, серую кофту накинула на плечи.
– Испортишь ей нос, пынзарь! – Бабушка толкнула в лоб дядю Ваню. – Схватился, твои ляды!
Мы сидели на лавочке в темноте и смотрели на зарницы.
– Опять дожди, чтоб их там на небе замочило, – сказала бабушка.
– Не гневи, Дуня, Бога – шандарахнет…
– Да, Господи, прости Ты нас грешных. – Бабушка перекрестилась и зевнула в кончик платка.
Наступила великая тишина. Всякое движение прекратилось на земле и на небе, и только зарница бледно проступала на одном и том же месте, проступала и исчезала.
– А вот, – сказал дядя Ваня, – от умных людей слышал я, что есть в Библии книга «Окалелипсы». Страшное там написано, кто читал – поседел.
– Что же? – спросила бабушка.
После молчания голоса их стали глуше, ниже.
– А вот что перед концом света родители и дети друг друга знавать не будут, сестры и братья знаться перестанут, звезды опанут и саранча все пожрет.
И я увидела, как упала звезда… Днем мы нашли с мамой в поле саранчу, гораздо больше кузнечика… Она лежала, объевшаяся, и не хотела прыгать.
Я убежала в Дом. Там, в кромешной тьме, на полатях спала мама. Я слышала ее милое дыхание, нагнулась и ощутила тепло, исходящее от кожи. Рядом, подкатившись маме под бок, спала Марина, и по ее дыханию я поняла, что рот у нее открыт, а нос заложен.
И в первый раз ревность ударила мне в сердце, и предощущение всех утрат заставило меня сесть на пол и реветь, засовывая пальцы в рот, чтобы мой плач не нарушил ровного дыхания спящих.
4. Первая вражда
После смерти нашего дедушки на пасеке каждый год менялись сторожа.
Одно лето мы боялись Деда. У него в голове была вмятина, которую он закрывал кепкой, и не все пальцы на руках. Зуб торчал только один, спереди, и нам казалось, он деревянный. Мы старались не встречаться с Дедом в темном тамбуре или коридоре, а встретившись, сразу убегали куда-нибудь подальше, одинаково подпрыгивая, только Марина взвизгивала, а я от страха немела.
Дед определенно вредил нам.
Однажды, когда мы играли в сосняке, он подкрался к нам незаметно и зарычал. Мы бросились к Дому напрямик, через колючие кусты акации, и слышали, как Дед засмеялся нам вслед страшным голосом. Но наша сторона не осталась в долгу. Через несколько дней Дед рассказывал бабушке, что ночью он «напугался до Кондрата».
Дед, как и все наши сторожа, спал в шалаше на пасеке. Шалаш построил наш дедушка, сплел прутья так плотно, что дождь не проникал внутрь, сделал из прутьев лежанку и стол.
В первом часу Дед вышел послушать на Дороге и вдруг заметил, что ветки калины у дедушкиного памятника шевелятся и калиновая гроздь стучит по ограде. Дед пошел было посмотреть, не спрятался ли там кто, и вдруг что-то рыжее, как бы горящее, «с мертвым криком» проскользнуло сквозь прутья ограды и, обдав Деда жаром, улетело в Старый Сад. Не успел Дед опомниться, как второй черт, совсем обугленный, с таким же криком выскочил и поскакал вслед за первым. Обождав немного, Дед подошел к кенотафу и обнаружил помятую календулу и клок рыжей шерсти у корней калины. Куст не качался больше, и кисть зеленых ягод застыла. Тогда Дед решил, что это одичавшие коты дрались здесь и черный подрал рыжего.
Но мы с бабушкой поняли, что это наш дедушка отгоняет от нас Деда: «Не любил покойник Федьку, не доверяет ему», – сказала бабушка.
И мы сделали что могли: наплевали на Дедову ложку и потерли ее о подоконник. К ложке немного прилипла побелка, но Дед не заметил и ел. Побелка немного растворилась в супе, а Дед ел. Хлеб он держал левой, однопалой рукой, единственным, большим пальцем с синим ногтем прижимал кусок к ладони.
Дед сидел в пиджаке, и медали, которые он к нему намертво пришил, чтобы не потерять, гремели, ударяясь об стол и об тарелку, когда Дед наклонялся.
– Тише ты тряси своими орденами, – сказала бабушка, – всю посуду раскандочишь.
Дед отодвинул тарелку и стал, обращаясь к нам, ложкой показывать на медали:
– Смотрите, девки, какие награды у деда Феди: это вот две – «За отвагу», «За оборону Сталинграда», вот, это они называются так, а получать-то их – ой! Я из плена три раза бегал, вон сколько мяса по земле разбросал. Ваш вот дедуня тоже в плену был…
– А ну, – сказала бабушка, – поели – расходись! Будут теперь языком последние зубы шатать.
Сразу после ужина, часов в шесть, Дед убирался в дедушкин шалаш и спал там, чтобы сторожить ночью. Пчелы уже не ходили, не жалили, и бабушка научила нас подбегать к шалашу и кричать сквозь прутья: «Федор Иваныч, снимай штаны на ночь!»
В другой раз, застав нас в Доме без бабушки, вредный Дед сказал, что не выпустит нас гулять, пока мы не выучим стихи: «Камень на камень, кирпич на кирпич, умер наш дедушка Владимир Ильич», – и дальше. Мы, конечно, знали Ленина, но решили не предавать нашего дедушки и говорили: «Иван Васили’ч». Дед смеялся, и мы решили сказать про это бабушке.
Чтобы развлекать нас, бабушка ловила нам рыбу в Сажелке.
На рассвете, когда Дед не видел – чтобы не сглазил, – она находила в кустах ракиты плетенную из прутьев вершу, загружала в нее поджаренный ржаной хлеб и топила. Вечером, когда Дед спал в шалаше, мы втроем шли «за рыбкой». Бабушка садилась на мостки, снимала тапки и баранками скатывала чулки, потом узлом завязывала полы халата и, ругаясь, лезла в воду.
В сверкающих прутьях верши билось пять-шесть худощавых рыб. Мы делили их поровну, опуская в свои железные ведерки для песка, а если была нечетная, «без ссоры, без спора» выпускали.
Бабушка швыряла лишнюю в пруд, стараясь, чтобы она еще подпрыгнула на воде, изогнувшись подковой.
Рыбы, серебряные в верше, в наших ведерках тускнели и покрывались серыми пятнами. Они ложились на узкое дно и одна с другой переплетались, и черные хребты их подрагивали, и глаза их мутнели, и рты их вытягивались и даже размокшего хлеба не ловили. И от наших любопытных пальцев отворачивались рыбы.
Бабушка жарила рыбок, если попадались крупные. Чаще, уже сдохших, отдавали собакам.
Как-то я при Деде проговорилась, спросила за ужином бабушку: «Когда пойдем рыбку вынимать?» Бабушка цыкнула на меня, Марина рот себе руками зажала, а Дед притворился, что не слышал, но в тот день верша оказалась пустой.
Дед вез нас с бабушкой на телеге, из совхоза, и блики от его медалей бегали по лошадиному крупу.
– Был такой приказ, – говорил Дед, – не даваться в плен – стреляйся или беги. Окружили нас на бо-лоте, троих, старшину и рядовые мы двое. Старшина стрельнул себе в ухо, и я хотел, а рука стала как не моя – нет ее, и всё, что есть в руке у меня, – не знаю, чутья нет. Гляжу на другого, Ваську, а он уж оружие отбросил. А как взяли – не помню. То ли сознание потерял, то ли память вышибло, а очухался только потом. Я из плена бежал…
По Дороге через Малинник лошадь всегда бежала быстрее – ветки придорожных дубков задевали ее бока, и не было там ни света, ни деревьев, ни тени – только пятна золотые, зеленые и серые и солнце, не оставляющее нас и не приближающееся к нам.
– Бежал, – сказала бабушка, – бегун какой, не снесли тебе всей головы – корешок чуток оставили.
– Это каждый как мог, бежать либо не бежать – это кто как мог. Я вот так, а многие и до конца пробыли, и Иван твой не хуже других, кто знал, как выйдет-то…
– Но! Чтоб твои копыта отскочили. – Бабушка сломила дубовую ветку и хлестнула лошадь, мы повалились на сено, тут же поднялись, и я взяла ветку – резные листы дуба были источены, и юные желуди уже подгнили.
Ранним утром, в лютый ливень, уложивший календулу у дедушкиного кенотафа, Дед в черном брезентовом плаще уехал в совхоз к сыну, и телега плыла в дорожной грязи, как сани.
Ливень посбивал невызревшие ягоды калины.
– Захворал Хведор, – сказала нам бабушка, и этим утром из-за ливня не ставили вершу.
Дед умер, и сторожем дорабатывал лето Шмель, круглолицый румяный парень. Целыми днями он дремал в шалаше, а ночью его посещали гости. Мы с Мариной подкрадывались к шалашу, даже когда и пчелы еще ходили, и смотрели на Шмеля сквозь сухие прутья в щели, которые сами проковыряли. Он лежал, осененный тенью, как сетью, и черные пушистые брови его, на шмелей похожие, вздрагивали во сне. Иногда он просыпался, долго открывая глаза, как бабочка расправляет намокшие крылья, и тогда мы заходили.
Шмель лежал и делал вид, что нас ловит, а мы убегали с визгом, бросая веточки, которые принесли его «щекотить».
Мы не знали, что Шмель – младший сын Деда.
5. Наш цыган
Мы с Мариной сговорились уйти из Курпинки, где жили у бабушки, в совхоз «Инициатор», к ее мамке и папке – дяде Василию и тете Вере.
Утром бабушка отправилась на пасеку, а мы сами, одни – в «Инициатор». Думали, не собрать ли с собой еды в дорогу – например, намазать хлеб медом и вареньем, – но бутерброды надо нести в чем-то, а у нас не было ничего. Поэтому мы пустились в путь так, размахивая руками и радуясь, что от этого не так жарко. Мы шли без взрослых и пылили ногами, оставляя такие следы, как если бы ехали на лыжах, не пользуясь палками.
Сухая пыль проникала в сандалии – ступни быстро стали похожи на картофелины и чесались.
Развлекаясь пылью, размахиванием руками и почесываниями, мы дошли до первого поворота и увидели на дороге запряженную телегу с седоками.
Сначала мы не придали этому значения – кто-то ездил семьей косить. Однако телега не трогалась с места, и люди смотрели на нас с каким-то странным интересом.
– Цыгане! – догадалась Марина.
На меня, как кирпич на голову, свалился страх. Мы оцепенели, внутри стало холодно. А зрение словно улучшилось – или испуг позволил нам забыть о бестактности и приняться разглядывать в упор незнакомых.
На телеге сидели две женщины с малышом и парень, у вожжей – мужчина. Он обернулся на нас через плечо и поэтому напоминал горбуна. Лицо его казалось черным от поросшей на нем шерсти, а лошадь, похрапывая, иногда воздевала метелочный хвост над его шевелюрой.
У них у всех сияли головы: металлом зубов в улыбках, люрексом и стеклярусом в платках, серьгами, какие не купишь в магазине, медью кожи и серебром глазных белков. В те далекие времена цыгане были похожи на индийцев и на индейцев из кино и в костюмах сочетали очень странные, видимо, самодельные вещи с таким же барахлом, какое было и у всех.
Женщина смотрела на нас то ли улыбаясь, то ли щурясь и скалясь, словно за нашими спинами стояло солнце.
У нее на шее сверкала дорожка пота, как металлическая цепочка, она убегала в ворот футболки с застиранным олимпийским мишкой, а юбка, скрывающая колени, казалась нездешним многослойным цветком, и замызганность только делала его еще более настоящим.
Вторая женщина была подростком, как я понимаю сейчас; русые пряди, светлее загорелого смуглого лица, наплывали на ее щеки так, будто она спрятала под ко-сынкой птицу, а крылья ее не поместились. В руке у нее горело углем маленькое красное яблоко. Мы даже знали, с какой китайки оно – с той, что на Ямах, кислое. Значит, ехали из Слонского.
Нам не раз говорили взрослые, что цыгане нас украдут, если мы будем уходить далеко одни, и вот, пожалуйста. Они услышали наши голоса на дороге и остановились, притаившись за поворотом.
– Эй, девки, купите цыганенка! – крикнула старшая женщина. – Смотрите какой! – И она подняла под мышки и показала нам годовалого малыша в красной рубашке с обслюнявленным воротничком. Его черные кудрявые волосики синели на солнце, свешивались яблочки щечек, а бессмысленные и одновременно умные глазенки чернели как смородинки.
– Ой, какой хорошенький! – У Марины голос стал тонким. – Купим, купим!
– Но у нас ничего нет! Хотите, мы вам яблок наберем?
Цыгане засмеялись, громче всех парень с длинной, как у гусенка, шеей и глубокими, как кульки для семечек, надключичными ямками.
– Нет, девки. Яблок мы и сами наберем. Бежите домой за деньгами.
– У нас нет денег! Давайте мы вам бутерброды сделаем с медом и вареньем?
– Давайте! Бежите скорей! – велела женщина сквозь общий смех с телеги.
И мы побежали. Мы задыхались, сгибались на бегу, зажимали ладошками схваченные резью селезенки, но бежали.
Дома мы порубили весь батон, и у нас получилось четыре куска – по одному на человека. Два щедро полили клубничным вареньем через край миски, два – медом из начатой трехлитровой банки. И понесли в руках. Банку открытую оставили на столе, некогда было воевать с пластмассовой крышкой, и так еле сняли.
Мед и варенье капали сквозь пальцы то на платье, то на ноги, то на дорогу, в пыль, несколько мелких насекомых неизвестно как и когда оказались впечатанными в бутерброды, солнце янтарной бусиной забилось в мед и плавило его, плавило…
Марина уронила один бутерброд, лицевой стороной вниз, и поднять его у нас не хватило мужества, но мы решили, что и трех бутербродов хватит. Собственно, мы несли уже не совсем бутерброды, а что-то очень красивое, жидкое и блестящее, то ли смальту, то ли просвеченные лучами витражи.
Телеги не было.
И мы поняли, что с самого начала знали: они уедут. Но хотелось верить в чудо.
Шли обратно, ели полужидкие бутерброды, облизывали руки до локтей, чтобы избавиться от липких дорожек, уже со вкусом пыли.
– А варенье все текёт с бутерброда! – сказала Марина, указав ногой на лежащий на земле ломоть.
Это текли муравьи и еще какие-то козявки.
Мы и забыли, что собирались в «Инициатор».
И хотя не купили цыганенка, но почему-то решили, что купили. Ведь мы так много сделали для этого! И время от времени вспоминали и рассказывали эту историю о покупке, и какой был цыганенок хорошенький, и что теперь где-то кочует «наш» цыган.
6. Последнее воспоминание о брошенном Доме
Единственную жилую комнату в Доме разделяла на две половины голландская беленая печь – мы вечно пачкались об нее, так хотелось прислониться, прижаться к теплой неровной стене, когда за окном без шторок студнем качался ливень, и солома у коновязи на глазах краснела – прела.
На скрипучей кровати у стены спал дедушка. Ночью его мучила бессонница, и спал он днем всякую свободную минуту. Дедушка мог сказать себе: «Полежу без четверти часок», ложился на голый матрас, в сапогах, завернувшись в телогрейку, засыпал тотчас же и просыпался ровно через сорок пять минут. Дедушка храпел, а мы шептали: «Огонь, пли!» перед каждым всхрапом и зажимали себе рты, чтобы не разбудить дедушку смехом.
На подоконнике хрипло тикал большой будильник с римскими цифрами – в застекленном циферблате отражалась целиком моя голова. Пахла керосином керосиновая лампа.
Пучки сушеного зверобоя висели на нитках, и через день появлялась на них паутина.
У окна стоял кухонный стол под затертой клеенкой, с двумя ящиками и двумя створками. В ящиках пахло клубничными карамельками, которые отсырели, высохли, срослись с полинявшими фантиками и стали похожими на обмылки.
Там же лежали наши цветные карандаши, все тупые и поломанные, почти у всех грифель вылезал с незаточенного конца, и, рисуя, приходилось придерживать его пальцем.
Еще в ящиках лежали таблетки, спички, нитки, ловушки для пчелиных маток, пробки и дедушкины бумажки, все покоробившиеся.
В нижнем отделении стола пахло медом и хлебом. В жестяных мисках там всегда стояли мед и варенья на меду, а в них – крошки хлеба, обросшие пузырьками.
Всегда была там и бутылка водки для гостей, и, если она оказывалась начатой, мы с Мариной в шутку доливали в нее воду.
Красный Николай Чудотворец одиноко висел в недосягаемом углу, под самым потолком, и не заведено еще было молиться.
Глухая занавесь делила комнату на две половины. Вторая, темная, была нашей спальней. В окно, заколоченное фанерой, скреблись и бились от ветра полынь и крапива. Даже и днем в спальне стоял полумрак и воздух был плотным, как дым.
Спали мы с бабушкой «на полатях» – так назывались плотно составленные ульи, покрытые пуховой периной, мягкой как творог, и телогрейкой.
Утром бабушка забирала телогрейку – зябла она после сна; а когда мы просыпались, телогрейка была уже на месте и пахла сыростью, сеном, пасекой.
В спальне постоянно находился таз, он стоял в точном месте, и в него капало с потолка.
Тут же в спальне «доходили» яблоки, желтые и зеленые. Были они в развязанных мешках, чтобы брать удобно, и всегда несколько с побитыми боками каталось по полу. Бабушка их пинала, ругала «Чтоб вас замочило мокрыми пирогами» и бросала в мешки, а они выкатывались опять.
Ночью мы прижимались к бабушке, боясь в темноте ослепнуть, и прислушивались к ее дыханию, потея от страха и жары, и раскрыться было страшно – схватят черные руки.
А когда мы просыпались и на улице был уже свет, а у нас – полумрак, мы в презрении к ночному ужасу пытались напугать друг друга и водили руками в воздухе. В полумраке руки слабо светились и ходили, как рыбы.
7. Курпинка больше не наша
– Мы пойдем в Курпинку?
– Чего туда ходить? Что тама? Не ходи туда – далёко…
Бабушка томилась в доме дяди Василия в совхозе. В темной спальне, среди сырых ковров и паласов, она качала железную колыбель и пела:
– Что в садочке на кленочке желта роза расцветала…
Розовое, страшно малое, дремало в белом бутоне одеяльца.
Мухи ходили по откинутому тюлевому пологу.
Я сидела на цветастом покрывале чужой кровати.
– Хто тут есть живой? – К бабушке пришла ее кума – колчанка, одетая в черное, как все колчанки, в по-особенному повязанном платке.
Грудь ее была завешена разноцветными бусами – одни крупнее и ярче других. До самого впалого живота ниспадала стеклянная елочная гирлянда. Так убирались только колчанки – старухи из села Колчаны, заселенного когда-то крещеными татарами. Носили они кустарные стеклянные бусы своих прабабушек, из старых сундуков. Мне уже было семь, я все знала про колчанок и не удивлялась им.
– Заходи, Ксен. Внученьку мою видала?
– Неть еще. Красотулячкя. Вся в бабю.
– Да иди ты! Она ихней породы – хомяковской.
Появление кумы-колчанки считалось в доме дяди Василия нехорошим знаком. Колчаны говорят не как все – сильнее якают, будто издеваются, и смягчают все окончания, как малые дети. «С колчанами водиться – страмотиться», «они немуют, немтыри». «Как не люблю я Ксенцу привечать, – говорила бабушка, – припрется – и сидит, и сидит, никак ее не спровадишь».
– Дунь, а как же могиля-то Ивановя? – говорила кума-колчанка, и бусы ее валились в колыбельку.
– Как? Да так: все на кладбище поедут, а мы с кладбища туда завернем. Вот как.
– Такой дом бросиля, Дунь! Не сходиля б ты оттедя.
– Жалко дом, а то! Столько лет жили, все тама было. А как не сходить – вот, прибавилось. Там, глядишь, и пойдут, и пойдут – какая мне теперь работа.
– А новый пасячник-тя, слыхаля, переносить пасякю хочеть, поближе сюдя.
– Шмель-то – он дурак. Ленится он, далеко ему ездить, вот и дуракует. Погубит пчелу, да и…
– Пчеля-то анадся, а домь как же запустуеть – осерчаеть Ивань!
– Хватя! Что ему мертвому! Трясешь тут убранством своим – вон девчонка уже закряхтела, разбудили.
– Прости, Дунь. Пойдю я, магазинь може открылся.
– С Богом, кума, заглядывай.
– Загляню. Старщяя-то у тябя невестя.
Кума-колчанка мигнула мне и вышла, тихо притворив дверь.
– Марусенька благородна, – запела бабушка, трогая колыбель, которая качалась от всякого прикосновения. – Не люби-ка дворянина, будешь добра…
Еще недавно я думала, что беременность – это болезнь. А теперь мы с Мариной возили по улицам совхоза малиновую коляску и облизывали тугую янтарную пустышку, падающую все больше в песок.
За нами ходил мальчик. У него была розовая голова, и белые волосы едва покрывали ее. Мы смеялись над мальчиком, и он начинал кидать в нас комьями земли.
– Гришка! Дурак! – кричала Марина. – Я все мамке расскажу, не видишь, мы с сестренкой!
– Я в вашу сестренку ни раза не попанул! – кричал Гриша и опять шел за нами, но близко не подходил.
