Огоньки на воде
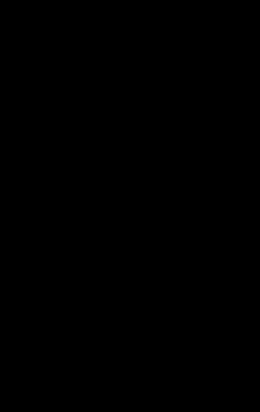
Tessa Morris-Suzuki
THE LANTERN BOATS
Copyright © Tessa Morris-Suzuki, 2021
Печатается с разрешения Lorella Belli Literary Agency Ltd.
Издательство выражает благодарность литературному агентству Synopsis Literary Agency за содействие в приобретении прав.
© М. А. Загот, перевод, 2025
© Издание на русском языке.
ООО «Издательство АЗБУКА, 2025
Издательство Иностранка®
Пролог
15 августа 1951 года
Когда толпа собралась на берегу реки Сумида, уже стемнело. Однако ночь ничуть не ослабила гнетущую жару, что висела над Токио. На горизонте плясали молнии, но грома не было слышно – только оглушительный хор цикад и нарастающий рокот человеческих голосов.
Они неслись со всех сторон: из замызганных переулков между деревянными домами и складами, с пустырей, до сих пор усеянных обгоревшими фундаментами разбомбленных зданий, от стен выросших из пепла новых заводов. Навстречу голосам поднимался речной смрад. Из бумаги, бамбука или обрезков жести многие дети сами сделали кораблики с фонариками и несли их, сведя ладони чашечкой. Другие стояли в очереди у уличных лотков, где миниатюрные кораблики продавались за несколько иен.
Настроение было странным – восторг соседствовал с грустью. Между взрослыми шныряли мальчишки, выискивая местечко, откуда лучше видно, а младенцы визжали от радости, когда отцы сажали их на плечи. Уличные торговцы с ручными тележками продавали строганый лед и шпажки с пельменями из осьминогов.
Но многие лица были мрачными. Три дня назад местные жители встретили вернувшиеся к ним души умерших – и выставили фонарики у дверей, в храмах и на кладбищах. Теперь люди отправляли эти души в обратный путь, еще на год, отпускали их вниз по реке, во тьму.
Так много погибших. Во время бомбардировок, уничтоживших целые кварталы, расстались с жизнью родители и дети. Мужья и братья, уехавшие в Китай, Бирму или Новую Гвинею, которым не суждено было вернуться. Сыновья, которые направляли самолеты в борта американских военных кораблей и взрывались вместе с ними. Все это закончилось шесть лет тому назад. Но шесть лет прошли как сон.
Люди брали кисточки из бамбука и чернилами писали на бумажных фонариках, парусами возвышавшихся над корабликами, имена погибших. Кто-то добавлял слова «надежда» и «мир». Потом одну за другой зажгли свечи, кораблики спустили на воду, и мерцающие огоньки медленно поплыли по течению на юг, к Токийскому заливу. Вскоре Сумида превратилась в реку огней. Сотни отблесков плясали на ее маслянистой поверхности, а духи мертвых сплавлялись по течению.
Люди на берегу некоторое время наблюдали за ними. Постепенно огоньки растаяли вдали, и толпа начала расходиться. Подул теплый ветер, заморосил дождь.
Но мерцающие бумажные фонарики продолжали плыть мимо безглазых стен заводов и застывших силуэтов кранов на верфи, пока огоньки не затушил ветер или набегавшая с залива зыбь. Осталось всего три или четыре отважных суденышка, и их фонарики прыгали на гребешках волн.
Именно эти последние кораблики высветили нечто еще, дрейфовавшее вместе с ними: нечто темное и громоздкое, почти полностью погруженное в воду. В дрожащем свете на поверхности воды мелькал пузырь мокрой ткани, клочья распустившихся вокруг головы волос. Изредка на поверхности мелькали связанные веревкой заломленные за спину руки – и снова исчезали в мягком качании волн. За ними тянулись похожие на плети водорослей истертые концы бечевки.
Наконец река достигла залива, огни города меркли позади. Наблюдать за этой сценой было некому. Да и будь кто-то поблизости, последние свечи уже почти догорели, и едва ли кто-нибудь распознал бы в дрейфующем темном пятне человеческое тело. Оно неспешно поднималось и опускалось на волнах, в сопровождении последних светящихся корабликов уплывая все дальше, в бесконечное море забытых жизней, и было в этом дрейфе что-то убаюкивающее, даже мирное.
Глава 1
Пять месяцев назад
Судно медленно подползало к суше, и сквозь вечерний туман у края моря начали проступать огни гавани, поначалу размытые, но потом более четкие, мерцая, как звезды, в холодном воздухе. За последние два года их судно проходило вдоль этого участка северного побережья Японии пять или шесть раз, и Камия Дзюн каждый раз замечал, что ночной пейзаж выглядит по-новому. На месте луж тьмы, оставленных американскими бомбардировщиками, теперь сияли новые огни. Он смотрел на свою родину, как всегда недосягаемую, просто берег с палубы судна, которое движется в мире безмолвия.
Ветра почти не было. Они направлялись не в гавань, а дальше, севернее, в отдаленную лагуну, куда уже заходили раньше, надежно скрытую от глаз японской береговой охраны и оккупационных войск. Едва судно поравнялось с маяком в северной оконечности гавани, два матроса, Орлов и Чэнь, быстро прошли вдоль бортов, гася один за другим фонари, и оставили гореть только один – в рулевой рубке. Во тьме пульсировал луч маяка, но находил лишь одиночество моря. На мгновение столб света выхватил строй из трех лебедей, направлявшихся в сторону азиатского континента. Они летели так, словно точно знали, куда им надо. Дзюн не без зависти проводил их взглядом.
Но тут его резко толкнули в спину.
– Хватит пялиться на звезды, пацан, – проворчал Орлов. – У нас работы невпроворот. Тащи ящики на палубу. Давай, шевелись.
Когда два года назад Дзюна приняли в судовую команду, он едва доставал до плеча русского верзилы. С тех пор он заметно подрос, мускулы окрепли, но Орлов все равно весил вдвое больше и упорно продолжал называть его пацаном.
Воздух в трюме был густым от испарений дизельного топлива и смолы. Дзюн стал пробираться сквозь темноту, нащупывая деревянные ящики, сложенные по четыре в глубину с каждой стороны. На сей раз не такие тяжелые. Никто никогда не говорил ему, что за грузы они перевозят, и он научился угадывать содержимое по размеру, форме и весу мешков и ящиков, которые таскал вверх и вниз по трапу. Ящики были сколочены из грубых досок, и стоило Дзюну поднять первый ящик, как в большой палец левой руки вонзилась основательная заноза. Стиснув зубы от боли, он потащил ящик по ступенькам и на середине лесенки передал его Орлову, чье широкое потное лицо смотрело на него сверху вниз, обдавая водочными парами. В общей сложности шестнадцать ящиков: больших, но не очень тяжелых и плотно набитых какими-то мягкими мешками. Внутри при тряске ничего не дребезжало.
Покончив с ящиками, Дзюн вернулся на палубу, принялся растирать ноющие плечи и вытаскивать из пальца остатки занозы, а между облаками тем временем показался полумесяц, прочертив длинную дорожку через все море. В ее свете он различил надпись на ящиках: «Сухой молочный порошок “Сноу”». Насчет порошка, пожалуй, правда, – прикинул он.
Судно приблизилось к берегу, и запахи изменились: Дзюн уловил душок гниющей рыбы, водорослей и лесных растений. Огни гавани исчезли. Не было видно ничего, только чернели на фоне голубовато-серого от лунного света неба поросшие лесом низкие холмы. Там и сям в окне рыбацкой хижины, очертания которой смягчал снег на крыше и у стен, светилась лампа. Их ждала самая опасная часть плавания.
– Капитан тебя зовет. Бегом, – велел Орлов, ткнув большим пальцем в сторону мостика.
Испытывая судороги в желудке, Дзюн открыл шаткую дверь и вошел в тесную и душную рубку. Зачем он понадобился капитану? Ничего хорошего это не предвещало.
Капитан стоял, держа одной рукой штурвал, и смотрел на море.
– У меня для тебя небольшая работенка, Камия, – сказал он, даже не повернув головы.
– Есть, капитан, – отозвался Дзюн. Он ожидал чего-то совсем другого.
Капитану было, наверное, под шестьдесят: волосы на затылке редкие, сквозь жирные пряди просвечивала бледная кожа головы. В одном из баров Владивостока Дзюн однажды услышал, как кто-то обратился к нему «капитан Ли», но усомнился, что имя настоящее. Обычно его звали просто «капитан». Говорил он мало, каким-то на удивление тонким и высоким голосом. Если не видеть лица, по голосу его вполне можно было принять за женщину. Говорили, что большую часть жизни он провел в Маньчжурии и служил кем-то вроде полицейского в старом правительстве Маньчжоу-Го.
Ожидая распоряжений капитана, Дзюн вспомнил ночной летний шторм, когда он был еще новеньким на судне. Около полуночи его замутило на койке от духоты, и он, спотыкаясь, поднялся на палубу глотнуть свежего воздуха. Открыв люк навстречу бушующему шторму, он увидел темные фигуры капитана и молодого матроса Эндо, болтливого крикуна, который уже всем изрядно надоел, они сцепились в схватке у самой кормы. Капитан держал Эндо за горло. Вой ветра перекрывал все звуки, и несколько долгих минут их тела беззвучно метались от левого борта к правому, в такт качке судна. Потом голова Эндо неловко склонилась набок, и капитан легко поднял его обмякшее тело на поручень и выбросил за борт. Дзюн, борясь с поднявшейся к горлу тошнотой, тихо закрыл люк над головой и поспешил скрыться в недрах судна. Всплеска упавшего в воду тела он не услышал. На следующее утро капитан был, как всегда, спокоен и молчалив. Эндо больше никто не видел, никто о нем ничего не спрашивал и даже не упоминал его имени. Через неделю или около того Дзюн даже начал сомневаться – а не приснилось ли ему все это?
– Возьмешь посылку и доставишь в Мисаву, – неторопливо продолжил капитан, махнув рукой в сторону штурманского столика, под которым лежал завернутый в черную ткань сверток. – Ты же знаешь, где это? Мисава. На восток от Аомори. Высадим тебя, когда пришвартуемся. Слушай внимательно, что я сейчас скажу – писать не буду, два раза повторять тоже. Как только выгрузим ящики, сойдешь на берег. У тех, кто приедет за ними, есть грузовик. Тебя отвезут в Аомори – может, не прямо в город, ссадят где-то поблизости. До станции Аомори доберешься сам. Спрашивай дорогу только при крайней надобности. Если кто спросит, как тебя зовут, скажешь – Саито. Саито Томио. Держи.
Так и не повернувшись, капитан порылся в кармане мешковатой серой куртки, выудил потрепанное удостоверение моряка на кожаном ремешке и протянул его Дзюну. Удостоверение было с фотографией не сказать что сильно похожей, но такой нерезкой, что сгодилась бы любому. Стояло имя: Саито Томио, дата рождения – 22 декабря, седьмой год эпохи Сёва. Восемнадцать лет – всего на полгода старше его самого. Дзюн знал: что стало с настоящим Саито Томио, лучше не спрашивать.
– В Аомори сядешь на поезд до Мисавы. Там сойдешь с поезда и найдешь парикмахерскую, прямо через дорогу от станции. Мимо не пройдешь, она там одна. Там спросишь господина Китадзаву. Китадзава, понятно? Лысый старик, на левой руке не хватает пальца. Смотри, ни с кем его не спутай. Скажешь ему, что привез подарок от капитана Эндо. Китадзава даст тебе конверт. Получишь конверт – сразу иди назад на станцию Мисава и жди, за тобой приедет человек в сером фургоне. Спросит тебя: «Ты на рыбалку?» Скажешь ему «да», и он отвезет тебя туда, где мы тебя высадили. Тебе на все про все двадцать четыре часа, мы вернемся за тобой поздно вечером. Не знаю, когда именно. Подойдем, подадим сигнал фонарем: три вспышки, перерыв, потом еще две вспышки. Придем обязательно, но, возможно, придется долго ждать. Все ясно?
– Ясно, капитан.
Мисава. Конечно, он знал Мисаву, пусть не в реальной жизни, но точно в своих мечтах. Мать и отец жили в маленькой деревушке к югу от Мисавы, а потом решили перебраться на Карафуто в поисках лучшей жизни. Об отце остались лишь смутные воспоминания, но почему-то Дзюн до сих пор слышал его хриплый голос, старик рассказывал ему историю о святилище Кабусима на острове неподалеку от его родной деревни: над святилищем кружат десятки тысяч чаек, они кричат, как морские котики, а местные жители, посетители святилища, всегда радуются, когда помет чаек попадает им на голову – это, мол, верный признак грядущей удачи.
– Чайки гадят им на головы, – говорил отец, хрипло посмеиваясь, – а они радуются, как дети!
Может, отцу этого благословенного помета и не досталось, но чего ему точно не досталось, так это удачи.
Дзюн подумал: что, если выкроить несколько лишних часов и проехать немного дальше, увидеть поля, где трудились его дедушка и бабушка, дорожки, где в детстве играл его отец? Может, даже услышать крик чаек над святилищем Кабусима?..
Словно прочитав его мысли, капитан впервые повернул голову и пристально посмотрел на Дзюна. Глаза его, как раньше приметил Дзюн, были на диво тусклые, золотисто-орехового цвета, а левое веко подергивалось.
– Никуда не сворачивай. Нигде не останавливайся. Ни с кем не разговаривай. И не вздумай открывать ни посылку, ни конверт, который тебе даст Китадзава. Тебе покажется, что ты сам по себе, но мы будем следить за каждым твоим шагом. Боишься японской полиции? Имей в виду: нас надо бояться в десять раз больше. Один неверный шаг – и…
Капитан пожал плечами. Лицо ничего не выражало, разве что подрагивало веко, будто он подмигивал.
– Все ясно? – переспросил он.
– Ясно, капитан, – подтвердил Дзюн.
Капитан снова порылся в карманах и достал небольшой кошелек, набитый монетами.
– Трать столько, сколько нужно, но ни сена больше, ясно?
Дзюн опустил кошелек во внутренний карман куртки. Похоже, столько денег у него не было никогда в жизни. Капитан осторожно достал из-под стола завернутый в бумагу сверток и передал в руки Дзюну. Тот оказался на удивление тяжелым. Предмет внутри узла из черной ткани был на ощупь круглым и твердым, похоже, сделанным из металла.
– Если уронишь или потеряешь, – спокойно проговорил капитан, – тебе не жить. Ясно?
И снова подмигнул левым глазом.
– Ясно, капитан, – выпалил Дзюн.
Когда они достигли узкого входа в лагуну, двигатель сбавил обороты. Они скользнули в темноту внутренних вод, держась ближе к берегу, где лес встречался с морем. Полный штиль, но было слышно, как вода бьется о камни. Дзюн стоял на палубе рядом с Орловым и Чэнем, готовый выгружать ящики, едва судно коснется берега. Ладони рук слегка вспотели, и сердце странно забилось – за кормой послышался рокот другого двигателя. Вдоль берега, так же медленно и осторожно, двигалась еще одна посудина. Некоторое время они стояли в полной тишине, прислушиваясь к движениям странного судна, но потом напряжение в воздухе спало – оно безобидной тенью миновало вход в залив и пошло дальше на север, видимо, со своим заданием, похожим на их собственное.
Вскоре из леса донесся пронзительный свист, и через минуту-другую показались огни автомобиля, осветив гальку на узкой полоске пляжа. Слева в воду естественным причалом уходила длинная плоская скала.
Капитан направил судно к скальному выступу, и из темноты появились фигуры трех мужчин, которые уверенно ступали по камням, будто уже не раз шли этим путем. Фонарь был только у первого, двое других курили. Они подходили ближе, и Дзюн видел прыгающие красноватые огоньки их сигарет. В полной тишине матросы поднимали ящики и передавали их людям на скале над узкой полоской воды. Капитан дождался, когда выгрузка закончится, потом передал руль Орлову и с удивительной для человека его возраста легкостью выпрыгнул на берег. Он что-то пробормотал трем мужчинам на камнях, и Дзюн увидел, что один из них передал капитану небольшой пакет.
Едва капитан вернулся в лодку, Чэнь буркнул в ухо Дзюну:
– Давай, пошел!
Дзюн передал свой драгоценный сверток одному из людей на берегу, перелез через поручни и неловко спрыгнул на каменную площадку, слегка подвернув лодыжку. Его поддержала чья-то рука, и мужчины провели его по скользкой скале. Когда они добрались до берега, Дзюн оглянулся, но их судно уже отошло от берега, виднелся только смутный силуэт на воде, тихо удаляющийся в море.
Загрузив ящики в кузов, трое мужчин забрались в кабину грузовика. Один из них был выше остальных, похоже, старший. Двое других: худощавый парень чуть старше самого Дзюна и пожилой здоровяк с оспинами на лице в надвинутой на уши меховой шапке.
– Садись в кузов, – велел Дзюну Меховая Шапка, – там есть брезент, если замерзнешь.
Он говорил с сильным местным акцентом.
Дзюн вскарабкался наверх и нашел себе место, вклинившись между ящиками в задней части грузовика, а свой сверток бережно зажав между коленями. Машина была древней и, кажется, в любую минуту могла развалиться. Дощатый кузов без заднего борта – только две холстины хлопали на ветру, когда машина тряслась по узкой дорожке, отъезжая от берега. Было жутко холодно, и Дзюн понял, что уже несколько часов ничего не ел и не пил. Пошарив среди ящиков, он вытащил брезент и, как мог, укрылся им. Брезент был местами засален и сильно пах рыбой.
В щелях между досками и холстинами мелькали ветви черных сосен, согнувшихся под тяжестью снега. Иногда ветки ударяли по бортам грузовика, или на крышу со стуком падали комья снега. Грузовик, кашляя двигателем, подскакивал на ухабах, и Дзюну приходилось подпирать плечами ящики, чтобы они его не завалили. Вскоре они повернули направо, на более ровную дорогу, которая, петляя, шла в гору. Казалось, этой поездке сквозь тьму не будет конца. Ноги было девать некуда, правая ступня онемела, но устроиться поудобнее не получалось – не было места. Чтобы отвлечься от ноющей боли, он стал тихонько напевать «Катюшу», «Маяк», «Темную ночь» – эти песни пел на Карафуто полковник Бродский с друзьями после нескольких бутылок водки. В голове проносились русские слова: «Только ветер шумит в проводах, тускло звезды мерцают, темная ночь…» Что там дальше, он забыл.
– Приехали. Вылезай.
Холстины в задней части грузовика рывком распахнулись, и Дзюн даже удивился – неужели заснул? Человек в меховой шапке помог ему спуститься, и ноги под ним едва не подкосились. Кровь снова побежала по венам. На миг он прислонился к борту грузовика, сжимая в руках свой тяжелый сверток. Они остановились на перекрестке, по обе стороны – густой лес. Поначалу в морозном воздухе Дзюн не мог разглядеть ничего, только две длинные и узкие дороги, присыпанные снегом, что петляли среди деревьев.
– Где я? – Ему внезапно сделалось страшно.
– Смотри, – ответил Меховая Шапка и подвел его к переду грузовика. В низине вдоль горизонта тянулась туманная полоска света. – Аомори, – пояснил он. – Эта дорога ведет прямо в город. Иди прямо, пока не дойдешь до моря, дальше направо, вдоль берега – и придешь на станцию.
Неожиданно рукой в перчатке он сильно хлопнул Дзюна по плечу.
– Удачи. Она тебе не помешает, – добавил он со странным смешком. Потом забрался в грузовик, а тот свернул направо и опасно заскользил на прихваченной льдом дороге.
Вскоре его задние огни скрылись в темноте.
Узкая дорога в сторону Аомори круто спускалась через густой лес, и в местах, где колеса проезжающих машин утрамбовали снег, было очень скользко. Дзюн держался глубокого снега вдоль обочины, но иногда проваливался в сугробы, и кусочки льда сверху попадали в ботинки. Пальцы ног онемели, руки хотелось засунуть глубже в карманы, но куда девать громоздкий сверток? Надо было попросить сумку, тогда одна рука была бы свободной. Мышцы застыли от холода, он устал, проголодался, и голова от этого плохо соображала.
В то же время его охватило странное возбуждение. Вокруг чистый до хруста воздух. Облака расползлись, и на темное небо высыпали звезды. Дзюн шел один по земле своих предков. Такое было с ним лишь однажды. Пару лет назад он впервые оказался в японских водах, заплатив контрабандистам, чтобы они перевезли его с Карафуто через Владивосток и Корею. Он надеялся, что в Токио сумеет устроиться, найдет работу, но огромный и беспорядочный город вселял в него ужас: толпы народа, толкущиеся на черном рынке, безногие и безрукие ветераны в белом, побирающиеся на обочинах дорог, здоровенные подвыпившие американцы в форме цвета хаки вываливаются из баров. Когда в ослепительных огнях токийской ночи он искал место для ночлега, какой-то американец схватил его за руку. Дзюн яростно извивался, решив, что сейчас его потащат в тюрьму. Но вместо этого американец просто сжал лицо Дзюна в пухлых ладонях и некоторое время всматривался в него, а потом произнес что-то вроде «милашка». Дзюн ударил его коленом в пах и бросился наутек в крысиный лабиринт переулков. На следующий день он пробрался обратно в гавань, куда снова причалили контрабандисты – забрать свежий груз и отвезти его на Тайвань, в Гаосюн. Он уговорил их взять его помощником матроса и с тех пор на сушу почти не ступал.
Но здесь все было по-другому – ни толп, ни суеты. Тишину леса нарушал разве что далекий крик совы или шорох какого-нибудь ночного зверька в кустарнике. Даже лютый холод вызывал добрые чувства: как же, старый друг из детства. Вспомнились вечера, когда их сосед по Карафуто дядя Зима брал его с собой в горы – при свете фонарей ставить ловушки на лисиц, соболей и зайцев-беляков. Два года на тесной деревянной койке в их суденышке – и вот, наконец, он свободен, он один. Не будь у него в руках свертка, он так бы и шел по снегу и звездам, набрел бы на пустой домик где-нибудь в горах и спал бы там под звуки леса, а днем копал землю и сажал картошку…
Дорога сделала изгиб, и он увидел – огни города стали ближе. Где-то неподалеку завыла пара собак. Внизу лес переходил в фермерские угодья – прямоугольные рисовые поля, где снег перемежался с пятнами темного льда. Он остановился, зачерпнул с обочины горсть снега и положил ее в рот, чтобы утолить жажду, а потом продолжил путь, что-то тихонько насвистывая. Вот и первые дома на окраине. Слева над горизонтом появились слабые полоски молочного цвета – надо же, вот-вот рассветет. Дорога пересекла речушку и перешла в более широкое шоссе, которое шло параллельно берегу в сторону городских огней.
Чем дальше он шел, тем тяжелее становился сверток в руках. Весом он напоминал мешок с пистолетами, какой они однажды выгрузили на берег Окинавы. Он знал, что это пистолеты, – сквозь порванную ткань мешка виднелись стволы. Но этот сверток по форме совсем другой. Тут что-то круглое и твердое. Вроде тяжелой сковороды без ручек.
Человек в меховой шапке велел идти прямо, но дорога не была прямой. Ближе к центру города она беспорядочно разветвлялась, но Дзюн все-таки добрался до железной дороги, как оказалось, не со стороны вокзала, а с противоположной стороны путей. По счастью, поезда еще не ходили, и он спокойно перебрался через рельсы и вышел на широкую, хорошо освещенную площадь, к солидному зданию вокзала с колоннами по обе стороны от входа.
Дзюн взглянул на вокзальные часы. Пять утра. Первый поезд в Мисаву – через двадцать минут. Он сел на скамью в зале ожидания, как можно ближе к печке, от которой пахло парафином, – по замерзшим венам начало струиться тепло. Вошли две древние старухи, согнутые в поясе пополам под тяжестью корзин на спине. Они сели напротив него, выставили кривые ноги к теплой печке и, время от времени поглядывая на него краешками глаз, принялись болтать.
Дзюн снова провел руками по свертку. Круглый. Твердый. На ощупь не полый. Звук какой-то приглушенный. Кроме двух старух и его самого в зале ожидания никого не было, и он осторожно попробовал просунуть мизинец через узел в ткани – нащупать, что там внутри, но узел был завязан слишком туго, и ослабить его он не рискнул.
В местном поезде до Мисавы пассажиров было меньше, чем он ожидал. Дзюн выбрал почти пустой вагон в конце поезда и смотрел в окно на заснеженный пейзаж Аомори за окном. Поезд начал шипеть и вздрагивать, готовясь к отправлению, и в этот момент еще один пассажир – высокий худой мужчина в армейской шинели – распахнул дверь вагона, вошел внутрь и, сев у окна по ту сторону прохода недалеко от Дзюна, надвинул на глаза матерчатую фуражку и мгновенно заснул. Поезд тронулся, и Дзюн обратил внимание на странную одежду попутчика: шинель и фуражка выглядели дешевыми и поношенными, при этом сапоги были новые и блестящие, с металлическими шпорами на голенищах, а перчатки сделаны из очень тонкой черной кожи.
Поезд медленно покачивался на рельсах, и Дзюна начало клонить в сон. Он вздрогнул, когда его плечо ударилось о жесткую металлическую оконную раму, но вскоре снова задремал, и сверток на коленях превратился во сне в голову его матери. Мать лежала, как часто бывало после смерти отца, еще до прихода русских, положив голову ему на колени, а он чистил ей уши длинной тонкой деревянной палочкой, которую она хранила для этой цели в лакированной шкатулке. Он видел, как редеют ее седые волосы, как морщинки вокруг глаз становятся все глубже. Он протянул руку, чтобы погладить ее по волосам, но оказалось, что он гладит грубую ткань свертка.
Уронишь – тебе не жить.
Слова капитана выдернули его из сна.
Бомба. Сон сняло как рукой. Что, если это бомба? Вес, форма, размер – все сходится. Круглая, металлическая, гладкая. Не полая – внутри какой-нибудь порошок или гель. Что, если она заряжена? Поезд разгонялся и раскачивался все сильнее – вдруг взорвется?
Дрожащими от отчаяния пальцами Дзюн начал развязывать узлы на ткани, чтобы открыть сверток.
Вдруг его шея оказалась в тисках. Это была рука в кожаной перчатке.
Он даже не заметил, как высокий мужчина у окна напротив поднялся с места, но сейчас левой рукой он крепко держал Дзюна за горло, а правой прижал к его ребрам нож. Зазубренный, очень острый. Лезвие воткнулось в кожу, того и гляди пойдет кровь.
– Встань! – прошипел мужчина ему в ухо.
На неверных ногах Дзюн поднялся, одной рукой еще сжимая полуразвернутую посылку. Рука в кожаной перчатке по-прежнему стискивала ему горло, лезвие ножа переместилось к середине спины и больно впилось в кожу справа от позвоночника. Нападавший подтолкнул его к выходу из вагона.
– Открой дверь, – приказал он.
Рука Дзюна скользнула по ручке, и он потянул дверь на себя. Мужчина толкнул его вперед, в гремящее полуоткрытое пространство между вагонами. Дзюн видел, как внизу между рельсами проносится заснеженная земля. Звать на помощь бесполезно. Из-за грохота поезда никто не услышит; пока кто-то придет на помощь, он будет уже мертв. С замиранием сердца он ждал, что будет дальше.
Но некоторое время ничего не происходило. Мужчина хранил полное молчание. Нож по-прежнему касался спины Дзюна, рука в перчатке стальным обручем обвивала его шею. Металлические плиты, соединявшие вагоны, раскачивались взад-вперед у них под ногами, скрежетали и визжали, когда поезд мотало из стороны в сторону. Дзюн и нападавший, прижавшись друг к другу, тоже качались в такт движению поезда, словно плясали какой-то мистический танец. Лицо мужчины он видел только мельком, но по габаритам и росту предположил: не тот ли это высокий вожак из троицы, что выгружали из их судна ящики, а потом отвезли его в холмы над Аомори?
Капитан пригрозил, что за каждым его шагом будут следить. Ну конечно, за ним следили. Как он сразу не сообразил? Но зачем? Зачем давать ему нести сверток, а потом следить за ним всю дорогу до Мисавы? Почему просто не передать сверток трем японским контрабандистам, и пусть они доставят его, куда надо?
Едва в голове Дзюна возник этот вопрос, тут же пришел и ответ. Как он не догадался раньше?
Ему поручили это дело, потому что он – никто. Невидимка. У него нет ничего: ни дома, ни семьи, ни документов, ни удостоверения личности – если не считать фальшивого удостоверения моряка. Возможно, в этом и состоит план, что задание он не выполнит и на посудину не вернется. Неважно, попытался бы он открыть сверток или нет, бомбу могли зарядить так, что она взорвется в его руках, либо господину Китадзаве из парикмахерской велели избавиться от него, как только он доставит «подарок от капитана Эндо».
Он никто, и, когда он исчезнет, этого никто не заметит. Найдут в канаве тело – одним безымянным мертвецом будет больше.
Поезд начал сбавлять ход, приближаясь к станции. Дзюн встрепенулся: может, это его шанс позвать на помощь? Тормоза завизжали – медленно, тягуче, – и поезд остановился.
– Вперед, – негромко сказал мужчина, подталкивая Дзюна в следующий вагон, откуда открывалась дверь на заснеженную и почти безлюдную платформу. Все еще зажатый в убийственном захвате незнакомца, он вышел из поезда в прохладный воздух маленькой деревенской станции.
Он стал озираться – откуда можно ждать помощи? В дальнем конце платформы стоял служитель станции, о чем-то оживленно разговаривая с пассажиром. Что, если крикнуть? Но рука крепко сдавливала горло, а поезд вовсю шипел – сколько ни кричи, никто не услышит. Разве что вырваться и убежать, но рука так сжимала глотку, что он едва не терял сознание, а лезвие прорвало его толстую куртку с мягкой подкладкой и шерстяной джемпер под ней. Мужчина грубо толкнул его к задней части платформы, откуда короткая лестница спускалась к уходящей в чащу деревьев тропке.
– Иди. Не оглядывайся, – велел мужчина. Голос тихий, но жесткий и сиплый. Какой-то непонятный акцент. Точно не местный. Может, из Осаки?
В лесу тропинка сузилась. Впереди никакого просвета, только высокие стволы деревьев и заросли бамбука. Они шли в безлюдное место, где не было ни единой души.
– Мелкая сволочь! – Дзюн поразился – откуда в голосе этого незнакомца столько злобы? – Тебе велели сверток не открывать. Ты знал, что с нами шутки плохи.
За что он меня ненавидит? Он меня даже не знает, а теперь собрался убить. С какой стати такая ненависть?
Дзюн не хотел умирать. Ему вдруг стало важно, что из всей его семьи выжил он один. Значит, ему нельзя умирать. Он хочет жить. Хочет в Мисаву. Хочет увидеть, как над святилищем Кабусима кружат чайки.
Они молча шли вперед. Слышался только ветер в деревьях и скрип ботинок по снегу, с каждым шагом они уходили все глубже в лес, подальше от человеческой жизни. Дзюн не мог унять дрожь в ногах, но продолжал идти, подгоняемый лезвием у себя за спиной. Почему-то он вдруг услышал хриплый голос отца: «Радуются, как дети. Радуются, как дети».
Наконец они вышли на небольшую поляну, где сквозь ветви деревьев пробивался свет. Снег доходил почти до колен. Солнце поднялось уже высоко, и на кончиках сосулек на ветвях повисли капли воды, готовые упасть на землю. Где-то в деревьях неподалеку запела птица. Мужчина вытащил нож из-под куртки Дзюна и занес его, словно собираясь ударить Дзюна по горлу. В эту секунду Дзюн перестал бояться свертка, который он нес. Если ему суждено умереть, пусть умрет и тот, кто на него напал. И он бросил сверток в снег на краю поляны, раздался глухой стук, но взрыва не было.
От неожиданности мужчина с ножом замешкался, на секунду повернул голову, и в тот же миг Дзюн вырвался, бросился вперед и побежал по тропинке, которая вела куда-то в холмы. Он был моложе нападавшего, и разрыв между ними на время увеличился. Но у дальнего края поляны он зацепился за корягу и потерял равновесие. Споткнулся, упал на колени. Когда начал подниматься, почувствовал – но не увидел, – как мужчина сапогом врезал ему по ребрам. Он свалился на бок, от удара из него вышибло дух. Скривившись от боли и подняв руки, чтобы отразить град ударов, он каким-то образом сумел обеими руками схватить ногу в кожаном сапоге и изо всех сил дернуть. Мужчина издал нечто среднее между стоном и проклятием, тоже потерял равновесие и кувыркнулся назад.
Дзюн тут же вскочил и дал стрекача. Он сбежал с тропки и кинулся в кусты, не обращая внимания на больно хлеставшие по лицу ветки, на проклятия и прерывистое дыхание своего преследователя. Заметив мелькнувший между деревьями просвет, он бросился к нему и понял свою ошибку слишком поздно – снежный гребень обрушился под ногами, и он боком полетел вниз с обрыва, ударяясь головой обо что-то твердое.
Казалось, падение будет бесконечным, но наконец его тело остановилось, и на мгновение Дзюн почувствовал, как щека погружается в мягкий снег, приглушающий боль, и металлический привкус крови во рту.
Потом все погрузилось во тьму.
Глава 2
Элли Раскин сжимала в руке полуразвалившуюся от частых перегибов карту Токио, на которой были изображены два зеленых массива в самом сердце сплетения улиц – вен и артерий города. Один – заповедная зона вокруг дворца императора Хирохито. Другой – парк Уэно с широкими лужайками и лотосовыми прудами и примыкающий к нему большой сад, обнесенный стеной, перед которой она сейчас и стояла. Вывеска на бетонном столбе гласила: «Токийский англиканский богословский колледж». Чугунные решетчатые ворота закрыты и заперты на засов.
Элли смотрела сквозь решетку, не зная, как быть дальше. Ее лучшие туфли, по такому случаю старательно начищенные, жали, а желудок подавал тревожные сигналы. Что это – надежда или страх? Она снова взглянула на часы: занятные часики с гравированным серебряным циферблатом, Фергюс купил их ей на блошином рынке за пару недель до свадьбы.
Было почти четверть третьего. Фергюс, как всегда, опаздывал. Утром он вернулся в Токио – пришлось спешно ехать на север из-за какого-то таинственного происшествия под Мисавой – и теперь сидел в кафе неподалеку, брал интервью у японской поэтессы, которая провела военные годы в Китае. Они договорились встретиться у ворот около двух часов, как только закончится интервью. В любой другой день Элли обернула бы эту задержку в шутку – «время по Фергюсу Раскину», у него свой часовой пояс, на тридцать или сорок минут позже обычного японского времени. Но сегодня ей было не до шуток.
Элли очень хотелось, чтобы ее планы на будущее интересовали Фергюса не меньше, чем ее саму. Хотелось, чтобы у них было больше времени – обсудить предстоящую встречу, лучше к ней подготовиться. Ведь от нее зависит абсолютно все. Но Фергюс все время в движении, попробуй удержи его на месте. В самые мрачные минуты Элли казалось: его вся эта история вообще не трогает. Неужели он просто не хочет ее огорчать, потому и согласился?
За коваными чугунными воротами виднелась длинная подъездная дорожка, уходящая в темную рощу вечнозеленых деревьев. Зданий богословского колледжа видно не было, в воздухе висела странная тишина. Улочки квартала Юсима с его барами и рыбными лавками, прачечными и борделями были совсем рядом, но до слуха Элли доносились лишь шелест ветра и карканье ворон в верхушках деревьев.
Стоять одной перед запертыми воротами было неуютно. Вокруг никого, но Элли, непонятно почему, казалось: за ней наблюдают. Она видела себя как бы со стороны, глазами воображаемого наблюдателя – неловкая угловатая женщина, не совсем японка, с падающей на лоб прямой челкой почти черных волос. Здесь таких, как она, называли «хафу» – половинка, – одним этим словом занося в категорию неполноценных. Ни настоящая японка, ни явная иностранка. Лишняя деталь, в национальную мозаику не вписывается. Иногда это утомляло и угнетало, а иногда ловить невысказанные вопросы на незнакомых лицах даже нравилось.
Нетерпеливо походив взад-вперед по неровным камням мостовой, она решила, что не будет просто стоять и ждать, и направилась по узкой дороге назад – вдруг перехватит Фергюса на полпути?
Странно, что его до сих пор нет. Интервью началось в двенадцать, не может же оно длиться больше полутора часов? Элли представила: вот сейчас он появится на том конце улицы, эдакий ураган хаотичной энергии. Вздыбленные рыжие волосы, полурасстегнутая куртка, из битком набитой холщовой сумки вываливаются бумаги. Ее ангел с огненной шевелюрой. Ей нравилось звать его именно так – конечно, когда он не был под мухой, а ей не хотелось язвить. Но на улице было пусто.
Она дошла до угла и повернула на главную улицу Юсимы – ага, вон и Фергюс, довольно далеко. Никуда не торопится, мирно беседует с высокой длинноволосой дамой в свободном сером кимоно. Японская поэтесса, надо полагать. Элли вспыхнула от раздражения. От этого дня зависит все их будущее, а Фергюс болтается на улице, мило беседуя с опасно привлекательной и смутно знакомой ей дамой. Она ускорила шаг, направляясь в ним, но тут Фергюс ее заметил. Словно извиняясь, он махнул женщине на прощание, а та в ответ неожиданно коснулась его руки своей. И Фергюс уже бежал к Элли, расточая улыбки и извинения.
– Извини, дорогая. Это все председатель Мао. Мы завязли, обсуждая китайскую революцию, и я снова потерял счет времени.
В его глазах еще не погасла усмешка – он и поэтесса обменялись какой-то шуткой.
– Она – само очарование, да? – не удержалась Элли.
Фергюс толкнул ее локтем в бок.
– Мы ревнуем, мадам? – Потом уже серьезнее: – Если честно, очень интересная женщина. Ты с ней встречалась. Не помнишь? На Хеллоуин, у Теда Корниша – Вида. Прекрасно говорит по-китайски. И, видимо, по-русски и на эсперанто тоже. Во время войны в Китае их было несколько человек – с японской точки зрения, предатели. Работали на врага. Она многого навидалась, но удастся ли мне ее разговорить – это другой вопрос. Сегодня мы только поскребли поверхность. Надеюсь, удастся выудить из нее побольше. – Он дружелюбно взял Элли под локоть. – Но бояться нечего, моей красоточке-жене она уступает по всем пунктам.
Вида? Что за имя такое, подумала Элли. Не японское, не китайское. Может быть, псевдоним? Теперь она и правда вспомнила эту женщину, на вечеринке у Теда Корниша – та расхаживала по дому, будто была в нем хозяйкой. Элли еще тогда подумала: что общего у Теда, добродушного преуспевающего юриста и выпускника Гарварда, с экстравагантной японкой, которая, наверное, пьет чай из трав и гадает на картах Таро? Но сейчас обсуждать эту странную даму Элли не хотелось. Сегодня их ждали дела поважнее.
На сей раз, когда они подошли к воротам, из маленькой сторожки на другой стороне появился похожий на гнома мужчина в бежевой форме и отпер ворота, заставив ржавый металл заскрипеть. Ответив молчаливым поклоном на веселое приветствие Фергюса, он впустил их в темный сад.
Длинная дорожка шла между гранитными стенами, там и сям испещренными пятнами мха и лишайника. У Элли снова забил тревогу желудок, и она крепче сжала руку Фергюса.
– Нам может повезти, Фергюс? Ты ведь не думаешь, что это пустая трата времени?
Фергюс ответил не сразу.
– Думаю, это будет не просто, Элли. Так что не надо питать особые надежды. Но попробовать можно. Я знаю, как много это для тебя значит.
«Для тебя». Не «для нас». Завести ребенка, которого мы будем считать своим. Спасти одного ребенка из пепла поражения и оккупации. Почему он не сказал «как много это значит для нас»?
Дальше деревья вдоль дорожки поредели. Их взорам открылась пятнистая лужайка, а дальше само здание – портик с колоннами и центральная башня, увенчанная куполообразной крышей. Все это в подобном окружении выглядело искусственным и даже слегка нелепым: величественный особняк из какого-нибудь европейского курортного города, а то и со съемочной площадки Голливуда, целиком вместе с садом перенесенный в центр суетливого Токио с хаосом его деревянных домишек.
Элли ожидала увидеть признаки активности: доски объявлений с рекламой религиозных служб и лекций, звуки репетиции хора, но все было очень тихо. Территория перед домом была аккуратно вымощена коричневой и белой плиткой, хотя между плитками пробивались сухие сорняки. Кремовые ставни на всех окнах были закрыты. У края лужайки стоял кедр, в черной коре виднелись бледные шрамы, похожие на следы от пуль. Под его ветвями устроился большой японский каменный фонарь – единственная явно японская вещь в этом сюрреалистическом западном пейзаже.
У солидной каменной лестницы, ведущей к зданию, стоял мужчина в американской форме с пистолетом в руках. Элли заметила витраж в арочном окне над дверным проемом и голову оленя на обшитой панелями стене в вестибюле. Подойдя к солдату ближе, она заметила: лицо под американским военным шлемом совершенно японское. Солдат смотрел на них с неприступной враждебностью.
– Мы же не ошиблись адресом? – волнуясь, шепнула она Фергюсу.
– Привет, – обратился Фергюс к солдату, улыбнулся ему и помахал рукой. – Мы на детский концерт. – Ответа не последовало, и он добавил, чуть менее уверенно: – Детский концерт в богословском колледже. Сбор средств для Дома Элизабет Сондерс.
На лице солдата не дрогнул ни один мускул. Шлем, похожий на чашу для пудинга, наполовину затенял широкое лицо. У него были мешочки под глазами и слегка лягушачий рот – уголки губ природа повернула вниз, даже когда он улыбался. Если умел улыбаться.
– Это не здесь, – ответил он. Голос оказался резким, высокомерным и абсолютно американским. Американец японского происхождения, догадалась Элли. – Здесь штаб. Семинария с другой стороны.
Большим пальцем он указал на тропку, огибавшую здание. Они пошли к ней через лужайку, и Элли едва сдерживала смех. Что-то в лице и поведении солдата напомнило ей Джонни Рокко, злодея из фильма «Ки-Ларго», который она смотрела с Фергюсом в кинотеатре в Гиндзе пару недель назад. На самом деле все здание чем-то напоминало зловещий дряхлеющий отель, где Хэмфри Богарта держали в заложниках вместе с Лорен Бэколл.
