Путешествие по Среднему Поволжью и Северу России
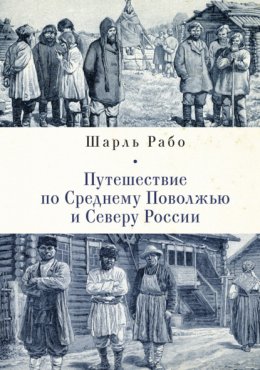
Предисловие
Эта книга написана в позапрошлом веке, когда в культуре романтизма сложился образ дикого, нетронутого и самобытного Севера1, и является частью обширного корпуса сочинений, посвященных этому региону. Таинственные, холодные земли издавна (в частности, в Европе – со времен древнегреческого поэта и путешественника Аристея Проконесского)2 привлекали внимание людей в силу своей инаковости3 и даже, начиная с Ж. С. Байи (XVIII в.), рассматривались (а в определенных кругах иногда и до сих пор слывут) в качестве прародины человечества4.
В своих записках французский травелограф5 Шарль Рабо рассказывает о поездке к восточно–финским народам России6, которая состоялась с 19 июня по 27 сентября 1890 г. Его книга – это своеобразное «медленное чтение» географического и социального пространства Северного Урала, медленное еще и потому, что путешественник преодолевал его на лодках, на нанятых вместе с кучером лошадях7, а то и вовсе пешком. Конечно, многочисленные предшественники и последователи Рабо могли «читать» эти места еще медленнее, дольше и основательнее: ту часть России, где он побывал, и до, и после него посещали десятки исследователей8. Однако впервые публикуемая сейчас на русском языке эта книга обладает для современного исследователя очень важным преимуществом – она позволяет увидеть, как представляли эту часть России, а в конечном счете и всю Россию наши зарубежные гости, какую конструкцию ее социального пространства они предлагали западному читателю по возвращению на родину.
Ш. Рабо родился 26 июня 1856 г. в городе Невер, что в центральной Франции. Свою карьеру он начинал как альпинист, а с 1880 г. проводил географические и этнографические исследования в Финляндии, Норвегии, Кольском полуострое и на Шпицбергене, внес большой вклад в изучение гидрографии, гляциологии, метеорологии, магнетизма и геологии этих территорий. Рабо вел активную популяризаторскую деятельность, публикуя в иллюстрированных журналах статьи об Арктике. Он также перевел с норвежского на французский язык ряд сочинений выдающихся полярных исследователей (в 1889 г. был удостоен за это награды Французской академии). Кроме Арктики, Рабо интересовался этнографией народов Поволжья и Северного Урала. Он являлся членом Лондонского королевского географического общества, рыцарем ордена Почетного легиона, за вклад в изучение Арктики имел шведские и норвежские награды. Скончался путешественник 1 февраля 1944 г. в д. Мартинье – Фершо в Бретани и был похоронен на кладбище Пер – Лашез в Париже9. Его именем в Европе названы несколько географических объектов – в частности, в России мыс на северо–западной оконечности острова Ли–Смита в архипелаге Земля Франца–Иосифа и гора в городском округе Апатиты (Мурманская обл.) на Кольском полуострове.
Как уже стало ясно читателю, Рабо был типичным представителем многочисленной когорты тех ученых, путешественников и просто любопытных, которые в XIX в. стремились попасть в места, которые еще не затронула цивилизация. Он побывал там, где не было железных дорог и почти не ходили пароходы. «Трудность пути – постоянное и неотъемлемое свойство;
двигаться по пути, преодолевать его уже есть подвиг, подвижничество со стороны идущего подвижника, путника»10, поэтому об этой стороне своей поездки Рабо рассказывает неохотно, маскируя тяготы похода описанием природы, мелких бытовых приключений и веселых сценок, и лишь случайно проговаривается о своем режиме работы в те дни: «В экспедиции исследователю отдыхать некогда: в пути нужно отмечать свой маршрут на карте, фиксировать особенности хозяйства посещаемых мест, а на привалах – собирать всевозможные коллекции, закупать предметы быта и записывать рассказы туземцев». Но француз был опытным вояжером, и если другой в его ситуации, когда «все оказывается проблемой: и перемена лошадей, и удовлетворение потребности в отдыхе/сне, и удовлетворение голода», «не испытывает радости путешествия»11, то Рабо не нуждался в ритмичности пространства, тишь да гладь только вредили бы его работе, ведь «зов неизведанного нового мира – не пугающие, а самые желанные звуки для Путешественника»12. Книга Рабо обладает всеми необходимыми признаками травелога – автор лично присутствует в своем сочинении, у него есть реализаторы маршрута: способные к корректировке пути перевозчики, проводники/экскурсоводы, функцией которых является интерпретация локального текста, исполняющие роль случайного фактора в реализации поездки друзья–«попутчики», и, наконец, автохтоны (информанты из разных слоев общества) – творцы и хранители локальных мифов13.
Рассказывая об увиденном, Рабо не ограничивается своими полевыми материалами, а органично дополняет их географическими, политическими, историческими и лингвистическими сведениями, почерпнутыми из специальной литературы, – травелоги часто соединяют все виды повествования и дискурсов14. Важное место в его сочинении занимает экзотика (как неизменный атрибут романтизма), а характеристики российских ландшафтов близки привычным западным стереотипам, что, впрочем, неудивительно – Рабо путешествовал по северу страны. Его текст является частью большой библиотеки аналогичных сочинений, стиль которых по аналогии с «ориентализмом» с недавних пор стали называть бореализмом15 (от греч. borealis, «северный») – пронизанным соответствующими клише европейским восприятием северных областей земного шара16. А эти области в сознании западноевропейцев ассоциировались преимущественно с Сибирью – находящейся вдали от дорог и благ цивилизации стране тайги и болот, изобилующей пушниной, таящей в недрах несметные сокровища и населенной людьми крепкого («сибирского») здоровья и спокойного мужества17.
Повествование Рабо не является художественным произведением, но во многом, как и сама его экспедиция, глубоко мифологично, обильно насыщено предметами и образами, присущими фольклорным текстам – дремучими лесами, горы, бесконечными реками, топкими болотами, языческими богами и диковинными обычаями, т. е. обладает признаками мифопоэтического описания. Возможно, именно неумышленное обращение путешественников к архетипическим пластам сознания всегда вызывало большой интерес читателей к этому жанру.
«Вдоль берегов Северного Ледовитого океана тянется бескрайняя тундра – большие, безлесные заболоченные пространства, своеобразным продолжением которых являются окаймляющие их мрачные воды. Затем начинаются обширные лесные пространства Русского Севера – раскинувшийся на тысячи километров строевой лес. Хмурую утомительную для глаз тундру сменяет не менее печальное и скорбное зеленое однообразие» – таким предстает у Рабо пространство, которое он пытается познать18. Чтобы побороть эту скуку ландшафта, автор прибегает к испытанному приему всех травелографов – торможению, «роль которого выполняют этнографизмы, жанровые сцены из народной жизни, наблюдения/размышления внешне непространственного характера…»19: «Уральские горы – отмечает Рабо, – поражают своей красотой, но за ними опять лежит равнина с лесами и большими реками. Приобье и земли Печоры очень похожи: по ним можно проехать сотни километров и не почувствовать этого, поэтому интерес для путешественника представляют лишь здешние жители».
Однако архаичные культуры марийцев, мордвы, коми–зырян, хантов и манси, которые вынуждены ежедневно выживать в условиях суровой природной среды, – это отнюдь не наличие проспектов, бульваров, театров, музеев и литературных салонов. Дикость, грязь, грубость нравов, примитивизм во всем, невежество в европейском понимании – вот, по Рабо, главные маркеры того мира, в котором он побывал летом и осенью 1890 г. Причины такого состояния изученных им территорий французский ученый объясняет в характерном для многих гуманистов его времени чисто руссоистском духе: «Всякий раз, рассуждая о колониальной политике, мы твердим о долге высших рас нести свет цивилизации примитивным народам, но это всего лишь пустая болтовня, ибо в результате общения с нами дикари перенимают все наши пороки и не приобретают ни одного из наших достоинств». Естественно, Рабо не мог свести содержание своих записок к рассказам о том, что могло вызвать только отвращение у читающей публики и поставило бы вопрос о целесообразности такой поездки вообще. Поэтому для снятия потенциально негативного восприятия того или иного культурного явления автор часто прибегает к юмору, и в этом он был не одинок – «анекдотами полны в обязательном порядке все травелоги иностранцев (быть в варварской России и не увидеть ничего замечательно смешного просто невозможно)»20.
Одним из важнейших элементов повествования в настоящей книге является Путь – основной инструмент познания автором пространства не только вширь, но и вглубь. «В мифологеме пути, – отмечал академик В. Н. Топоров, – акцент ставится на его негомогенности, на том, что он строится по линии все возрастающих трудностей и опасностей, угрожающих мифологическому герою–путнику и даже его жизни»21. Наиболее удобным видом транспорта для передвижения по Северному Уралу была тогда лодка. Как известно, в космологических описаниях она аналогична шаманскому бубну – инструменту, с помощью которого те, кому это положено, могут перемещаться через миры. У многих народов древности, начиная с египтян, существовало поверье о том, что путь в загробный мир преграждает подземная река или море и что души умерших переправляются туда на корабле или лодке. Особенно наглядно это поверье отразилось в похоронном обряде древних кельтов, славян и викингов. Поэтому лодки, которые использовала экспедиция Рабо, в какой–то мере являлись медиаторами между миром живых и миром мертвых, между европейской цивилизацией и первобытными культурами Севера22, являли собой одновременно центр мира23 и его пограничный знак, воздвигнутый на рубеже иных миров24.
«Движение по быстрой реке, зажатой с обеих сторон высокими скалистыми берегами, обостряет ощущение вертикали, направленной вниз – к подземным глубинам»25. Река, задавая структуру местного пространства, в какой–то мере приобретает у Рабо характеристики Мирового древа26. С мифопоэтической точки зрения продвижение французского ученого к своей цели происходит не только по горизонтали, но и по вертикали и изоморфно путешествию шамана по мирам Вселенной, поскольку, как и в шаманских мифологиях, является перемещением из Верхнего мира (в данном случае – из цивилизованного, окультуренного западноевропейского пространства) в нижние слои мироздания27, туда, где находятся бореальные культуры.
Травелог – «это всегда личный сюжет, диалог авторского “я” или героя с местом, с городом, со своим прошлым, со своим настоящим, со своей историей, культурой. Это не только хронология поездки, но и рефлексия и переживания увиденного»28. Не зря один современный историк охарактеризовал путешествие как экзистенциальный излом – «переступив порог, человек выпадает из своей привычной колеи, оказывается один на один с огромным неведомым миром»29. Именно с этим и столкнулся в ходе своего путешествия французский исследователь. В процессе его реального перемещения происходило нарастание энтропии в виде сокращения территории Цивилизации (в первую очередь, в качестве привычной для Рабо культуры и численности населения) и расширения пространства Хаоса, характеризующегося примитивизацией социумов, лесами и болотами (в мифопоэтических описаниях эти объекты находятся на пути в иное царство30, поэтому у автора они совершенно безжизненны, безлюдны, безвременны, мрачны и загадочны).
Почти на всем протяжении маршрута Рабо подстерегали опасности как природного, так и социального характера. С каждым проведенным в экспедиции днем французский «шаман» все глубже погружался «в царство все возрастающей неопределенности, негарантированности, опасности… незапланированных препятствий, импровизированных угроз, неожиданностей разного рода»31, в Нижний мир, от страницы к странице в его тексте нарастает ощущение затаившейся где–то рядом смерти (ср.: «На вершине этого перевала была большая торфяная топь, напоминавшая набухшую от воды губку, в которой вязли наши лошади. Земля вокруг была безжизненной, из нее, словно скелеты, торчали мертвые березы с застывшими белесыми ветвями. Всюду на этом кладбище природы ощущалось дыхание смерти», «от мрачного пейзажа веяло смертью»). Вертикальный путь проделывает шаман, а горизонтальный – герой32. Француз сочетал в себе их обоих.
Фактически текст Рабо напоминает сказку, поскольку в его повествовании «изображается возрастание энтропии и ужаса по мере развертывания пути: дом → двор → поле → лес, болото, теснина → яма, дыра, колодец, пещера → иное царство». Конец странствий Рабо по Уралу расположен в «чужой периферии»33, откуда путешественник, достигнув целей своего многодневного вояжа, быстро эвакуируется («утром 12 сентября я добрался до Перми и сразу же отбыл в Петербург, 27–го был уже в Або, что на западной границе Финляндии…») в привычную ему атмосферу (в прямом и переносном смысле) цивилизованного мира: «И вот я уже плыву по Балтийскому морю, жадно вдыхая его терпкий, свежий воздух, которого мне так не хватало в эти месяцы! В Сибири он казался мне спертым и нездоровым словно побывавшим в тысячах легких. Прохладный морской бриз вернул мне силы…».
В тексте Рабо, как и у многих других европейских путешественников34, странствующих по чужим землям, обращает на себя внимание тщательная фиксация не только географических точек маршрута, но и точное, вплоть до четверти часа, обозначение нахождения в той или иной точке пространства35. Разумеется, это было не случайно. В России даже в «цивилизованной» ее части время у большинства населения в основном измерялось посредством природных циклов36, а то, которое использовалось северными аборигенами, было для западноевропейца либо непригодно37, либо вообще не существовало38, однако демонстрировало связь с пространством гораздо глубже и прочнее, чем в европейской культуре39. Огромные расстояния (но только не для России: «300 км – для русских это вообще пустяк», – замечает француз), отсутствие точных карт местности40 и, главное, европейской хронологической системы таили в себе опасность почти полного растворения европейца в чужом для него мире, несли угрозу «одичания», что отчасти и произошло: через некоторое время Рабо под влиянием окружающей среды подвергся архаизации, его европейскость ужалась, и он отчасти перенял местные привычки: «Мы… постепенно научились есть пальцами, перестали умываться и быстро одичали, отчасти превратившись в черемисов. Оказалось, что культура – это всего лишь тонкий и недолговечный поверхностный слой, который при определенных обстоятельствах легко смывается».
В дальнейшем архаичная среда не раз влияла на Рабо – например, плывя по Щугору, он незаметно для себя начал отсчитывать расстояние по – зырянски, а именно в чумкостах: в этом «Нижнем мире» европейская метрология уже не работала, а местная позволяла глубже проникнуть в чужое пространство и помочь понять его. Менее явственно, но более глубоко явления архаизации и культурной гибридизации проявляются у автора книги, когда он, попав в культуры, которые ориентированы на прошлое41, углубляется в поиски свидетельств ранних этапов истории собственной цивилизации42 (что, впрочем, не исключает его замечаний относительно современного состояния исследуемых им обществ) – собственно, это и было задачей его экспедиции. Поэтому привычная нам система метрологии (время, выражаемое в часах и минутах, чуть реже упоминаемые температура воздуха по Цельсию и давление в миллиметрах ртутного столба) разграничивает у автора космологический и исторический способы описания, является одним из важнейших маркеров цивилизации, служит защитой собственной идентичности и ограждает путешественника от деевропеизации в условиях чужой культурной среды.
В записках Рабо вообще звучат кантовские нотки его подхода к пониманию связи пространства и времени. Двигаясь по реальному и мифическому универсуму одновременно горизонтально и вертикально43, автор не только погружается в другую культуру, но и в далекое прошлое европейской цивилизации, во время ее «творения». Несмотря на успехи археологии и зарождение палеоантропологии, во второй половине XIX в. основным источником представлений о первобытном обществе и его развитии по – прежнему оставалась этнография. Сторонники господствующего тогда эволюционного направления в историографии первобытности, идеи которого, судя по всему, разделял Рабо, предполагали существование универсального закона общественного развития, заключающегося в эволюции культуры от низших форм к высшим, от дикости к цивилизации и были убеждены в полном тождестве исторических путей разных народов. Судя по всему, французский ученый хотел доказать правоту этих воззрений на примере малоизученного тогда аборигенного населения Северного Урала. «Образ жизни находящихся вдали от цивилизации обитателей этих мест, – пишет он в начале своего повествования, – ничем не отличается от наших доисторических предков. Их костяные наконечники похожи на те, что находят у нас при раскопках, поэтому позволяют понять назначение вещей каменного века. Чтобы узнать о жизни первобытных людей, нужно побывать у печорских зырян и уральских остяков. В природе меняется все – животные, камни, растения, но только не дикари». Эти слова, кстати, свидетельствуют о том, что, оперируя на страницах своих записок понятиями «цивилизация» и «дикость», автор не выступает как расист, а просто – напросто использует широко распространенную в его время периодизацию истории человечества, терминология которой восходит к шотландскому историку и философу А. Фергюссону.
Чтобы попасть в далекое прошлое, не пришлось отправляться на край света. «Доисторическая», по словам Рабо, эпоха обнаружилась почти рядом с европейской высокой культурой – в Казанской губернии, а именно в марийской д. Параты, но автору показалось, «что за считанные часы мы преодолели сотни льё и уже находимся вне России, во всяком случае, не в Европе». Хронотоп книги Рабо – это фактически пространство Минковского с его четырехмерным измерением44, в котором, правда, отсутствуют замкнутые времениподобные кривые, поэтому повернуть время вспять нельзя. Но, поскольку в мифопоэтическом мире не действуют законы физики, Рабо в ходе своей поездки мог проигнорировать гипотезу о защищенности хронологии Хокинга, математически не допускающую попадания в прошлое, указанный тип пространства дополнился вселенной Гёделя, в которой это возможно.
«Выехав из Казани, – пишет Рабо, – мы как бы стали листать страницы истории цивилизации, ибо смогли воочию наблюдать процесс эволюции человечества. В Поволжье благодаря финнам – язычникам мы познакомились с образом жизни первобытных земледельцев, на Печоре охотники – зыряне продемонстрировали нам еще более древний период развития общества, а остяки – охотники и рыболовы, вооруженные стрелами и луками, подлинные представители зари цивилизации – олицетворяли самое начало человеческой истории. Спускаясь по склонам Уральских гор, мы как бы на сотни веков окунулись в глубь истории, увидели своих далеких и не знавших железа предков». Анализ увиденного, в частности, у коми – зырян, позволил автору, пусть и в полушутливой манере, дополнить имевшуюся в тогдашней науке периодизацию истории человечества «деревянным веком», что, если подойти к этому серьезно, должно было закрепить место в ней эпохи этнографической современности. Метафизические пространства Рабо вернулись в привычную для большинства людей конца XIX в. геометрию Евклида и механику Ньютона 12 сентября 1890 г. в Перми, где северный вояж француза завершился.
Репрезентуя собранные материалы, Рабо пытается деконструировать веками складывавшийся на Западе образ если уж не всей, то во всяком случае Северной России, убеждая читателя в том, что «несмотря на расхожие представления, Сибирь вовсе не является бескрайней заснеженной пустыней – напротив, она удивительно плодородна. Это один из самых прекрасных земледельческих регионов планеты, но из – за отсутствия коммуникаций его продукция пока не доходит до потребителя». Россия Рабо – это сложная в культурном, социальном и географическом отношениях территория, природная среда, которая для европейского обывателя того времени вообще была за гранью здравого смысла – выяснялось, что в невероятно холодной Сибири лето может быть очень жарким.
Современный исследователь истории ментальной репрезентации Русского Севера отмечает, что этот регион России в конце XIX в. (когда по нему путешествовал Рабо) «был все еще плохо описан (гораздо хуже, чем Сибирь к тому моменту)» (разумеется, не столько иностранными, сколько отечественными авторами), более того, «народы, проживавшие на этих бескрайних просторах, не вписывались в те рамки, которым должны бы соответствовать "европейские народности". По данным переписи 1897 г. … в Печорском крае, проживало несколько тысяч кочевых самоедов. И если финны еще могли претендовать на более высокий статус в иерархии российских народов как лояльные по отношению к государю и правящей династии, имеющие собственную элиту, и исповедующие христианство, то… самоеды Печорского края, безусловно, оказывались в самом низу всех возможных иерархий, будучи не только язычниками, но еще и кочевниками»45. Но с конца XIX в. в русской науке и культуре начались глубокие сдвиги в осмыслении образа Европейской и Азиатской России, Урала и Сибири, иначе стали восприниматься их географические и культурные границы46.
Конечно, сторонний наблюдатель Рабо не участвовал в этих внутрироссийских дискуссиях, хотя иногда высказывает в своей книге отношение к тем или иным спорным вопросам науки и экономики – например, о целесообразности разделения обских угров на остяков (хантов) и вогулов (манси)47, перспективах хозяйственного освоения отдельных территорий России и особенностях ее колониальной политики (которую он оценивал амбивалентно: отрицательно касательно северных народов и положительно – казанских татар). Заслуга французского путешественника была в другом. Создавая на страницах своего труда «сложноподчиненный синтаксис природного и культурного пространства и многомерной системы ориентиров»48, Рабо демонстрировал западному читателю, как сегодня сказали бы, мультикультурный характер Российской империи, которая представлена автором не как целостная и замкнутая в себе, а состоящая из множества разнообразных компонентов цивилизация. Тем самым французский исследователь пытался разрушить господствующий на Западе образ России как сугубо русского монокультурного государства (впоследствии этот концепт свелся к таким отличительным маркерам, как медведь, водка и балалайка и только в последние десятилетия подвергся определенной, но далеко не полной и весьма поверхностной деконструкции), и его травелог свидетельствует о том, что западное восприятие российского общества далеко не всегда характеризовалось наличием одних только примитивных и исторически неверных стереотипов.
Рабо редко оценивает российское социальное пространство с точки зрения своих представлений о подлинной Цивилизации – он просто его наблюдает и относительно беспристрастно описывает49. Ученый стремился попасть в российский Хаос, чтобы его исследовать. В настоящей книге наша страна выступает не только в качестве Другого, но и Чужого, которое для нас, читателей XXI в. и в большинстве своем представителей европейской культуры, тоже является Другим. При этом мы смотрим на это самое Другое опосредованно, глазами иностранца, который по отношению к нам тоже является Другим, т. е. объект рассмотрения – в данном случае, локальные культуры Северного Урала – является как бы Другим Других, чем – то напоминая сложное движение точки в физике.
Рабо изучал Россию в канун заключения в 1891 г. франко – русских соглашений, выступая своеобразным предтечей последовавшего за ними активного сотрудничества двух стран в области культуры. Его страстное, искреннее желание познать и понять чужую цивилизацию, наладить с ней диалог актуально и сегодня50.
И. В. Кучумов, кандидат исторических наук.
