Артхив. Истории искусства. Просто о сложном, интересно о скучном. Рассказываем об искусстве, как никто другой
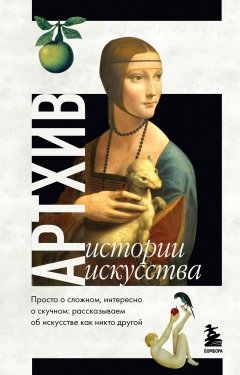
© Русский музей, Санкт-Петербург, иллюстрации, 2021;
© Государственная Третьяковская галерея, иллюстрации, 2021;
© Succession H. Matisse;
© Succession Picasso 2021;
© Артхив, текст, иллюстрации, 2021;
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021
Прелюдия
Подпись художника: почему авторы не всегда указывали свое имя и как они вошли во вкус
Нередко, рассматривая живопись старых мастеров, мы испытываем досаду, видя на табличке лаконичное «Н. Х.» – неизвестный художник. Немного больше нас радует подпись «мастер…», дополненная названием немецкого или фламандского городка или алтаря какого-нибудь святого. Если же мы откроем именной список художников XIII–XV веков, то обнаружим, что и здесь изобильнее всего представлена буква «М». И не потому, что в это время были особенно популярны Михели, Матеуши и Мельхиоры, а потому, что нас ожидает длинная череда безымянных мастеров – мастер св. Вероники, мастер амстердамского успения Богородицы, мастер вышитых рукавов, мастер лилльского поклонения…
Что же мешало художникам этого времени облегчить жизнь искусствоведам, написав где-нибудь у подножия трона Мадонны свое имя?
Вероятно, больше всего их от таких нескромных желаний удерживал страх божий, потому что тщеславие – смертный грех. Да и зачем отдельно сообщать, что именно ты писал этот алтарь, когда Господу это и так прекрасно известно?
А вот античные скульпторы свои работы подписывали с гордостью. Да что скульпторы! Даже греческие керамисты (начиная примерно с середины VII века до н. э.) нередко снабжали свои красно– и чернофигурные изделия сразу двумя подписями – гончара и художника, превращая любую проданную амфору в рекламную листовку.
Но разве можно сравнить какие-то горшки с алтарями?
На самом деле, по некоторым пунктам можно – и не только потому, что хорошие вазописцы в Античность весьма ценились, но и потому, что и алтари были ремеслом – ведь ни живопись, ни скульптура, ни ювелирное дело в представлении человека Средних веков к высокому искусству не относились.
Но и в особо широкой рекламе художники не нуждались – ведь до определенного времени практически все их работы были заказными, и заказы по мастерским нередко распределяли старшины цеха. А уж старшины-то отлично знали и самих мастеров, и их подмастерий и в авторских пометках непосредственно на работе не нуждались. Конечно, имена мастеров упоминались в расчетных книгах и расписках, но до нас от этих пергаментов и бумаг дошли считаные страницы.
Что же все-таки заставило мастеров задуматься о подписях?
Немалую роль в этом сыграло расширение «клиентской базы». Дороги, почта и дипломатия в XIII веке были развиты несомненно лучше, чем в XII (а в XIV закономерно лучше, чем в XIII), а значит, прекрасный мастер, известный в XII веке лишь в своем городе, в XIII–XIV веках получал неплохие шансы прославиться за пределами собственной страны и даже поработать на заказчика, никогда не имевшего с ним личных контактов. Следовательно, имело смысл снабдить свою работу опознавательным знаком, позволяя клиентам связать определенное имя с определенным качеством. Помогло и то, что в священных сюжетах становилось все больше светского – истории расширялись, включая в себя архитектуру и пейзажи, скупой символический мир насыщался деталями и подробностями, в него вошли изображения донаторов – обычных смертных людей, а следовательно, вплести свое имя в орнамент на вазе или увековечить себя в виде слуги в свите волхвов уже не казалось художнику великим кощунством.
Эти автопортреты в картинах – одни из первых подписей, что мы знаем. Их оставляли даже те мастера, которые так ни разу и не рискнули отметить алтарную доску своими инициалами. Жаль, что такие «подписи» так сложны для расшифровки сейчас.
Конечно, они делались не ради привлечения клиентов – хотя некоторая меркантильность в них была: ведь размещая себя на картине возле Бога, художник присоединялся к божественной благодати. Подписывая же картины понятными, разборчивыми литерами, можно было приобщиться к благодати материальной, сообщив любому зрителю о своем таланте.
Считается, что первыми оставлять на своих произведениях сигнатуры начали итальянцы. Это вполне объяснимо – в Италии, буквально нафаршированной обломками античной скульптуры, художникам проще было встретить работу греческого или римского мастера, подписанную без всякой скромности. Вскоре их примеру последовали и северные мастера.
Удивительно, но (в отличие от современных подписей) ранние сигнатуры не были робко нацарапанной в уголке доски парой литер – чаще всего они были продуманны, красивы и органично включены в композицию картины или изваяния.
Специалисты до сих пор не решили, является ли подпись Яна ван Эйка на знаменитом портрете простым подтверждением того, что картину создал именно он, или словами «Ян ван Эйк был здесь. 1434» он утверждает, что своим присутствием в это время и в этом месте засвидетельствовал некое событие.
К концу XV века художники (вот здесь в энциклопедиях обычно уточняют: «впитав гуманизм Ренессанса») окончательно утрачивают скромность и начинают снабжать работы не только сигнатурами, но и датами создания, и пояснениями, восхваляющими собственный талант. К примеру Пьетро Перуджино далеко не лучшую свою фреску подписывает словами: «Петрус Перузинус, отличный живописец, если искусство погибло, то эта живопись его возродила». В этих наивных словах – самая суть Возрождения, времени, когда искусство становится чрезвычайно важной частью жизни, а художник наконец-то ощущает себя весьма значительной персоной.
Одну из самых прекрасных историй появления подписи сохранил для нас Джорджо Вазари в биографии Микеланджело:
«…однажды Микеланджело, подойдя к тому месту, где помещена работа («Пьета»), увидел там большое число приезжих из Ломбардии, весьма ее восхвалявших, и когда один из них обратился к другому с вопросом, кто же это сделал, тот ответил: «Наш миланец Гоббо». Микеланджело промолчал, и ему показалось по меньшей мере странным, что его труды приписываются другому. Однажды ночью он заперся там со светильником, прихватив с собой резцы, и вырезал на скульптуре свое имя».
Живописцы обычно не были так отважны, как Микеланджело, и использовали для подписи таблички, картуши или листки-обманки, словно приколотые к фону, а порой «высекали» свои имена на нарисованных подоконниках и базах колонн – такой способ одновременно и сохранял имя художника, и подчеркивал его мастерство. Порой автограф мог быть оставлен имитацией чеканки на краю кубка или текстом на письме, которое держит в руках портретируемый.
Особенно признательны должны быть искусствоведы Альбрехту Дюреру, который с юности снабжал свои работы не только подписью, но и развернутым комментарием в духе «Это я сам нарисовал себя в зеркале в 1484 году, когда еще был ребенком. Альбрехт Дюрер». В нескольких же особо серьезных случаях Дюрер просто вручал плакатик с подписью самому себе, скромно, но гордо стоящему где-нибудь на заднем плане «Вознесения господня». А чтобы его работы не приписали какому-нибудь фламандцу, еще и указывал на них «немец» или «нюрнбержец».
Современник Дюрера Лукас Кранах Старший тоже пометил свое творческое наследие (из которого сохранилось больше 5000 единиц) знаком, разработанным еще на заре карьеры. За его основу был взят собственный герб Кранаха – дракон с крыльями летучей мыши, держащий в пасти кольцо. Конечно, многие искусствоведы сердиты на старого мастера за то, что отличить его собственные работы от работ мастерской непросто, но на самом деле к своим работам он всегда честно добавлял литеры LC, работы же мастерской довольствовались крылатым ящером. Делал Кранах это, конечно, не для удобства ученых, а подчиняясь цеховым правилам, требовавшим работы, к которым сам мастер руку не приложил, помечать только знаком мастерской (хотя это и снижало их цену). «А почему бы не подписать именами настоящих авторов?» – можем спросить мы. Увы – до получения мастерского звания ученики и подмастерья на подпись права не имели, а все созданные ими работы принадлежали главе мастерской.
Из всего вышесказанного возникает резонное предположение, что если подпись известного мастера поднимала стоимость работы, то их должны были подделывать. И их, конечно, подделывали. Знаменитая вторая поездка Альбрехта Дюрера в Италию была совершена не столько ради знакомства с новыми веяниями в искусстве, сколько ради прекращения итальянцами печати фальшивых «дюреровских» гравюр. Помогло это Дюреру не слишком – итальянцы запретили соотечественнику копировать подпись придирчивого немца, но разрешили продолжать копировать его работы. Впрочем, и подделать подпись соотечественника художники не гнушались (особенно если он уже не может с тобой судиться) – к примеру, Питер Брейгель Старший довольно долго работал в мастерской, производившей гравюры с подписью покойного (и очень хорошо продающегося) Босха.
К XVII веку авторские сигнатуры наконец-то приобрели привычную для нас форму – несколько букв или полное имя, иногда дополненные датой, написанные небрежно или каллиграфически (в зависимости от характера мастера) и должные засвидетельствовать подлинность картины и поднять ее цену. И все-таки иногда подпись становилась чем-то большим – к примеру, устроенная Гойей игра с подписями на «Портрете герцогини Альба в черном» явно была должна утвердить близкие отношения художника и модели. Руку герцогини художник украсил двумя кольцами с надписями: «Альба» и «Гойя».
Двадцатый век подарил искусствоведам массу способов определить авторство художника даже без подписи – и все же она по-прежнему важна настолько, что может поднять цену работы в несколько десятков раз. Ценность этих нескольких букв прекрасно иллюстрирует анекдот про Пикассо, который, расплатившись за обед в ресторане рисунком на бланке счета, парировал просьбу хозяина об автографе словами: «Дорогой мой, я ведь покупаю только обед, а не весь ресторан».
Возрождение
Термин rinascita (возрождение) вводит в обиход Джорджо Вазари, противопоставляя новое искусство, возрождающее античную культуру, «темному Средневековью». Кстати, «темным» Средневековье прозвали тоже деятели Ренессанса, надолго закрепив негативное отношение к Средним векам. Если б они знали, что сегодня, вводя в поисковик «искусство Средних веков», по ссылкам примерно на 70 % мы увидим живопись Ренессанса, то наверняка возмутились бы.
Эпоху Возрождения исторически чаще всего относят к позднему Средневековью, считая этот период «мостиком» к Новому времени. Однако мировоззренчески Возрождение тяготеет все-таки к Новому времени, и именно кватроченто формирует эстетические каноны современного человека, которые накрепко засели в нашем сознании. Что греха таить, эстетические революции ХХ века не смогли затмить и вытеснить революцию Ренессанса.
Леонардо да Винчи: бог из машины
Леонардо да Винчи – из тех, кого сейчас называют «ренессансным человеком». Около 50 областей точных и естественных наук входили в круг интересов неугомонного искателя истины. Кажется, не было такой сферы жизни, куда Леонардо не сунул бы свой любопытный нос: ботаника, зоология, анатомия, оптика, химия, аэродинамика, религиоведение, теория искусства…
Около 20 тысяч страниц заметок и набросков оставил да Винчи. Ему с трудом давался язык ученых – латынь, но и с родным итальянским были проблемы: в записных книжках попадаются огрехи в правописании и грамматике, да и хорошим слогом он тоже не блистал.
20 навыков и умений из области военной инженерии перечисляет неутомимый авантюрист в «резюме», предлагая свои услуги миланскому герцогу Лодовико Сфорца в начале 1480-х годов. Среди них – сооружение легких переносных мостов, уничтожение позиций врага путем минирования, создание «бесконечного числа орудий для нападения» и многое другое, чего в действительности Леонардо никогда не делал. Он просто хотел попробовать себя в новом качестве. Завидное место он получил.
Несмотря на то, что Леонардо был незаконнорожденным ребенком, его детство оказалось на удивление счастливым. Отец будущего художника сер Пьеро ди Антонио да Винчи не только обеспечил будущее матери мальчика Катерине, удачно выдав ее замуж, но и принял внебрачного сына в семью. Особый статус Леонардо вызывал некоторые сложности, однако он же во многом сыграл мальчику на руку. С одной стороны, из-за того, что он был незаконнорожденным, ему был заказан путь в университеты, и поэтому все науки ему пришлось постигать самостоятельно. Но с другой стороны, именно отсутствие образования позволило да Винчи оставаться непредвзятым, не скованным правилами, и сохранить веру в то, что не существует ничего невозможного.
Однако неизвестно, как развивались бы таланты Леонардо, если бы он не получил соответствующего воспитания в духе эпохи Возрождения. С раннего детства мальчик рисовал, играл на музыкальных инструментах и постигал основы ремесел, которые пригодились ему в будущем. Согласно одной из легенд, писать да Винчи научился самостоятельно, и поэтому всю жизнь использовал особый способ письма: левой рукой, справа налево и в зеркальном отражении. С детства Леонардо знал, что обладает многими талантами, но при этом был достаточно осторожным и скрытным. Эта скрытность только усилилась и на некоторое время даже превратилась в нелюдимость после того, как художника обвинили в содомии в 1476 году.
Личная жизнь Леонардо да Винчи всегда была тайной за семью печатями. Художник не только шифровал все свои записи, но и тщательно скрывал от окружающих свои любовные отношения. Конечно, слухов ему все равно не удавалось избежать. Поговаривали, что у него был роман с Чечилией Галлерани, которая стала героиней портрета «Дама с горностаем». Много сплетен и домыслов окружало и связь мастера с его учеником Салаи, которого Леонардо рисовал обнаженным.
Но самый серьезный скандал в жизни да Винчи случился, когда ему было 24 года. В анонимном доносе художника и троих его приятелей обвинили в «активной содомии». Неизвестный отправитель письма утверждал, что молодые люди изнасиловали 17-летнего натурщика Джакопо Сальтарелли. Все четверо были отправлены в тюрьму, где провели два месяца. Леонардо никогда не рассказывал об этом эпизоде и не писал о нем в дневниках, но можно представить, как он был напуган: за такое серьезное преступление его вполне могли отправить на костер.
На суде молодых людей оправдали, поскольку сторона обвинения не смогла предъявить никаких доказательств изнасилования. Выйдя из тюрьмы, да Винчи на несколько лет «залег на дно». Вероятно, несмотря на оправдание, вся эта история все же бросила тень на его репутацию и сказалась на количестве заказов. Леонардо оставался в тени до тех пор, пока не отправился в Милан работать при дворе Лодовико Сфорца.
В знаменитом письме, адресованном Герцогу Миланскому Лодовико Сфорца (предположительно, написанном в начале 1480-х), рассказывая о своих талантах будущему герцогу, да Винчи делает упор на свои способности в качестве военного инженера. Письмо начинается так: «Изучив и проверив достаточное количество экспериментов, проведенных теми, кто называет себя экспертами и изобретателями военных машин, и обнаружив, что их машины почти не отличаются от уже существующих, я имею смелость, без намерения причинить кому-либо вред, обратиться к Вашему Сиятельству, чтобы раскрыть вам мои секреты и продемонстрировать, к вашему удовольствию, вещи, коротко перечисленные ниже».
Далее в десяти коротких абзацах Леонардо перечисляет, чем он может послужить герцогу. В числе прочего он пишет, что может строить мосты, туннели, крепости и «конструировать осадные орудия и мортиры, одновременно красивые и практичные, полностью отличающиеся от используемых ныне». Поразительно то, что о своих художественных талантах да Винчи очень скромно упоминает только в самом последнем абзаце: «В мирные времена, полагаю, я тоже мог бы служить вашему удовольствию, будь то архитектура, а именно – строительство публичных или частных зданий, или перенос воды с одного места на другое. Я могу создавать скульптуры из мрамора, бронзы и терракоты. Что же касается живописи, то здесь мои работы не превосходят других».
Чем же была вызвана такая скромность? Дело в том, что в Средние века художников считали не более чем умелыми ремесленниками, и такое отношение к ним сохранялось и большую часть Раннего Возрождения. И лишь во времена Высокого Возрождения люди искусства стали особой кастой интеллектуалов, вхожих в высшие слои общества. На протяжении десятилетий художники настаивали на том, что их труд должен считаться интеллектуальным, поскольку головой они работают в той же мере, что и руками. Для того чтобы их творения были правдоподобными и натуралистичными, живописцам приходилось становиться исследователями и изучать человеческую анатомию, математику, геометрию и линейную перспективу.
В 1494 году герцогом Милана стал одиозный и честолюбивый Лодовико Сфорца. Несмотря на все амбиции и слабости, в той или иной мере присущие, надо сказать, почти всякому выдающемуся государственному деятелю, Лодовико немало послужил на благо своей вотчины и достиг значительных дипломатических успехов, добившись мирных отношений с Флоренцией, Венецией и Римом.
Немало внимания уделял он и развитию сельского хозяйства, промышленности, науки и культуры. Из живописцев он особо благоволил Леонардо да Винчи. Его кисти принадлежит портрет любовницы Лодовико и матери его сына Чечилии (Цецилии) Галлерани, более известный как «Дама с горностаем». Предположительно, живописец увековечил и законную супругу герцога Беатриче д`Эсте, а также вторую его фаворитку и мать еще одного незаконнорожденного сына Лукрецию Кривелли.
Домовой церковью Лодовико была капелла при доминиканском монастыре Санта-Мария-делле-Грацие, а его настоятель был близким другом герцога. Правитель Милана стал спонсором масштабной реконструкции церкви, которую видел будущим мавзолеем и памятником династии Сфорца. Тщеславные планы усугубились внезапной кончиной жены Беатриче и дочери Бьянки в 1497 году, спустя два года после того, как Леонардо начал работу над «Тайной вечерей».
В 1495 году, когда живописец получил заказ расписать одну из стен трапезной капеллы девятиметровой фреской с популярным евангельским сюжетом, повествующим о последней встрече Христа с апостолами, где он впервые явил своим ученикам таинство евхаристии, никто даже подозревать не мог, какая долгая и непростая судьба ее ждет.
До того момента да Винчи не приходилось работать с фресками. Но разве это могло стать препятствием для человека, который из всех методов познания выбирал эмпирический и никому не верил на слово, предпочитая все проверять на собственном опыте? Он действовал по принципу «мы не ищем легких путей» и в этом случае остался верен ему до конца.
Вместо того чтобы использовать старую добрую технику нанесения темперы на свежую штукатурку, Леонардо принялся экспериментировать. Предметом его опытов последовательно становились буквально все факторы и этапы, задействованные в создании фресок, начиная от возведения строительных лесов, для которых он пытался изобрести собственные механизмы, и заканчивая составом штукатурки и красок.
Во-первых, ему категорически не подходил метод работы по мокрой штукатурке, которая схватывалась довольно быстро и не позволяла вдумчиво работать над каждым фрагментом и бесконечно дорабатывать его, доводя до совершенства, как обычно писал свои картины Леонардо да Винчи. Во-вторых, традиционная яичная темпера не давала необходимую ему степень яркости красок, поскольку она несколько тускнела и меняла цвет при высыхании. А смешивание пигментов с маслом позволяло получать более выразительные и блестящие краски. Кроме того, можно было достигать разной плотности оттенков: от совсем густых и непрозрачных до тонких, светящихся. Это как нельзя лучше соответствовало любви да Винчи к созданию филигранных светотеневых эффектов и фирменному приему сфумато.
Но и это еще не все. Для того чтобы сделать масляную эмульсию более приспособленной к требованиям настенной росписи, живописец решает добавить в нее яичный желток, получая таким образом доселе невиданный состав «масляная темпера». Как покажет время, в долгосрочной перспективе смелый эксперимент себя не оправдал.
Да Винчи подходил ко всем аспектам написания «Тайной вечери» с такой основательностью, что оно затягивалось до бесконечности, и это безмерно раздражало настоятеля монастыря. Во-первых, кому понравится состояние «хронического ремонта» в месте принятия пищи (говорят, у авторского состава штукатурки от Леонардо был к тому же весьма неприятный запах).
Во-вторых, долгий процесс означал и соответствующее увеличение финансовых издержек на роспись, тем паче что трудилась над ней целая бригада. Объем только подготовительных работ по нанесению штукатурки, грунтовки и покрытия из свинцовых белил предполагает привлечение всех членов студии Леонардо.
Терпение настоятеля постепенно подходило к концу, и он жаловался герцогу на медлительность и лень художника. По легенде, приведенной Вазари в его «Жизнеописаниях», да Винчи в свое оправдание отвечал Лодовико, что ему не удается найти подходящего мерзавца на роль модели для Иуды. И что если лицо требуемой степени отвратительности так и не отыщется, он «всегда может воспользоваться головой этого настоятеля, столь назойливого и нескромного».
Существует еще одна легенда о натурщике, позировавшем при написании Иуды. Художник будто бы искал своего Иуду среди самых отбросов общества и в конце концов остановил свой выбор на распоследнем пропойце из сточной канавы. «Модель» едва держалась на ногах и мало что соображала, но, когда образ Иуды был готов, пьяница вгляделся в роспись и сообщил, что ему уже приходилось позировать для нее ранее.
Оказалось, что за три года до этих событий, когда он был юным и целомудренным певчим в церковном хоре, его заметил некий живописец и предложил ему роль натурщика для образа Христа. Выходит, одному и тому же человеку в разные периоды своей жизни довелось побывать как воплощением абсолютной чистоты и любви, так и прообразом наибольшего падения и предательства. Красивая притча о хрупких границах между добром и злом и том, как тяжело карабкаться вверх и легко катиться вниз.
Несмотря на все старания и эксперименты с составом краски, да Винчи все-таки не удалось произвести революцию в написании фресок. Обычно подразумевалось, что они делаются для того, чтобы радовать глаз многие века, а разрушение красочного слоя «Тайной вечери» началось еще при жизни живописца. И уже в середине XVI века Вазари упоминал, что «не видно ничего, кроме путаницы пятен».
Многочисленные реставрации и попытки спасти роспись авторства легендарного итальянца только усугубляли потери. Британский искусствовед Кеннет Кларк в 30-х годах прошлого века исследовал подготовительные эскизы и ранние копии «Тайной вечери», выполненные художниками, принимавшими участив ее создании. Он сравнил их с тем, что осталось от фрески, и его выводы были неутешительны: «Преувеличенно гримасничающие лица, словно сошедшие со «Страшного суда» Микеланджело, принадлежали кисти немощного маньериста XVI века».
Последняя и наиболее масштабная реставрация была окончена в 1999 году. Она заняла около двух десятков лет и потребовала вложения более 20 миллиардов лир. И немудрено: реставраторам предстояла работа тоньше ювелирной: требовалось удалить все слои ранних реставраций, при этом не повредив те крохи, что остались от первоначальной росписи. Руководитель реставрационных работ вспоминал, что с фреской обходились так, «словно она была настоящим инвалидом».
Сегодня «Тайная вечеря» все-таки ближе к тому, что видели перед собой монахи монастыря Санта-Мария-делле-Грацие во время трапезы. Главный парадокс заключается в том, что одно из самых знаменитых и узнаваемых произведений искусства в мире содержит всего лишь не более чем 20 процентов от оригинала. По сути, сейчас это воплощение коллективной интерпретации замысла Леонардо да Винчи, полученной путем кропотливых исследований и анализа всей доступной информации.
Интерес к человеческой анатомии Леонардо начал проявлять в конце 1480-х, когда он был придворным художником Лодовико Сфорца, правителя Милана. На первой странице нового манускрипта, известного сейчас под названием «Анатомический манускрипт В» да Винчи поставил дату «Второй день апреля 1489». На 44 страницах художник сделал несколько точных и изящных рисунков человеческого черепа. Однако в те годы у Леонардо было слишком мало доступа к анатомическим материалам, которые он мог бы изучать. Поэтому на некоторое время он переключился на другие проекты: огромный конный монумент отца Лодовико Сфорца, украшение комнат в замке герцога и, конечно, «Тайную вечерю».
Вернуться к изучению анатомии да Винчи побудила работа над фреской «Битва при Ангиари». Для того чтобы достоверно изобразить динамичные фигуры всадников, художнику требовалось досконально исследовать работу мускулатуры. К началу 1500-х он уже был настолько влиятельной фигурой, что ему позволялось самому проводить вскрытия: чаще всего ему для этого предоставляли тела казненных преступников (всего он провел около 30 вскрытий). Можно сказать, что с этого момента Леонардо из художника, интересующегося наукой, превратился в ученого с художественными талантами.
Несмотря на то что Леонардо был далеко не единственным художником эпохи Возрождения, изучавшим человеческую анатомию, его интерес к этой области науки был гораздо более глубоким. В последние годы жизни да Винчи был по-настоящему одержим работой и строением сердечных клапанов. Он создал стеклянную модель аортального клапана, через которую пропускал воду с семенами, и наблюдал за движением жидкости, фиксируя особенности работы клапана. Леонардо создал эту модель в 1513 году, а после него подобные исследования начнут проводиться лишь в ХХ веке.
К сожалению, да Винчи так и не удалось опубликовать ни одно из своих анатомических исследований. После смерти художника в 1519 году около 6500 страниц из его трактатов рассредоточились по всей Европе. К 1690 году почти все известные анатомические зарисовки да Винчи были собраны в британской Королевской коллекции, однако никто не придавал им особого значения и не публиковал их вплоть до конца XIX века. Поэтому огромное количество исследований и открытий, совершенных Леонардо за несколько столетий до этого, так и не вошли в историю науки.
В 1513 году, после долгих лет переездов между Миланом и Флоренцией, Леонардо да Винчи оказывается в Риме. Покровитель художника Джулиано Медичи и брат новоизбранного Папы Льва Х предоставил Леонардо комнаты в Бельведерском дворце в Ватикане. Медичи финансово поддерживал да Винчи, но не делал ему никаких серьезных заказов, в то время как остальные известные художники и скульпторы того времени переживали настоящий подъем творческой активности. В 1515 году французы снова захватили Милан, и Леонардо получил от короля Франциска I необычный заказ: ему предстояло сконструировать фигуру механического льва, который мог ходить, а в его груди открывалась камера, заполненная лилиями. Восхищенный мастерством да Винчи, король Франциск предложил ему место «Главного художника, инженера и архитектора короля».
64-летний да Винчи вместе со своим лучшим учеником Франческо Мельци переехал во Францию и поселился в замке Клу (сейчас – Кло-Люсе), неподалеку от летней резиденции короля в Амбуазе. Здесь художник провел последние три года жизни. Он делал зарисовки для придворных праздников, но в остальном король Франциск, обходившийся с Леонардо скорее как с почетным гостем, предоставил ему полную свободу действий. За годы, проведенные во Франции, да Винчи практически ничего не написал, занимаясь по большей части переработкой и редактированием своих научных исследований, трактатов о живописи и анатомии.
Леонардо умер в Клу 2 мая 1519 года. Согласно биографии художника, написанной Вазари, король Франциск в последний час находился рядом с да Винчи и держал его голову в своих руках. «Божественнейшая же его душа, осознавая, что большей чести удостоиться она не может, отлетела в объятиях этого короля…» – пишет Вазари. Спустя около 20 лет после смерти Леонардо Бенвенуто Челлини рассказывал о беседе с королем Франциском, в которой правитель Франции отзывался о своем любимом художнике так: «Не рождался еще в мире человек, который знал бы о живописи, скульптуре и архитектуре, сколько знал Леонардо…»
Последней загадкой, оставленной Леонардо да Винчи последующим поколениям, стало его последнее пристанище. Известно, что он был похоронен при церкви Сен-Флорентен неподалеку от замка Клу. Однако церковь была разрушена во время Французской революции, а в начале XIX века ее окончательно сровняли с землей. Поэтому место, где покоится величайший художник всех времен, остается неизвестным по сей день.
Микеланджело Буонарроти: строптивый гений
Микеланджело оставил лишь один сомнительный автопортрет, не любил собственной внешности, был суров и строптив, проваливал сроки сдачи заказов и без раздумий сбегал от именитых заказчиков, чтоб потом вернуться и искупить безрассудные поступки великолепно выполненной работой. Он писал стихи, которые так и не были изданы при жизни мастера. Он покрыл фресками 1115 квадратных метров стен Сикстинской капеллы, но терпеть не мог живопись.
Краски никогда не приносили Микеланджело такого глубокого удовлетворения, как мрамор. Резец он предпочитал кисти. Так было всегда. Даже во время работы над великими фресками Сикстинской капеллы продолжал подписывать письма Michelagnolo scultore in Roma – «Микеланджело скульптор. Рим».
Страсть к камню, шутил Микеланджело, передалась ему с грудным молоком. Его мать, 19-летняя хрупкая Франческа ди Нери ди Миниато дель Сиена, даже не думала прикладывать новорожденного к груди. После сложных родов она оказалась крайне слаба. Микеланджело, названный в честь Архангела Михаила, был, несмотря на юный возраст роженицы, уже вторым ее ребенком. Беременность протекала непросто. Приблизительно в середине срока Франческа упала с лошади. Никто из приглашенных ее мужем докторов не брался предсказать исход беременности. Отцу ребенка, мэру городка Капрезе Лодовико Буонарроти, казалось невероятным везением то, что мальчишка родился здоровым. Когда нянька совала ему рожок с разведенным козьим молоком, он плевался и сердито кричал, обнаруживая врожденную строптивость – ту, которая станет притчей во языцех, когда Микеланджело сделается знаменит.
На семейном совете было решено везти полуторамесячного Микеланджело в родовое поместье Сеттиньяно, близ Флоренции, славящееся своими мраморами и изобилующее каменоломнями. Там жила бабка Микеланджело, которая очень удачно пристроила младенца молодой соседке – пышногрудой, дородной и доброй Маргарите, только что разрешившейся третьим ребенком. Маргарита была замужем за местным каменотесом, которого из-за маленького роста и тщедушной комплекции все звали «Тополино» – мышонок. Трое их сыновей, включая Энрике, молочного брата Микеланджело, тоже станут каменотесами.
И, конечно, для Микеланджело это была судьба. Проведя детские годы в Сеттиньяно, среди нагромождений мраморных глыб, каменной пыли и монотонных ударов молота, он влюбился в камень. Очень рано он научился разбираться в его зернистости, качестве полировки, плотности, мог даже на глазок определять его вес.
Когда Микеланджело было пять или шесть, его матери не стало. Изнуренная частыми беременностями, Франческа умерла, родив Лодовико Буонарроти, пятого сына. Ну, а мамой, заезжая время от времени в Сеттиньяно, он в шутку звал мону Маргариту.
Тринадцати лет Микеланджело поступил учиться в боттегу братьев Гирландайо. Договор был составлен на три года, но проучился в боттеге Микеланджело всего год. Рано осознав, что скульптура ему стократ милее живописи, перешел учиться к скульптору Бертольдо ди Джованни, которому правитель Флоренции Лоренцо Медичи поручил создать школу скульптуры.
Школа располагалась в садах Медичи. Там вместо деревьев под открытым небом «росли» скульптуры – драгоценная коллекция греческих и римских древностей, собранная несколькими поколениями семейства Медичи. Микеланджело мог бродить среди изваяний часами. И однажды, увидев античную маску фавна, он почувствовал, что готов.
Микеланджело в это время лишь 14, самое большее 15. Он еще, можно сказать, по-настоящему не касался ни резца, ни мрамора. Это первая в его жизни скульптура, и она получилась удивительно удачной. Юноша, во‐первых, очень точно воспроизвел античный образец, а во‐вторых, Микеланджело дал волю и своей фантазии – доработал фавну рот так, что у того в животном оскале стали видны все зубы и высунутый язык. Зубы вышли великолепными, словно жемчужины.
Фавн впечатлил Лоренцо – разве можно было ожидать от 14-летнего юнца такого совершенного исполнения? Но не в манере Медичи было напрямую выражать восхищение. Привыкший всегда и над всеми беззлобно подшучивать, он сказал Микеланджело:
– А ведь тебе следовало бы знать, что у стариков редко бывают целыми все зубы, скольких-то обязательно не хватает.
Не успели стихнуть шаги удалявшегося Великолепного, как Микеланджело выломал своему фавну зуб, а потом виртуозно обработал отверстие в десне, чтобы зуб казался только что вывалившимся из альвеолы.
Большинство биографов Микеланджело сходятся на том, что именно после этого случая Лоренцо Великолепный берет Микеланджело под свое покровительство.
Из Болоньи Микеланджело вернулся во Флоренцию совсем без денег. Не то чтобы ему было много нужно – он, наоборот, отличался редкостным аскетизмом. Но вот уже и отец, Лодовико Буонарроти, намекает: пора, пора бы зарабатывать по-человечески, раз уж на третьем десятке решил опять пожить в отцовском доме.
Лодовико Буонарроти имел веский повод жаловаться на жизнь. Такие ожидания, такие надежды! Ведь подростком его второй сын был любимцем всесильного правителя Флоренции Лоренцо Медичи, жил у того под крышей почти как сын – какие блестящие перспективы! Но Лоренцо умер, а его наследника, ничтожного Пьеро, флорентийцы изгнали из города. Микеланджело тогда, опасаясь расправ, бежал в Венецию, а потом – в Болонью. Там он тоже сразу попал под опеку самого влиятельного лица города, Джанфранческо Альдовранди. Но тот не спешил завалить молодого скульптора заказами. Альдовранди придумал себе светское развлечение. Перед собравшимися гостями он раскрывал том «Божественной комедии», начинал с выражением декламировать дантовские терцины и вдруг прерывался на полуслове, многозначительно глядя на флорентийца. Микеланджело понимал, чего ждет от него публика. С того места, где остановился хозяин дома, он продолжал читать Данте по памяти. Осечек почти не бывало: великую (и по размерам тоже) поэму он знал наизусть. В конце концов, ему надоело работать местной достопримечательностью и «говорящей головой», и он вернулся во Флоренцию. В дом отца – другого дома у Микеланджело не было.
Случались мелкие заказы, какая-то совсем ерунда. За вырученные деньги даже второсортного мрамора не купишь. А этот красивый дурак, Пьеро Медичи, не унаследовавший ни благородства, ни обаяния, ни страсти к искусству своего отца Лоренцо, только довел Микеланджело до бешенства, когда опять появился во Флоренции. Позвав в свою резиденцию, чтобы дать изголодавшемуся по работе скульптору заказ, он попросил Микеланджело вылепить Геракла… из снега! Чертыхаясь, Микеланджело придал снежному изваянию сходство с Пьеро и испытал злорадное удовольствие, когда на следующий день снежный Геркулес растаял.
В стыдном деле фабрикации фальшивки Микеланджело попутал не бес – если даже и так, то у беса было импозантное обличье римского арт-дилера Бальдассаре дель Миланези. Некоторое время назад он явился к молодому скульптору, сидящему без работы, с интересным предложением. «Вечный город», говорил искуситель, охватила сущая эпидемия. Местная знать, церковная верхушка – все сходят с ума по древностям. Рим буквально перерыт, раскопки не прекращаются даже ночью, каждый день из-под земли извлекается что-то редкое и ценное. Цены на антики взлетели. А не мог бы Буонарроти сделать что-нибудь – барельеф или скульптуру – в подражание древним? О, конечно же, мог бы – после его «Битвы кентавров» в этом не приходится сомневаться! А что, если придать изделию древний вид? Древность, безусловно, будет стоить дороже, чем работа начинающего скульптора.
И Микеланджело принял предложение Миланези, больше похожее на вызов. Дело было не в безденежье – просто ради монет он бы не взялся. Но включился соревновательный азарт: он точно сделает не хуже древних! Он утрет нос снобам, ценителям искусства, и обведет их вокруг пальца. Состарить скульптуру для него вообще не проблема. Сколько раз, еще учась в боттеге Гирландайо, Микеланджело с помощью песка, дыма и пепла виртуозно состаривал рисунки!
По совету дель Миланези Микеланджело высек из мрамора Купидона. А когда тот был готов, скульптор превратился в химика: смешивал кал, гниль и скисшее молоко, натирал этой смесью статую, закапывал ее в землю.
И вдруг – заказчик! Из Рима! Некто Бальони, посланник кардинала Рафаэля Риарио ди Сан Джорджо, явился в дом Лодовико Буонарроти, чтобы переговорить с его сыном. У Микеланджело от нетерпения даже холодок по спине пробежал. Но гость не спешил говорить о заказе. Пересмотрев мраморные руки и торсы в мастерской Микеланджело, он огорошил его вопросом:
– Вы могли бы нарисовать ручку ребенка?
Конечно, Микеланджело удивился, но не слишком. В конце концов, это же он недавно лепил Геракла из снега – на этом фоне пропозиция гостя выглядела вполне вменяемой. И он нарисовал на обороте какого-то эскиза пухлую детскую ладошку. Такую выпуклую и объемную, какую мог изобразить только он.
Узрев нарисованную ладошку, гость немедленно обрадовался и почему-то засуетился:
– Так я и знал! Так я и говорил его Преосвященству: вашего псевдоантичного Купидона изваял кто-то из нынешних. Полагаю, это юное дарование из Флоренции – некто Микеланджело Буонарроти, не так давно он изумил всех барельефом «Мадонна у лестницы».
Разоблаченный молодой мастер стоял перед кардинальским агентом и слушал о том, что сам Папа не одобряет такие экзерсисы.
– Так что же, я навлек на свою голову проклятие?
– Наоборот: кардинал ди Сан Джорджо приглашает вас в Рим, он обещает вам работу и кров у себя во дворце.
В 1461 году скульптор Агостино ди Дуччо не справился с работой, порученной ему Советом попечителей строительства соборов, и огромная поврежденная его резцом глыба мрамора осталась лежать на подворье одной из флорентийских церквей. Ровно 40 лет спустя, в 1501 году, решено было вернуться к ее обработке. Тот же Совет попечителей стал искать исполнителя для статуи Давида. Она должна была символизировать мужество и храбрость граждан Флоренции, защитивших свой город от войск французского короля.
Предлагали работу многим, в том числе и уроженцу окрестностей Флоренции Леонардо да Винчи. Все отказывались: неудачный мрамор! А Микеланджело согласился – не исключено, что просто в пику своему вечному сопернику Леонардо.
Работа длилась три года, и с тех пор вот уже полтысячелетия микеланджеловский Давид – один из главных ориентиров человечества в сфере красоты. В четырехметровой статуе прекрасно все: от мускулов икр до волевого подбородка, от напряженной шеи до кистей рук. Но нашлись у Микеланджело современники с альтернативным чувством прекрасного. Например, гонфалоньеру Флоренции Пьетро Содерини пришелся не по вкусу Давидов нос!
«Случайно тогда Пьеро Содерини взглянул вверх, статуя ему очень понравилась, – повествует Джорджо Вазари, – но когда он ее с разных сторон осмотрел, то сказал: «Нос у него, кажется мне, великоват». Приметив, что гонфалоньер стоит внизу гиганта и что зрение не позволяет ему увидать по-настоящему, Микеланджело поднялся на мостки, устроенные на высоте плеч статуи, и, быстро схватив в левую руку резец и щепотку мраморной пыли, рассыпанной на досках мостков, стал, легонько взмахивая резцом, понемногу сбрасывать пыль, оставив нос в прежнем виде. Потом, взглянув вниз на гонфалоньера, стоявшего и глядевшего, сказал: «Посмотрите-ка теперь». – «Теперь мне больше нравится, – ответил гонфалоньер, – вы придали больше жизни».
С носом, стало быть, остались все – и Давид, и гонфалоньер. Идеально прямой греческий нос был для Микеланджело, можно сказать, делом принципа. Ему самому еще в ранней юности подпортил профиль скульптор Торриджано ди Торриджани.
Мемуары еще одного скульптора, Бенвенуто Челлини, сохранили рассказ Торриджано о его ссоре с Микеланджело: «Этот Буонарроти и я ходили мальчишками учиться в церковь дель Кармине, в капеллу Мазаччо; а так как у Буонарроти была привычка издеваться над всеми, кто рисовал, то как-то раз среди прочих, когда он мне надоел, я рассердился гораздо больше обычного и, стиснув руку, так сильно хватил его кулаком по носу, что почувствовал, как у меня хрустнули под кулаком эти кость и хрящ носовые, как если бы это была трубочка с битыми сливками; и с этой моей меткой он останется, пока жив».
Микеланджело, столь же чувствительный к уродству, как и к красоте, говорили, стыдился своего обезображенного лица. Ну, а Торриджано, хотя и был отнюдь не бесталанным скульптором, навсегда остался в истории как «тот тип, который сломал Микеланджело нос».
В истории Рима случались разные папы: сребролюбивые и развратные, консерваторы и реформаторы, люди, ведомые божественным промыслом и вполне случайные. Юлий II был самым воинственным папой. Время его понтификата запомнилось чередой войн: Рим противостоял то Венеции, то Франции, прирастал территориями, а сам папа иногда даже возглавлял конное войско, неся впереди Святые Дары. Боевитость Юлия проявлялась не только в политике, но и в быту: иногда он поколачивал посохом строптивого Микеланджело и грозился столкнуть его с лесов. Микеланджело убегал от него, а потом снова возвращался: из тех 13 пап, которых скульптору суждено будет пережить, Юлий лучше всех понимал искусство и, хотя и вечно торопил, и мучил его претензиями, все же искренне любил Микеланджело.
Папа Юлий задумал грандиозное сооружение – собственную гробницу. Гигантский саркофаг с сорока фигурами выше человеческого роста. От проекта, сделанного Микеланджело, он пришел в восторг, скульптору дали денег, чтобы он лично отобрал и переправил из Каррары самый лучший мрамор. Только вот дело, начинавшееся так грандиозно, скоро застопорилось. Папу осенило новой идеей – переписывать потолок Сикстины. Микеланджело, как ни пытался уклониться, вынужден был переквалифицироваться в живописцы. Стало не до гробницы. Потом умрет Юлий, сменятся один за другим несколько пап, наследники Юлия подадут на Микеланджело в суд за невыполненные обязательства и растраченные деньги и выиграют разбирательство. Проект гробницы будет несколько раз переделываться, договоры перезаключаться, вся эта выматывающая канитель с «незакрытым гештальтом» растянется без малого на сорок лет. Биографы Микеланджело называют ее не иначе как «трагедия гробницы».
Но одной лишь статуи Моисея, справедливо говорили современники, хватило бы, чтобы увековечить память папы Юлия, на которого он, по замыслу Микеланджело, оказался похож – и лицом, и духовным обликом.
Моисей – заглавная фигура гробницы папы Юлия II. Той самой гробницы, которая навлекла на голову Микеланджело беды, позор, судебные разбирательства…
Микеланджело был крайне требователен к себе. Вечно ему казалось, что его мраморы не дотягивают до божественного замысла. Очень много работ поэтому остались незавершенными. Микеланджело бросал их, либо надеясь когда-нибудь вернуться и доработать, либо будучи больше не в силах бороться с материалом, который все никак не желал принимать должную форму.
Но на сей раз, похоже, и сам Микеланджело, болезненно придирчивый к собственным работам, был удовлетворен. Он смотрел на Моисея, щуря глаза и шумно дыша от волнения. Неожиданно Микеланджело выкрикнул:
– Ты живой! Что же ты не встаешь?! Иди!
Изваяние не шелохнулось.
Микеланджело изо всех сил полоснул резцом по мраморному колену пророка. Небольшой рубец так и остался свидетелем радости и отчаяния гения.
Высокий и неудобный для работы потолок, отсутствие готовых красок, сложная техника живописи, 1115 квадратных метров площади, четыре с половиной года времени, нетерпеливый и капризный заказчик и скульптор, которому спешно пришлось переквалифицироваться в живописца… История росписи свода Сикстинской капеллы силами одного некрупного Микеланджело часто кажется красивой легендой, за которой прячется краскопульт, изобретенный каким-нибудь вторым Леонардо, или Доктор Кто, который прилетел в своей синей будке помогать художнику технологиями XXV века.
Пожалуй, отцом легенды о единоличной росписи свода мы можем считать младшего современника Микеланджело, Джорджо Вазари. По словам Вазари, заказ на роспись скульптор получил «благодаря» своему конкуренту, архитектору Браманте, который «убедил Его Святейшество, чтобы он заказал Микельаньоло. Опыта во фресковой живописи у него не было, работа эта менее благодарная и, наверное, удастся ему меньше, чем Рафаэлю; и если бы он и добился успеха, они все равно решили поссорить его с папой, словом, думали тем или иным способом отделаться от Микельаньоло».
Обновить же капеллу и впрямь было необходимо – прежняя незамысловатая роспись, изображавшая звездное небо, была испорчена из-за частично обрушившегося потолка, и после ремонта, проведенного Браманте, на ней зияла «заплата».
Подавив сопротивление Микеланджело в пункте «я не буду писать, потому что не живописец», папа смилостивился и композиционное решение отдал на волю художника. Папу вполне бы устроил потолок, украшенный дюжиной живописных фигур в нижней части, а дальше разбитый, к примеру, на кессоны, написанные в технике «тромплей», или заполненный «гротесками». Если бы мастер этим ограничился, то исполнение «в одну кисть» за такое время никого бы особенно не удивило. Но Микеланджело не искал легких путей (или немного тянул время, надеясь, что клиент передумает).
Но рано или поздно, а за кисть браться пришлось – и вот здесь у Микеланджело все было не слишком блестяще. Конечно, работать красками он умел – все-таки его первыми учителями были живописцы Гирландайо, и, возможно, они успели его познакомить с техникой классической фресковой живописи. Но для росписи Сикстинской капеллы такого краткого знакомства было явно недостаточно, и Микеланджело решил пригласить консультантов.
Если убрать из рассказа Вазари все почтение, останется голая и неприятная суть – получив необходимые знания по технике фрески, Микеланджело без объяснения причин вынудил помощников оставить работу. Ситуация некрасивая, но все биографы гения в курсе, что когда ангелы раздавали хороший характер и коммуникативные навыки, Микеланджело еще раз встал за талантом.
Надо заметить, что навыков, полученных от выгнанных живописцев, скульптору хватило не вполне – римская известь для верхнего слоя штукатурки отличалась от флорентийской, и начатая фреска принялась стремительно плесневеть. В этот момент в привычной легенде о потолке, созданном одним мастером, появляется живописец Якопо л’Индако (или, по версии Вазари, архитектор Джулиано да Сангалло), посоветовавший добавлять в основу под роспись больше песка.
Почему же Вазари, писавший свою историю пусть и много позже росписи потолка, но, несомненно, при жизни Микеланджело, так убежден в отсутствии помощников? Возможно, потому, что, работая конкретно над этой частью своего труда, Вазари был весьма пристрастен – ведь речь шла не о каком-то из мастеров прошлого, а о современнике, учителе и старшем друге. Скорее всего, ему даже не приходило в голову усомниться в том, что рассказывал ему учитель о событиях почти сорокалетней давности.
Впрочем, и избавившись от флорентийцев, Микеланджело, несомненно, оставил при себе учеников, потому что специфика фресковой росписи на таких площадях не предполагает, что один-единственный человек (пусть и трижды гений) сам готовит поверхность, сам переносит на штукатурку контур с картона, сам трет краски – и все это без «связи с землей», на высоких лесах. С другой стороны, даже если по лесам вместе с ним бродили еще три-четыре человека, работу Микеланджело все равно проделал невероятную. О ее тяготах (несоизмеримых с невысокой оплатой) сам он так писал Джованни де Пистойя:
- От напряженья вылез зоб на шее
- Моей, как у ломбардских кошек от воды,
- А может быть, не только у ломбардских,
- Живот подполз вплотную к подбородку,
- Задралась к небу борода. Затылок
- Прилип к спине, а на лицо от кисти
- За каплей капля краски сверху льются
- И в пеструю его палитру превращают.
- В живот воткнулись бедра, зад свисает
- Между ногами, глаз шагов не видит.
- Натянута вся спереди, а сзади
- Собралась в складки кожа. От сгибания
- Я в лук кривой сирийский обратился.
- Мутится, судит криво
- Рассудок мой. Еще бы! Можно ль верно
- Попасть по цели из ружья кривого?..
Существует распространенное заблуждение, что Микеланджело писал потолок, лежа на лесах. На самом деле мастер работал стоя, запрокинув голову вверх – это подтверждает и автошарж Микеланджело и расположение отверстий, сделанных для опоры лесов. Из-за этой неудобной позы Микеланджело и после росписи некоторое время был вынужден читать, держа книгу над головой.
Больше двух десятков лет прошло после росписи потолка Сикстинской капеллы, когда Микеланджело был приглашен оформить там же алтарную стену – разместить на ней композицию Страшного суда. Несмотря на возраст, к серьезной помощи в этой работе мастер допустил лишь Урбино, бывшего ему и слугой, и помощником, и другом, позволив тому местами писать фон, остальной же «группе поддержки» доверялось готовить краски и очередные участки под роспись.
На этой стене находится и единственный автопортрет художника. Микеланджело не писал автопортретов: одни считают, что, в отличие от красавца Рафаэля, не любил своей внешности, другие – что видел в написании автопортретов неоправданное тщеславие. И то и другое похоже на правду. Но к зрелости он нашел, как ему казалось, адекватную форму автопортрета: автопортрет Микеланджело на стене Сикстинской капеллы – содранная со святого Варфоломея кожа.
- Прости, Господь, что, упредив решенье,
- Себя заране поместил в аду.
- Мне не дождаться часа искупленья —
- Я был не раз с Тобою не в ладу…
Иероним Босх: доктор Кто
Достоверных сведений о жизни Иеронима Босха сохранилось исчезающе мало. Все то немногое, что мы знаем об авторе «Сада земных наслаждений», – результат тщательных исследовательских реконструкций. Однако дьявольская ирония в том, что даже сугубо научные факты о Босхе выглядят точь-в-точь как заголовки в желтой прессе: «Босх кормил Брейгеля даже после своей смерти!», «Бородатая женщина не выпустила Босха из Хертогенбоса!», «Босх подарил друзьям жареного лебедя!..», «Скандалы, интриги, расследования», да и только…
Если бы когда-нибудь нашелся дневник, трактат, да хоть какая-нибудь рукопись Иеронима Босха – это произвело бы эффект разорвавшейся бомбы. Для сравнения: живший ровно в те же годы и десятилетия Леонардо да Винчи исписал дневниковыми заметками, афоризмами, баснями, эпиграммами, техническими выкладками и пророчествами более семи тысяч страниц! Босх же не завещал потомкам ни строчки. Пять веков они, то есть мы, только и делаем, что гадаем: кем он был, о чем думал и, главное, что он имел в виду.
В определенном смысле биография Босха подобна его знаменитому триптиху «Сад земных наслаждений». В «закрытом» виде – это скудный монохромный перечень архивных документов. Но стоит искусствоведам приоткрыть створки воображения, и жизнь Босха расцветает самыми невероятными событиями, красками и образами.
В самом деле, кем был этот удивительный человек? Мессией, антихристом, провидцем, безумцем или, может быть, всем этим сразу? Вот самые популярные версии, будоражащие умы исследователей на протяжении нескольких веков.
О том, что работы Босха тронуты «тленом ереси», начали говорить еще в XVI веке, и сегодня эта гипотеза ничуть не утратила актуальности. В основном ее сторонники делятся на два лагеря. Первые считают, что Босх состоял в секте адамитов – обществе Свободного Духа, члены которого совершали свои обряды нагишом, проповедовали свободу сексуальных отношений, не признавали частной собственности и рассчитывали построить на земле новый Эдем, где все были бы равны, невинны и беспечальны, словно Адам и Ева. В качестве «доказательства» некоторые исследователи приводят центральную часть триптиха «Сад земных наслаждений», считая, что Босх изобразил ритуалы «клуба, за который играет».
Другие уверены, что изобильная обнаженная натура нужна художнику, чтобы показать свое презрение к плотским утехам. К примеру, биограф Линда Харрис считает, что ересь Босха восходит к катаро-манихейской традиции с ее четким дуализмом (отсюда очевидное «деление» образов на Свет и Тьму, рай и ад, духовное и материальное).
И те, и другие упорно игнорируют тот факт, что во времена Босха инквизиция свирепствовала с особым тщанием. И пробежаться нагишом по улицам Хертогенбоса, проповедуя свободную любовь или двойственность мироздания (пусть даже в живописной иносказательной манере), можно было разве что до ближайшей дыбы.
В то время как часть биографов выясняет отношения, споря, к какой именно ереси тяготел Босх, другие уверены, что он был истово верующим католиком, как сказали бы в наше время – «тру». И антиклерикальный пафос, который бесспорно присутствует в его работах, вызван как раз мягкостью Престола по отношению к адамитам, манихейцам, гуманистам и прочим греховодникам.
Босх жил в эпоху великого перелома. Сквознячки гедонизма, гулявшие по Италии, задували в Северную Европу. Бедность, смирение, умеренность – идеалы, казавшиеся незыблемыми веками, вдруг дрогнули под натиском крамольной идеи о том, что «человек – венец творений природы». Церковь теряла былой авторитет, и Босх остро чувствовал, что час расплаты не за горами. Вездесущих жаб и сов, ассоциировавшихся с тьмой и ересью, он рисовал в назидание. Священников изображал деградантами, поскольку считал, что церковь тоже погрязла в алчности и разврате. И дивные образы того же «Сада земных наслаждений» навеяли ему не еретические учения, а незамутненное чувство католической вины.
В пользу этой теории говорит и то, что после смерти Босх со всеми почестями был отпет в соборе Святого Иоанна. И то, что его работа «Семь смертных грехов» висела в покоях короля Испании Филиппа II – монарха, преследовавшего еретиков с особой яростью.
Центральную часть триптиха «Сад земных наслаждений» нередко называют «алхимическим садом»: тут и изобильная астрологическая символика, и совокупления в стеклянных сферах (читай колбах и ретортах), и непременный «Фонтан юности» – собственно алхимический контекст ни у кого не вызывает сомнений. Что касается отношения Босха к алхимии – его трактуют по-разному.
К примеру, французский исследователь Жак Шайи называет Босха «пристрастным свидетелем одного из важных этапов алхимического искусства». Притом Шайи настаивает на том, что Босх был непримиримым врагом алхимии, считал ее ересью и объектом сатиры. Другие полагают, что Босх не только был «пристрастным свидетелем», но и практиковал сам. Это правдоподобная версия – многие художники пытаются добыть золото посредством химических реакций между холстом и красками (магическим эликсиром тут иногда выступает талант, а иногда – ушлый арт-дилер). Впрочем, это явно не про Босха: Иероним удачно женился на богатой и работал не ради денег.
Многие уверены, что патологическая образность Босха – родом из видений, которые посещали художника в состоянии измененного сознания. Однако насчет природы видений единодушия снова нет.
Кто-то норовит поставить Босху диагноз. Так видный российский психиатр Марк Бурно отмечает, что творчеству Босха свойственен «полифонический характер – своеобразная характерологическая мозаика, порожденная шизофреническим процессом».
Немногочисленные биографические факты свидетельствуют о том, что Босх прожил удручающе нормальную и даже скучную жизнь. Кроме того, современная психиатрия считает, что в той или иной мере шизотипическим расстройством личности страдает каждый десятый, а в мире искусства – и вовсе каждый третий. Так что, если эта версия и состоятельна, то разве что в качестве утешения тем мастерам культуры, которых природа обделила воображением.
Другие намекают на то, что для «погружения в тему» Босх принимал рекреационные препараты. Сегодня сложно поверить, что у голландского художника могли возникнуть с этим какие-либо сложности. Однако во времена Босха кофешопов было не так уж много. И никаких документальных свидетельств о том, что в XV веке в Хертогенбосе проводились трансвечеринки и психоделические опен-эйры до нас не дошло. В общем, культура потребления галлюциногенов в те годы была не на высоте.
Существует также третья версия – о том, что Иероним Босх продал душу Дьяволу в обмен на возможность путешествовать в другие миры. Впрочем, она почему-то недостаточно активно дискутируется научным сообществом.
Исследуя выполненную Босхом роспись одного из соборов Хертогенбоса, голландский профессор иконографии Эдмунд ван Хооссе пришел к выводу, что Иероним был свидетелем прибытия НЛО. А вот американский уфолог Джордан Хардс считает версию ван Хооссе недостаточно обоснованной. По его мнению, Босх, наблюдавший пришельцев в XV веке, – это антинаучный вздор: совершенно очевидно, что Босх сам был пришельцем. Забудьте о метафорах и аллегориях – Босх был реалистом. Летающие рыбы? Ученая саранча? Меланхоличное древесное чудище, в чреве которого пирует веселая компания? Там, откуда он родом, все это обычное дело.
И, наконец, гипотеза, которая кажется вполне достоверной: Босх любил загадывать зрителю загадки, его самого забавляло обилие трактовок и смыслов, которые вкладывала в его работы публика. Он был внимателен к желаниям заказчика и добросовестно исполнял его капризы (особенно, если заказчик был влиятельным вельможей). Не забывая притом оставить интригу – чтобы, разгадывая ребус, влиятельный вельможа мог остаться в дураках.
Иконографическое решение «Сада земных наслаждений» было отчасти продиктовано религиозным содержанием, но также было рассчитано и на мощный визуальный эффект. Легко представить, какое впечатление производил на гостей владевший картиной Генрих III, когда распахивал внешние черно-белые створки. Босх был «полиглотом», универсальным переводчиком на любой язык. Он зашифровывал в своих образах библейские сюжеты, сатирические намеки и – в изобилии – местный фольклор тех лет. Так, фрагмент центральной части с любовниками в стеклянной сфере мог символизировать грехопадение, мог показаться пропагандой учения адамитов или его критикой, мог быть прочитан как алхимическая аллегория, а мог быть и просто иллюстрацией к старой нидерландской поговорке «Стекло и любовь – как они недолговечны!».
Да что сфера, изображение обычной рыбы могло означать Христа, знак зодиака, Луну, месяц февраль, воду, флегматический темперамент, быть атрибутом любострастия, служить символом поста, а также намекать на голландские пословицы: «Большая рыба поедает маленькую» или «Каждая селедка на своем хвосте висит».
И это не считая тех случаев, когда рыба означала рыбу.
Как известно, урожденный Иероним ван Акен не только взял себе псевдоним по названию города, в котором родился, но и никогда не покидал его пределов. Ученые осторожно допускают, что Босх мог бывать в Утрехте и Южных Нидерландах, но документов, которые бы подтверждали, что Босх когда-либо выезжал за пределы Хертогенбоса, не сохранилось. И вдруг в босховедении возникло почти сенсационное предположение: Босх бывал в Северной Италии! Ведь он написал картину с необычнейшим сюжетом «Распятая мученица», а именно в североитальянских провинциях распространен культ святой Юлианы – христианки, которая отказалась поклониться языческим идолам и за это была распята на кресте.
Увы, сенсация просуществовала недолго. Она оказалась развенчана, как только удалось обнаружить на лице босховской «Распятой мученицы» остаточные следы… бороды! Тут-то и выяснилось, что изображенная Босхом мученица – вовсе не Юлиана, популярная у итальянцев, а Либерата, которую ценили в Нидерландах – она тоже была распята на кресте. Собственный отец таким образом наказал Либерату за непослушание: не желая выходить за короля-язычника, девушка молилась Христу о том, чтобы на ее лице выросла борода. Недавние исследования с использованием новейших цифровых методов наличие следов бороды на лице босховской мученицы подтвердили. И, к сожалению, лишили нас аргументов о том, что Босх мог посещать Италию.
Однажды Босх преподнес своим братьям по вере жареного лебедя. И это не курьез, а документально подтвержденный факт. Потрясающе: даже о дне рождении Босха документов не сохранилось, зато архивная запись о дареном лебеде, с датой и подписью – благополучно дожила до наших дней! Судя по документам, Иероним Босх был одним из высокопоставленных членов Братства Богоматери. Подобных религиозных общин в городе Хертогенбосе насчитывалось немало. Они объединяли и клириков, и простых мирян. Люди собирались не в церкви, а у кого-то дома, вместе ели, читали Библию, обсуждали не только религиозные вопросы, но и текущие дела. Это помогало усилить религиозное чувство и христианскую братскую любовь, сделать веру не пустой формальностью или окостеневшим обрядом, а частью живой жизни.
Братство Богоматери было одним из старейших в городе: первые упоминания о нем встречаются в 1318 году – это значит, оно существовало уже за полтора столетия до рождения художника. Члены Братства Богоматери еще называли себя «лебедиными братьями», и Босх, судя по хертогенбосским архивам, был среди них авторитетом. Интересной бытовой особенностью Братства было то, что за трапезой там непременно подавали жареного лебедя, и каждый из присутствующих должен был обязательно съесть кусочек ножки или крылышка – вот почему Босх преподносит лебедя общине. Не случайно также, что жареного лебедя на блюде подают гостям и на картине Босха «Брак в Кане».
Самым популярным героем в наследии Босха оказался не грешник, а праведник! Святого Антония художник изобразил как минимум на трех картинах и одном рисунке, также молящегося Антония мы видим на левой створке триптиха «Распятая мученица». Более того: именно этому герою Босх посвятил целый живописный триптих «Искушение святого Антония», который иногда так и тянет переименовать в «Приключения святого Антония» – настолько захватывающий вырисовывается сюжет из эпизодов жития, воссозданных Босхом. Тут тебе и летучие бесы, терзающие Антония в небесах. И демоны, словно заговорщики-бомбисты, засевшие под мостом, на который вот-вот ступит ослабевший Антоний. И рыбы на колесах с птицами в кардинальских сутанах. И неведомая царица, соблазняющая святого своим обнаженным телом. И одурманенный Антоний, летящий под облаками вместе с соблазнительницей на летучей рыбе…
Шутки шутками, но для такого пристального внимания художника именно к этому святому должны были быть веские причины. Почему из всего великого множества католических мучеников и праведников Босх выбрал именно Антония? Ответ на этот вопрос проще, чем кажется: Антоний был небесным покровителем художника из Хертогенбоса Антониса ван Акена – отца Иеронима Босха. Даже домовая церковь семьи Босха носила имя святого Антония. Так что интерес Босха к Антонию – не только чисто художественный, но и биографический.
На первых порах творческого становления Брейгеля его кормил Босх! И это несмотря на то, что сам Питер Брейгель (Старший) появился на свет лет через 10–20 после смерти Босха (точная дата рождения Брейгеля, как, впрочем, и Босха, не установлена). Юный Брейгель боготворил Босха и поначалу отчаянно ему подражал. Предприимчивый антверпенский гравер и коммерсант Иероним Кок, в чью мастерскую нанялся на работу никому пока не известный Брейгель, быстро сообразил, что картины нераскрученного художника ему не продать. И намекнул Брейгелю: делай-ка лучше рисунки, этот недорогой и популярный товар в нашей лавочке с романтическим названием «На семи ветрах» никогда не залеживается!
Дело пришлось Брейгелю по душе, он прилежно снабжал Кока рисунками с фантасмагорическими сюжетами. Особенно хорошо продавался рисунок «Большие рыбы пожирают малых». Каково же было возмущение Брейгеля, когда он узнал «маркетинговый секрет»: хитрый Иероним Кок на голубом глазу рассказывает покупателям, что это рисунок самого великого Босха.
Тициан Вечеллио: божественный
В обширной литературе о творчестве и жизни Тициана Вечеллио его нередко зовут «горец». Не потому что, как могли бы пошутить нынешние киноманы, Тициан бессмертен (хотя, разумеется, бессмертен, наравне с великими современниками Леонардо, Микеланджело, Рафаэлем; только великих итальянцы звали просто по имени, опуская фамилию). И не потому, что дожил до возраста патриархов – умер не то в 96, не то в 99 лет (о точной дате его рождения до сих пор ведутся споры). Все проще: горцем Тициан был по месту рождения – городу-крепости Пьеве ди Кадоре в североитальянских Доломитовых Альпах, местности с суровым климатом и суровыми нравами.
Тициан был человеком основательным, много читал и размышлял, злые языки даже звали его «тугодумом». Из этого вытекала особенность его творческой манеры – он очень медленно писал. Если работа над картиной «не шла», Тициан разворачивал полотно к стене до лучших времен. Это то и дело приводило к скандалам. Заказчики буквально осаждали Тициана напоминаниями о том, что все сроки уже истекли.
Тициан был натурой могучей и цельной. Его дух и тело существовали в согласии, без всякой раздвоенности. Лишь к концу жизни художника, когда Высокое Возрождение подойдет к своему закату, обнаружив трагические противоречия между миром и человеком, а Тициан разуверится в наступлении «золотого века», о котором столько писали гуманисты, его позднее искусство приобретет тревожное звучание.
Венеция в эпоху Тициана была не просто городом, а небольшим государством и сильнейшей морской державой. Ведь художник жил в XVI веке, когда Италия еще не была единым государством и только стояла на пороге национального объединения. Будущая Италия составилась из отдельных городов-коммун. И Венеция, гордо называвшая себя Республикой Святого Марка, была из них самой амбициозной.
Венецию ненавидели сменяющиеся римские папы. Она, не смущаясь, захватывала области, издревле принадлежащие святому престолу: Равенну, Римини, Фаенцу. Падуя, Виченца и Верона платили Венеции дань. В апреле 1509 года папа Юлий II наложил на Венецию за ее захватническую политику интердикт – запрет любых церковных действий на ее территории. Оказывается, и так бывает: целый город можно отлучить от церкви.
Вторым злейшим врагом Венеции во времена молодости Тициана был германский правитель Максимилиан, порывавшийся объединиться с испанскими Габсбургами и завоевать итальянские земли. Ну, а самый крутой замес случился, когда Максимилиан вознамерился встретиться с римским папой, пообещавшим короновать его как императора. Одна загвоздка: чтобы добраться до Рима, воинственному германцу надо было пересечь Венецию. И Венеция ему это законодательно запретила! Конечно, рассвирепевший Максимилиан прошелся тогда по ней «огнем и мечом», но сам факт запрета впечатляет.
Вот в такой город – дерзкий, наглый, самоуверенный – приезжает из провинциального Кадора юный Тициан, чтобы остаться там навсегда и составить мировую славу и себе, и Венеции.
Матушка Тициана Лючия Вечеллио не хотела отпускать его в Венецию. Но это будет потом, когда Тициан станет приезжать «на побывку» и рассказывать, какие у них там, в Венеции, нравы, карнавалы и факельные шествия. А вначале именно из-за матери Тициана и отправили учиться в город на воде. Подростком он однажды нарисовал на беленой стене дома Деву Марию. Вернувшаяся с воскресной мессы Лючия разрыдалась: пресвятая Дева была как две капли воды похожа на нее.
Отец Тициана тогда постановил: пусть едет в Венецию и учится рисовать. Но мать так сокрушалась, что за компанию с Тицианом отправили и его брата Франческо: вдвоем все-таки не так страшно, да и повеселее будет. Так братья Вечеллио стали учениками мозаичиста. Мозаики у венецианцев были популярны, а вот фресок почти никто не писал. Фрески в разъедающе-влажном воздухе Венеции, содержащем соленую морскую взвесь, просто не выживали – разрушались еще при жизни своих создателей.
Каждый раз после каникул, проведенных дома в Кадоре, Тициан и Франческо возвращались в Венецию, навьюченные, как верблюды. Чем же? Биограф сладострастно перечисляет: «сырокопчеными окороками, колбасами, головками острого овечьего сыра, бутылями оливкового масла и бурдюками с добрым домашним вином…» Уж о чем о чем, а о пище донна Лючия Вечеллио заботилась крепко. А как иначе, если в этой самой Венеции едят – мама миа, противно даже подумать! – морских гадов и эти ужасные макароны, завезенные из Китая Марко Поло.
Бичом Венеции была чума, но Тициан, вопреки устоявшемуся заблуждению, умер не от этого. Да, смерть Тициана пришлась на год жесточайшей эпидемии, но версия о том, что и он стал жертвой чумы, вызывает сомнения. Дело в том, что Тициан был погребен не на чумном кладбище, а в венецианском соборе Санта-Мария Глориоза деи Фрари. От чумы скончался другой Вечеллио – Орацио, сын Тициана, тоже художник. А сам Тициан, будучи весьма преклонных годов, тихо умер в своей мастерской, согласно преданию, с картиной в руках.
Но чума и вправду сыграла в жизни Тициана роковую роль. Когда Тициан только пытался покорить Венецию, там гремело другое имя – Джорджоне. Венецианцы готовы были носить на руках этого легкомысленного и гениального художника с необыкновенно лиричной манерой письма. Он был безумно популярен у местных интеллектуалов и коллекционеров, но умер от чумы довольно молодым. Тициан чудом успел оказаться у дома Джорджоне, когда рядом уже пылали костры: в них сжигали зачумленные вещи покойника. Рискуя жизнью, Тициан спас от огня несколько картин Джорджоне, включая знаменитую «Спящую Венеру». А потом поклонники Джорджоне обратились к Тициану с просьбой дописать некоторые картины, которые не успел закончить их кумир. И хотя Тициан сделал все на совесть и не претендовал на авторство дописанных работ, ему потом очень долго пришлось доказывать авторство уже собственных картин: злые языки нашептывали, что их написал Джорджоне, а Тициан пытается присвоить себе чужую славу.
Интересно, что до испепеляющей чумы 1510 года знаменитые венецианские гондолы были яркими и разноцветными. Но им пришлось перевозить жуткую ношу. Тысячи и тысячи трупов плыли по Большому каналу на острова Сан-Ладзаро и Лидо, где были чумные кладбища. Городская легенда гласит, что именно тогда власти Республики Святого Марка в память об умерших постановили оставлять гондолы просто покрашенными черным лаком.
В Венеции в середине XVI века было 11 тысяч легализованных проституток, и Тициан не брезговал их услугами. В первую очередь, речь, конечно, идет о позировании. Но и об удовольствии – тоже. Тициан был от природы силен, крепок и наделен несокрушимым здоровьем. К тому же довольно долго (даже прижив двоих сыновей) официально оставался холостяком. Вполне природно, что он прибегал к услугам жриц любви, а они платили степенному и доброму Тициану пылкой привязанностью.
11 тысяч проституток – целый социальный класс! Они исправно пополняли венецианскую казну своими налогами. В богатой Венеции уже в XVI веке была высокоразвитая полиграфия и раз в году для удобства граждан печатался каталог жриц любви – с именами, адресами и ценами, которые различались в зависимости от удаленности от центра города. Ограничений для куртизанок было немного: например, им предписывалось выходить из дома исключительно в желтой шали, чтобы клиенты, не доведи господь, не перепутали их с благочестивыми женщинами.
Личные предпочтения Тициана не были секретом. Будучи и сам могуч и статен, он всегда любил крупных женщин. Ооочень крупных, широкоплечих, мощных – куда там Рубенсу! Вот как биограф, прибегая к извиняющимся аналогиям и экивокам, пишет о вкусах Тициана – не то художественных, не то интимных: «Художник не любил предрассветную дымку, начало дня и хрупкость юных дев. Ему больше по душе начало осени, часы перед закатом, и он отдает предпочтение полнокровной и уже познавшей прелести жизни натуре».
В 1510-х годах, гостя у родни в Кадоре, Тициан увидел Чечилию Сольдано, прислуживавшую его матери. Пышущая здоровой деревенской красотой, скромная и работящая Чечилия потрясла Тициана: она так отличалась от легкомысленных венецианок и праздных красавиц Феррары и Падуи. Тициан уехал, но впечатление не забывалось. Тогда брат Франческо сделал ему сюрприз: уговорил родителей Чечилии отпустить девушку в Венецию. Вести домашнее хозяйство братьев Вечеллио – чем не заработок? Тициан оценил заботу брата, но еще долго не решался подступиться к Чечилии. Она заботилась о нем с материнской нежностью, густо краснела, когда он читал вслух любимых эротических поэтов Катулла и Овидия, и, казалось, не претендовала на большее. Страсть к Чечилии настолько ослепила Тициана, что его перестали возбуждать другие натурщицы, и в конце концов, эта крепость пала, но об официальном венчании речи еще долго не шло, много лет они оставались любовниками. Лишь в 1525 году Тициан наконец женится на Чечилии. К этому времени его верная подруга успеет родить художнику двух сыновей – Помпонио и Орацио, а через пять лет Чечилия умрет, подарив жизнь их с Тицианом дочери Лавинии.
Врагом Венеции № 3 (после Папы и германского императора) были турки. Но какое отношение, спросит читатель, этот факт имел к художественной жизни? Да самое непосредственное! Современник Тициана Леонардо да Винчи бывал в Венеции. Именно в городе на воде его посетила гениальная идея создания подводной лодки. Леонардо считал, что только так у Венеции появится реальный шанс отбиться от турецкого флота.
В течение трехсот лет Венеция умудрялась с турками одновременно и воевать, и торговать. Учитель Тициана Джентиле Беллини (старший брат Джованни, позже Тициан перейдет учиться к нему) жил при турецком дворе, помогая своим искусством наводить мосты между враждующими субъектами – огромной Османской империей и маленькой, но гордой Республикой Святого Марка. Профильный портрет султана Мехмеда II Завоевателя работы Беллини, по словам современного писателя и лауреата Нобелевской премии Орхана Памука, и до наших дней в Турции является культовым – примерно как портрет Че Гевары на Кубе.
Когда Джентиле осмелился преподнести Мехмеду II в дар полотно с отрубленной головой Иоанна Крестителя, султан заметил, что жилы, торчащие из головы, написаны неправильно. Джентиле попробовал возразить. Мехмед немедленно выхватил саблю, отсек голову стоящему рядом слуге и принялся объяснять тонкости анатомии на живом (точнее, уже не живом) примере.
В пору расцвета таланта Тициана османами правил уже другой султан – Сулейман I Великолепный. Тем, кто смотрел турецкий сериал «Великолепный век», не нужно объяснять, кто он был такой. В 1521 году Сулейман подписал мир с Республикой Святого Марка. Не слишком ясно, бывал ли при дворе султана Тициан, но, например, его портрет Лауры Дианты (любовницы герцога Альфонсо д`Эсте, занявшей место его законной жены Лукреции Борджиа) из-за чалмы на ее голове одно время ошибочно считался портретом жены султана. И, к сожалению, до сих пор достоверно не известно, изображена ли на двух известных портретах жена Сулеймана Хюррем или его дочь Камерия (Михримах), а также принадлежат ли они самому Тициану, которому приписываются, или живописцам его мастерской.
Венеция славилась свободой слова и фельетонами антифеодальной направленности. Так что вполне закономерно, что именно там начали выпускать бойкий печатный листок под названием «Гадзеттино», от которого произошло слово газета. А название первому медиа Венеции дала мелкая монетка с изображением сороки (по-итальянски – gazza) – как раз столько тогда стоила газета.
В начале XVI века Джованни Таксис, предприниматель из Бергамо, открыл в Венеции, у самого моста Риальто, почтово-транспортную контору. Экипажи Таксиса могли отвезти хоть в Верону, хоть в Падую, и очень скоро он стал в своей сфере монополистом. Есть версия, что и название «такси» происходит от его имени. Так это или нет, но Тициан с удовольствием пользовался услугами вновь изобретенного сервиса, заказывая дилижансы в конторе Таксиса. Особо приятно было, что в холодное время года в некоторых из них предусматривался подогрев. Единственное, что расстраивало, – дилижансы Таксиса не хотели везти на родину Тициана в Кадор: это была труднопроходимая гористая местность, пересеченная реками, и к тому же – в сравнении с Венецией – жуткая глушь.
Чтобы занять в Венеции выгодную административную позицию, Тициан пытался «подсидеть» Джованни Беллини. Была такая традиционная для города должность – соляной посредник. Тогда считалось, что в минералах (не важно, пигменты это для красок или соль для употребления в пищу) лучше всего разбираются именно художники. По правде сказать, ко времени Тициана функция посредника была чисто номинальной. Зато она автоматически давала множество преимуществ: должность главного художника республики, 100 не облагаемых налогом золотых дукатов ежегодно, двоих помощников и роскошную мастерскую.
Тициан использовал все наработанные связи, чтобы занять это место, хотя соляным посредником уже много лет числился престарелый Джованни Беллини, его учитель. Интриги Тициана сработали. Он получил, что хотел, и сверх этого – недостроенный дворец Франческо Сфорца на Большом канале для устройства мастерской. Там было все: просторные залы, стеклянный потолок, дающий невероятное нужное для работы освещение, и даже личный причал. Однако дряхлый Беллини, узнав о таком нечеловеческом коварстве, враз передумал умирать и через суды восстановил свои утраченные было права.
Только после его смерти раскаявшийся в ослепившей его алчности Тициан все же станет соляным посредником.
За более чем 70 лет творческого труда Тициану приходилось писать венецианских дожей и римских пап, герцогов и королей, но даже знатность заказчика никак не помогала ускорить работу. Заказчики буквально осаждали Тициана напоминаниями о том, что все сроки уже истекли. В 1538 году, после многочисленных напоминаний о батальной картине, которая была оплачена из городской казны, но так и не написана Тицианом, его даже лишили почетного звания официального художника Венеции, передав его художнику Порденоне.
Известно раздраженное письмо герцога Альфонсо д`Эсте, переданное Тициану по дипломатическим каналам: «Художник Тициан вовсе не считается с нами! Он играет скверную игру. Это для него плохо кончится!» Впрочем, когда герцог получил заказанную им аллегорию «Вакханалия» и оценил ее совершенство, он пришел в неистовый восторг. А почетное звание официального художника Тициану вернули – после того, как он все-таки завершил батальную «Битву при Кадоре».
Художник проживет долгую, счастливую и насыщенную жизнь, получив славу величайшего колориста всех времен и прозвище «Тициан Божественный».
Рафаэль Санти: любимец богов
Слава, окружавшая Рафаэля при жизни, была феноменальна. Особого размаха она достигла, когда мастер стал папским живописцем. Под сводами ватиканских дворцов за ним, совсем еще молодым и грациозно-красивым, все время следовала по пятам свита восхищенных учеников. На улице к ним присоединялись простые итальянцы. Это было поклонение, чем-то сродни религиозному – всем хотелось хоть минуту побыть под сенью «дивного гения». К ореолу таланта добавлялось обаяние самой личности Рафаэля, всегда деликатного, любезного и – как ни удивительно в подобных обстоятельствах – скромного; его внешняя привлекательность лишь довершала дело. На толпу Рафаэль действовал магнетически. Люди были уверены: природа и Бог явили им в лице художника свое совершеннейшее творение.
Популярным способом восславить картины Рафаэля Санти стали сонеты. Как только «апостол гармонии» заканчивал новый шедевр, на дверь его дома или помещения, где произведение выставлялось, приколачивались листки с восторженными стихами, причем сочиняли их не только пылкие юноши, но и чуждые сантиментов, закаленные жизнью и политическими интригами мужи. Известный болонский художник Франческо Франча, который был намного старше Рафаэля, по-детски радовался, если тот дарил ему свой рисунок (рисовальщиком Рафаэль был великолепным, даже просто копировать его почиталось за счастье) и тоже однажды прислал в благодарность сонет. «Счастлив юноша, что так рано вознесся на подобную высоту, – констатировал Франча и риторически вопрошал: – Кто может предсказать, какого величия достигнет он в зрелости?..»
Но до зрелости Рафаэль не доживет. Он уйдет внезапно в 37 лет, по преданию, в тот же день, когда появился на свет.
Отец Рафаэля Джованни Санти тоже был художником. Не исключительным, как его сын, но и не из последних. Они жили в городе Урбино, правила которым династия кондотьеров да Монтефельтро. Герцог Федериго, а позднее его сын Гвидобальдо задумали перестроить дворец Монтефельтро и создать «идеальный город», на годы вперед обеспечив работой архитекторов, художников и позолотчиков. Герцоги зазывали к себе знаменитых художников – Пьеро делла Франческа, Паоло Уччелло… Так что круг знакомств (и приобретаемых знаний) урбинского придворного художника Санти быстро расширялся. А новые люди, приезжавшие в Урбино, узнавали его по тому, что Джованни почти всегда брал с собой на работу маленького сына Рафаэлло – на редкость красивого ребенка, как будто задуманного природой исключительно для того, чтобы служить моделью для ангелочков-путти.
Джованни Санти чаще всего в своем творчестве обращался к единственному сюжету – Мадонне с Младенцем. Писал их Санти со своей кроткой жены Маджии и сына Рафаэлло. Исследователи заметят, что младенцы, будь то Иисус, Иоанн или ангелы, которых впоследствии напишет и сам Рафаэль, по типу лица похожи на тех, что раньше исполнил его отец, и значит, в каком-то смысле дети с картин мастера – это опосредованный автопортрет.
Рафаэль впервые услыхал о Микеланджело и Леонардо да Винчи в Сиене, куда приехал поработать как ученик Перуджино. Рафаэлю было меньше 20. Леонардо был старше его на 31 год, а Микеланджело – на восемь, оба жили во Флоренции и уже тогда были легендами. Наслушавшись разговоров об их непревзойденной «новой манере», Рафаэль помчался во Флоренцию. Там он впервые встретился с Микеланджело, чуть позднее оба гения оказались в Риме. Но ни симпатии, ни тем более дружеского притяжения между ними не возникло.
Отношения Рафаэля и Микеланджело всегда оставались натянутыми. Была ли это ревность? Соперничество? Зависть?
Микеланджело по складу личности был бунтарь и одиночка, а Рафаэля вечно сопровождала восторженная толпа последователей и поклонников. Они старались избегать друг друга, но это было непросто: «коворкингом, офисом, опенспейсом» обоих был Ватикан. Встретив однажды в его высоких галереях Рафаэля в окружении учеников, Микеланджело едко заметил: «Вечно вы ходите со свитой, как генерал». Рафаэль парировал: «А вы всегда один – как палач».
Вскоре неуживчивый Микеланджело рассорится с папой Юлием II, заморозившим финансирование Сикстинской капеллы из-за очередной военной авантюры, и сбежит из Рима. А капеллу с почти законченными росписями потребует запереть до его возвращения, чтобы его фрески не увидел и не использовал в работе Рафаэль.
Вернувшись в 1511 году в Ватикан, Микеланджело узнает, что на переднем плане своей «Афинской школы» Рафаэль изобразил его в образе Гераклита Эфесского – и среди остальных пяти десятков персонажей грандиозной фрески только Микеланджело-Гераклит совершенно, прямо-таки тотально одинок. Но на правду что ж обижаться? Обида была в другом. По резко возросшему мастерству соперника Микеланджело догадался: Браманте «по блату» все-таки открывал для него Сикстинскую капеллу…
Рафаэля познакомил с папой Юлием II архитектор Ватикана Донато Браманте – как и Рафаэль, он был родом из Урбино и, возможно, даже состоял с Санти в дальнем родстве. Молодой Рафаэль был тогда далеко не самым знаменитым итальянским художником, но ему улыбнулась удача – стать любимым художником папы. Он, что называется, оказался «в нужное время и в нужном месте».
Взойдя на римский престол, Юлий II первым делом пожелал избавиться от всего, что напоминало о прошлом папы Александра VI (Родриго Борджиа), осквернившего Рим распущенностью, коррупцией и даже, поговаривали, кровосмесительной связью с дочерью Лукрецией. Юлий II заявил: «Все портреты Борджиа должны быть покрыты черным крепом, все гробницы Борджиа должны быть вскрыты, а их тела отправлены обратно туда, откуда они пришли – в Испанию». Новый папа решил полностью изменить облик своего дворца, чтобы ничего не напоминало о ненавистном предшественнике. Для этого со всех концов Апеннин были собраны достойнейшие, знаменитейшие художники, которые взялись заново декорировать папские апартаменты.
Однажды с утра папа Юлий II производил смотр работ во дворце, находясь в раздраженном расположении духа. Он без удовольствия рассматривал все, что уже успели нанести на стены приглашенные мастера. И вдруг остановился перед люнетом, в который Рафаэль вписал «Афинскую школу». Пораженный папа долго разглядывал ее, а потом распорядился сбить другие фрески со стен и уволить всех остальных художников. «А ты, мой мальчик, работай, – обратился он к Рафаэлю. – Вижу, только ты один понимаешь, что делаешь».
С тех пор Юлий II называл Рафаэля исключительно «наш любезный сын». Художник не только расписал для Юлия II ватиканские станцы (ит. ul – комната), но и когда воинственный папа своим указом учредил Швейцарскую гвардию (вот уже более пяти столетий именно она отвечает за безопасность Ватикана и лично папы), Рафаэль, согласно легенде, разработал для солдат форму.
В 1513 году папа Юлий II умер, и его сменил Лев Х. Новый начальник нередко проводит кадровые рокировки и расставляет на ключевые позиции собственных людей, так было всегда, но 30-летнего Рафаэля эта опасность миновала: он, как и прежде, остался первым художником Ватикана. Все-таки новый папа был сыном знаменитого мецената, Лоренцо Медичи Великолепного – он понимал цену Рафаэлю.
Говорят, как только Джованни был избран папой, он сказал брату Джулиано Медичи: «А вот теперь мы повеселимся на славу!» На смену эпохе Юлия II с ее пафосом собирания итальянских земель под эгидой Рима опять наступила эра расточительства и праздности. Рафаэлю в этой связи работы только прибавилось. То он проектировал для нового папы охотничий домик, то днем и ночью был занят росписями грандиозных Ватиканских лоджий, потом папа Лев Х придумал украсить дворцы Ватикана златоткаными шпалерами, и Рафаэль принялся за эскизы шпалер. Если папа задумывал феерические представления, декорации поручались Рафаэлю. В 1514 году португальский король прислал в подарок папе слона. Гиганта назвали Анноне. Лев Х слона обожал и велел выстроить ему вольер прямо под окнами своей опочивальни. Когда бедняга, не вынеся нервной обстановки вечного карнавала, околел, папа потребовал от Рафаэля написать любимого покойного слона на одной из внешних стен.
Кардиналы опять, как при Борджиа, соревновались в роскоши. От богатств, стекавшихся в ватиканскую казну при папе Юлии II, скоро остались одни воспоминания. Образ жизни хозяев Ватикана при папе Льве Х стал таким, что однажды, когда двое визитеров мастерской Рафаэля заметили, что у святых на его картине слишком красные лица, художник ответил: «Они краснеют, глядя на вас – римских кардиналов». Правда, и Рафаэлю грех было жаловаться: при папе Льве Х он стал очень богат, построил себе дворец по собственному проекту. Вазари пишет, что Рафаэль стал жить «не как художник, а по-княжески».
По воспоминаниям современников, Рафаэль и банкир Агостино Киджи дружили, что неудивительно: Рафаэль был не только человеком дружелюбно-притягательным, но и чрезвычайно светским.
Но дружба дружбой, а деньги – врозь. Однажды Рафаэль выполнил за 500 монет несколько фресок для Киджи и, закончив, неожиданно потребовал от заказчика удвоить оплату. Управляющий Агостино Киджи по имени Джулио Боргези поначалу отказался: что за безумный каприз? Рафаэль не уступал. «Призовите экспертов – и вы увидите, насколько умеренны мои требования!» – аргументировал он.
Тогда прожженный Боргези, знавший об антипатии к Рафаэлю Микеланджело, пригласил быть экспертом его. Буонаротти пришел, не спеша и молча осмотрел фрески соперника и перевел мрачный взгляд на Боргези. Указав пальцем на голову сивиллы, он заявил: «Одна только эта голова стоит сто монет, а остальные не хуже». Он недолюбливал Рафаэля, но не мог позволить себе необъективности. Узнав об оценке Микеланджело, Агостино Киджи велел управляющему немедленно уплатить Рафаэлю требуемую сумму.
Занятием, которое поглотило Рафаэля в последние годы его жизни, становятся археологические раскопки. Для возведения собора св. Петра нужно было много материала, который свозится со всех концов Рима, добывается в развалинах и катакомбах. Но делается это без системы, и многие памятники древности могут просто погибнуть. Поэтому папа поручает Рафаэлю смотреть, описывать и зарисовывать все ценное, обнаруженное при раскопках. Дело неожиданно захватывает Рафаэля, он проводит в сырых и пыльных катакомбах многие часы и, готовя патрону детальные отчеты, начинает верить, что Бог предназначил ему спасти и восстановить величие и красоту Древнего Рима. «Теперь он занят великим делом, которое будет изумлять будущий мир», – пишет о Рафаэле папский секретарь.
Смерть Рафаэля остается загадкой, но у Вазари содержится весьма прозаическое (при всем драматизме) объяснение ее причин: «И вот однажды после времяпрепровождения еще более распутного, чем обычно, случилось так, что Рафаэль вернулся домой в сильнейшем жару, и врачи решили, что он простудился, а так как он в своем распутстве не признавался, ему по неосторожности отворили кровь, что его ослабило до полной потери сил, в то время как он как раз нуждался в их подкреплении». Впрочем, не исключено, что он просто сильно простудился в катакомбах.
Оплакивали умершего так неожиданно во цвете славы Рафаэля все и едва ли не больше всех – римский папа Лев Х. Друг Рафаэля поэт Пьетро Бембо написал эпитафию: «Здесь лежит Рафаэль, кем опасалась Природа быть побежденной навек и умерла вместе с ним».
Сандро Боттичелли: великий декоратор
Боттичелли не относят к пантеону «титанов Возрождения», однако работы рассматривают наряду с шедеврами Микеланджело, Леонардо да Винчи и Рафаэля, и с той же частотой и пылом цитируют в наши дни. Его наследие три века скрывается в тени творчества этой гениальной итальянской троицы, но обретает истинную цену благодаря англичанам – прерафаэлитам. Художника причисляют к представителям флорентийской школы живописи, но тут же выставляют на вид более десяти отличий от работ самых известных ее представителей – таких как Липпи, Гирландайо, Перуджино, Мантенья, Поллайоло… Его линии – «безусловно, да», его композиционные решения зачастую – сплошное «но…»: как сказали бы сегодня, «горизонт завален». И не только горизонт…
Он насмехался над ценностью пейзажа – мол, для фона достаточно кинуть на полотно губку с краской, – и тщательно вырисовал сотни видов растений на картине «Весна». Боттичелли не развивал теорий, однако свободно трактовал новаторские приемы в согласии со своими чувствами и представлениями о жизни цвета и границах формы: так появлялся пресловутый «пятый элемент» его гармонии – чистая любовь.
Эта фраза принадлежит Джорджо Вазари. Речь идет о детстве Алессандро Филипепи, прозванного позже Сандро Боттичелли, видимо, вслед за старшим полноватым братом (botticelli с итальянского – «бочонок»). Старший Филипепи, кожевенных дел мастер, наверняка желал приставить младшего сына к своему ремеслу или же приобщить к делам торговым. «…Однако, хотя он с легкостью изучал все, что ему хотелось, он тем не менее никогда не успокаивался и его не удовлетворяло никакое обучение ни чтению, ни письму, ни арифметике, так что отец, которому надоела эта взбалмошная голова, отдал его, отчаявшись, обучаться ювелирному делу… В ту пору была величайшая дружба и как бы постоянное сотрудничество между ювелирами и живописцами, благодаря чему Сандро, который был человек бойкий и только рисованием и занимался, увлекся и живописью и решил заняться и ею».
Отпрыск больше преуспевает в рисовании эскизов, его линия хороша, а практические навыки в ювелирном деле не даются. Сандро поступает в учение к именитому художнику Фра Филиппо Липпи, несмотря на сомнительную репутацию последнего (еще бы, сбежать с монахиней!). Позже именно отец оборудует Боттичелли мастерскую в своем собственном доме. А в 33 года запишет в кадастре: «Сандро ди Мариано… художник и работает дома, когда хочет». Что ж, Сандро желает рисовать Мадонну. Сандро не желает усердно заниматься гравюрой или посвятить себя фрескам. Сандро читает труды теоретиков искусства, а рисует по-своему. Сандро делает, что хочет.
«Сандро был человек очень приятный и любил пошутить с учениками и друзьями». Подтверждая слова Вазари, заметим, что в наши дни художник мог бы прославиться еще и как успешный организатор флешмобов и розыгрышей для ТВ-шоу вроде «Скрытой камеры». Причем он не жалел хлопот, выстраивая сложные комбинации.
Представьте себе сценарий: первое – договориться с покупателем работы ученика, сделанной по образцу учительского тондо «Мадонна с ангелами», что тот «не заметит» изменений на готовой картине, когда придет в мастерскую принимать работу. Второе – оповестить о грядущей прибыли в 6 флоринов автора работы. Третье – вместе с другими учениками нарезать из бумаги аналоги красных головных уборов флорентийских синьоров, и, высоко на стене вывесив тондо – так, мол, покупателю будет лучше разглядывать работу, – тайком прикрепить поделки над головами ангелов. Четвертое: проинструктировать учеников, чтобы не хихикали в кульминационный момент. Пятое: на решающем просмотре в присутствии предупрежденного покупателя не замечать ужаса на лице ученика-художника: Мадонну окружают не ангелы, а будто бы флорентийские синьоры в колпаках! Наконец, шестое: пока ученик вместе с довольным, «ничего не заметившим» покупателем уходят за деньгами, вернуть все, как было. А когда юноша вернется – делать вид, что ученику, видно разум деньги помутили: какие шапки?! Вот умора!
Боттичелли также может виртуозно досадить досаждающему. Поселившийся рядом сосед-суконщик совсем не дает покоя: восемь станков грохочут так, что дом трясется! Сандро не то что работать – находиться в собственном доме не может. А сосед в ответ на жалобы и просьбы лишь хамит: мол, у себя дома я что хочу, то и делаю. Что ж, и у художника достойный ответ найдется. Как-то проснулся сосед поутру, глянул во двор и опешил: на стене дома Сандро, более высокой по сравнению со стеной соседа, прикреплен камень размером «с огромный возище». Равновесие даже с виду шаткое, стена задрожит – камень рухнет прямо на дом суконщика! А Боттичелли лишь посмеивается, вернув испуганному соседу его же слова: мой дом, что хочу – то и делаю. В общем, пришлось ремесленнику искать компромиссное решение.
Эти истории приводит Вазари в своих достаточно вольных «Жизнеописаниях…». Интересно, что же тогда скрывается за нотариальным актом от 18 февраля 1498 года? Согласно документу, Боттичелли и его сосед-сапожник Филиппе ди Доменико дель Кавальере взаимно обязуются не ссориться друг с другом. Кроме шуток!
Сандро после отъезда из Флоренции своего учителя Фра Филиппо Липпи на протяжении двух лет посещал мастерскую известного мастера Андреа дель Вероккьо. Этот скульптор, художник, ювелир в то время был еще и наставником Леонардо да Винчи. Подросток был на семь лет младше Сандро Боттичелли и прислушивался к мнению 20-летнего художника. А тот как-то возьми да заяви: мол, пейзаж – не больше, чем фон. Нужно ли особо стараться? Возьми да пропитай различными красками губку, и брось ее в стену – получится пятно, которого будет вполне достаточно для пейзажа. Был ли серьезен Боттичелли, который семь раз перерисовывал «Поклонение волхвов», а на картине «Весна», как уверяют ботаники, изобразил 170 видов цветов? Как бы то ни было, метод с губкой в различных вариациях осуществит в XX веке еще один великий шутник – Сальвадор Дали. Леонардо же всерьез задумается над словами Боттичелли, и много лет спустя, когда того уже не будет на свете, запишет в своих заметках: «Если пятна и помогут твоему воображению, то все же не научат тебя, как закончить ту или иную деталь».
Боттичелли, вопреки мнению физиономиста, изучающего предполагаемый автопортрет художника, вряд ли был тщеславен. Да, изгиб губ – надменный, взгляд – свысока, и плащ, в котором предстает художник на картине «Поклонение волхвов», отличается оттенком от одежд прочих персонажей: наряд выглядит почти как золотой.
В то же время этот именитый, популярный и прославленный мастер не подписывал свои картины. И дело не в неуместности появления оных на религиозных сюжетах: помним и о возрастающем значении человека, личности в пору Ренессанса, и о том, что многочисленные художники-итальянцы тогда уже заявляли об авторстве своих работ. Еще и хвастались.
А редчайший, чуть ли не единственный пример подписи Боттичелли, имеющийся на работе «Мистическое Рождество», – вовсе не обозначение авторства. Это почти политическое заявление, эдакая выстраданная «запись в блоге», помещенная вверху картины: «Она была написана в конце 1500 года во время беспорядков в Италии, мною, Александром, в половине того периода, в начале которого исполнилась глава IX святого Иоанна и второе откровение Апокалипсиса, когда Сатана царствовал на земле три с половиной года. По миновании этого срока дьявол снова будет закован, и мы увидим низвергнутым, как на этой картине».
Художник не стремился играть заметные роли в кипении общественных страстей, а личные облек в художественную форму. Ему всегда нужна опора, основа своего собственного мира. Он желает идеализировать окружение, быть вовлеченным в среду адептов разного рода, будь то светская компания любителей философии, круг воздыхателей первой красавицы города или же клан религиозных последователей.
Молодому Сандро пришлась по нраву придворная суета и образ жизни первых лиц Флоренции – Лоренцо и Джулиано Медичи. Он даже выучил греческий, чтобы быть своим в просвещенном обществе. В учителях недостатка не было, ведь после падения Константинополя во Флоренции было много беженцев-греков. А еще молодой мастер примкнул к «неоплатоникам»: Медичи финансировали так называемую Платоновскую академию, в рамках собраний которой философы, поэты, художники, люди знатные и просвещенные вели диспуты о синтезе античной мудрости и христианских основ.
В идеи яростного поборника истинной веры Савонаролы, отрицавшего мирские блага и воевавшего с излишествами, художник тоже верил со всем пылом. По легенде, художник даже бросал свои картины в костер, когда горожане предавали огню «предметы роскоши». Вряд ли это так, однако и он, и его брат были среди «плакс» – так называли сторонников монаха-доминиканца. А после казни Савонароллы Боттичелли, пишут, сломался – картины тому свидетельство.
Сандро при Медичи – не просто художник. Он еще и мастер-декоратор: Боттичелли с головой окунается в организацию праздников, торжеств – событий, которые будоражили всю Флоренцию. И этому художнику, похоже, вовсе не нужна жена. У него уже есть идеал, объект для поклонения. Все восхищаются Симонеттой, юной супругой Веспуччи, брата путешественника, чьим именем назовут Америку. Боттичелли – пленник ее сияющего образа, но не ее самой. И дело не только в том, что Симонетта считается возлюбленной блистательного Джулиано Медичи. Как бы все повернулось, будь эта обаятельная красавица свободной – добивался бы Боттичелли склонности реальной женщины?
После смерти 23-летней Симонетты от чахотки художник ни с кем не связал свою судьбу. В его мастерской бывали натурщицы, но если Рафаэль с легкостью переводил таковых в ранг возлюбленных, то в связи с именем Боттичелли никто не упоминает ничего подобного. Боялся ли он плотских отношений, был ли ревностным католиком, верным лишь Деве Марии, испытывал ли влечение к слабому полу вообще? Имеется лишь один, не вполне очевидный ответ: изображения типажа Симонетты встречаются на многих работах Сандро Боттичелли.
Пир духа на картинах Боттичелли хорошо оплачивался, и мастер никогда не отказывался нарисовать Мадонну. «Золотой середины» заработка в виде знаменитых флоринов, которые чеканили во Флоренции из желтого драгметалла и которые котировались в Европе, как сегодня доллары и евро, художник достиг уже к открытию собственной мастерской в 1470 году. С ним работают ученики-подмастерья, а значит – есть клиентура.
Полученные деньги тратятся легко, но как иначе в высоком обществе, где царит дух Козимо ди Медичи с его знаменитым: «Умение тратить деньги еще важнее, чем умение их зарабатывать…» Расходы на светский образ жизни велики, но мотовство себя окупает. Идут заказы не только от богатых горожан, но и от представителей клана Медичи и высшего круга флорентийской знати. Наконец, от самого папы римского. Вазари пишет: «И вот как во Флоренции, так и за ее пределами Сандро настолько прославился, что когда папа Сикст IV приказал соорудить капеллу в римском дворце, то, желая ее расписать, распорядился, чтобы он стал во главе этой работы». На счету самого Боттичелли – три фрески Сикстинской капеллы и щедрое вознаграждение.
Согласно флорентийским документам, за работу «Благовещение» (1490) для капеллы Гварди в церкви Санта-Мария Маддалена (ныне картина находится в галерее Уффици) Боттичелли заплатили 30 дукатов – венецианских аналогов золотых флоринов. Это хорошие деньги: за три флорина можно было купить свинью, заказать художнику небольшой сюжет на религиозную тему (плюс расходы на золотую краску), а участок в шесть «соток» в городских окрестностях стоил 24–30 флоринов. Что касается себестоимости работ – Боттичелли для своих Мадонн труда, золота и краски из лазурита по флорину за унцию не жалел. Истинный художник!
Взлет и падение Флоренции, словно в зеркале, отразились на судьбе Боттичелли, и монах-аскет Савонарола богатства ему не прибавил. Мастер, согласно Вазари, «…сделался как бы одним из приверженцев его секты; это было причиною того, что он оставил живопись и, не имея средств к существованию, впал в величайшее разорение. Упорствуя в этом направлении, он сделался (как их тогда называли) «плаксою» и отбился от работы. Так, в конце концов, он дожил до старости и был до такой степени беден, что, вероятно, умер бы с голоду, если бы, пока он еще был в живых, его не поддерживал Лоренцо де Медичи, для которого он, помимо многого другого, достаточно поработал при постройке госпиталя в Вольтерре, а вслед за Лоренцо и многие поклонники его дарования».
Тем не менее Савонарола появился во Флоренции в 1490 году, а в 1494 году 49-летний Сандро вместе с братом Симоне стал владельцем имения с виллой за 156 больших флоринов (большой, «длинный» флорин – еще более весомая золотая флорентийская единица). Через четыре года доход от него, по записи в кадастре, составил 157 больших флоринов. Так что нищий и одинокий финал жизни Боттичелли, даже при отсутствии крупных выгодных заказов – скорее всего, преувеличение. Ведь дом, где живут племянники с семьями – и его дом.
В то время как иные мастера колесили по Европе в поисках богатых покровителей и клиентов, следовали географии заказов на картины и фрески для дворцов и соборов, домосед Боттичелли лишь дважды в своей жизни надолго покидал Флоренцию. Сначала для обучения у Филиппо Липпи, мастерская которого из-за крупного заказа – фресок для собора, – находилась в Прато, что в 20 км от Флоренции.
Потом учитель, встревоженный политической обстановкой после смерти Козимо Медичи, решил покинуть Флоренцию и звал своего лучшего и любимого ученика с собой в Сполето. Однако Сандро остался. Конечно, его прельщали наметившиеся перспективы при дворе наследников Медичи, но нежелание резко менять привычный уклад тоже играло свою роль.
Вторая «уважительная причина» покинуть город представилась в 1481 году: это была «рабочая командировка», поездка в Рим для создания фресок Сикстинской капеллы. Пробыв там чуть больше года, Сандро Боттичелли примерно с 1482 года и до конца своих дней в 1510 году жил в родной Флоренции. Его похоронили в церкви Оньиссанти, находящейся неподалеку от дома, в котором Сандро жил ребенком. В семейной капелле Веспуччи в той же церкви покоится и Симонетта.
Альбрехт Дюрер: человек-эпоха
Дюрер для Германии – как и Гёте – «наше все». Эпоху Возрождения в Германии предпочитают звать «эпохой Дюрера», а с 1815 года там постановили ежегодно праздновать «День Дюрера». Характер и биография Альбрехта Дюрера – парадоксальное, на первый взгляд, соединение бюргерской практичности с философской отрешенностью, творческой гениальности с житейской щепетильностью. По-видимому, это сочетание и делает выдающегося художника национальным символом и культурным героем.
В автобиографии (кстати, этот жанр Дюрер освоил среди немецких живописцев первым) художник сообщает: «Альбрехт Дюрер родился в королевстве Венгрия, неподалеку от маленького городка Юла, в близлежащей деревеньке под названием Эйтас, и его род кормился разведением быков и лошадей». Это он не о себе – о своем отце и полном тезке, почтенном нюрнбергском ювелире Альбрехте Дюрере Старшем.
Стало быть, крупнейший немецкий художник Альбрехт Дюрер всех времен был венгром? Да и что такого, величайший русский поэт был эфиоп, «арап», «а как писал, как писал»! Здоровый социум понимает, что культуре полезны прививки чуждой крови. Но когда общество заболевает нацизмом, сама мысль об этом становится ему невыносима. По странному совпадению, нацизм в Германии оформился как раз там, где 500 лет назад родился живописец, – в Нюрнберге. С целью доказать, что столп немецкой нации Альбрехт Дюрер был никакой не венгр, а чистокровный ариец, нацисты даже производили эксгумацию останков его отца, чтобы установить соответствие параметров черепа арийскому стандарту.
И до сих пор в вопросе о происхождении художника нет единства. Одни документально доказывают: безусловно, венгр. Другие продолжают утверждать – нет, из немецких колонистов, перекочевавших в Венгрию в незапамятные времена монгольских нашествий.
Ну, а его фамилия – чем не аргумент? Ведь гортанное «Дюрер» звучит так по-немецки. Верно, да только эта фамилия – результат креатива отца Дюрера, лингвистическая шутка и одновременно творческий псевдоним. Он происходит от названия их венгерской родины, деревни Эйтас или Айтас. Ajtos по-венгерски значит «дверь». А по-немецки «дверь» – die Tür. Переиначенная на немецкий лад фамилия сначала звучала как Türer, позже под влиянием местного произношения превратившись в Dürer.
И на фамильном гербе Дюреры обязательно изображали широко раскрытые двери. Так что чрезвычайно набожный художник с полным основанием мог повторить о себе слова Иисуса Христа из 10-й главы Евангелия от Иоанна: «Аз есмь дверь». А если наш каламбур покажется читателю неуместным, напомним: на самом известном из автопортретов выдающийся мастер изобразил себя в образе Спасителя, так что сразу и не сообразишь – это Христос глядит на нас в упор или писаный красавец художник? Современному зрителю подобная дерзость представляется кощунственной, но средневековому так не казалось. Уподобляться Христу – это ведь главное устремление любого христианина, а уж Альбрехт Дюрер был и богобоязнен, и добродетелен просто на редкость. Один из современников писал о мастере: «За всю его жизнь не известно ни одного поступка, который бы заслуживал порицания или хотя бы снисхождения. Он был безупречен вполне».
Отец Дюрера рано заметил, насколько рука Альбрехта-младшего тверда, а глазомер точен: он уверенно может провести линию или окружность, не прибегая к линейке и циркулю. Конечно, отец надеялся, что сын станет ювелиром, продолжит династию.
Но сын не захотел. Лет в 10 он открыл для себя, какую ни с чем не сравнимую радость доставляет ему чудо прикосновения карандаша к бумаге: «Я рисовал втайне от отца. Знал: он будет недоволен. Но рисование уже стало необходимо мне как воздух».
Старший Альбрехт Дюрер сдался – и отдал Альбрехта-младшего в мастерскую Михаэля Вольгемута, известного в Нюрнберге художника и скульптора. Главное, чему за три года научился у него Дюрер, – гравирование на дереве. Интерес к линии, формам, пропорциям был для него на первых порах важнее интереса к краскам и колориту, и искусство гравюры как нельзя лучше отвечало его природным склонностям.
Когда художнику Дюреру исполнилось 18, его отец принял решение, что сыну пора увидеть мир. Это было частью традиционной программы становления мастера – «годы странствий». Предполагают, что Дюрер побывал в Нидерландах и Южной Германии. Точно известно, что он посетил город Кольмар, намеревался встретиться там с художником Мартином Шонгауэром, к которому отец дал Дюреру рекомендательное письмо. Но информация в конце XV века распространялась медленно: прибыв в Кольмар, Дюрер с изумлением узнал, что Шонгауэра уже год как нет в живых.
Зато Дюрера хорошо приняли братья Шонгауэра – Каспар, Пауль и Людвиг, ювелиры и граверы. От них-то он и получил ценнейшее, можно сказать, эксклюзивное умение – гравировать не по дереву, а по меди. Это была новая техника, популярная у ювелиров и требующая очень тонкой и точной работы, и далеко не все были в состоянии ее освоить. При создании резцовой гравюры на меди мастер водит не резцом, а передвигает под ним медную пластинку, в то время как кисть его руки остается неподвижной. В этой сложнейшей технике, не дававшейся почти никому, Дюрер оказался непревзойденным. И самые известные работы Альбрехта Дюрера – это именно гравюры на меди.
После Кольмара Дюрер еще несколько лет прожил в Базеле, городе книгопечатания и книготорговли, и за это время успел создать около 250 книжных иллюстраций. Их количество, а главное, качество было поразительным. Особенно если учесть, что автору только-только исполнилось 20.
Длившееся четыре года путешествие Дюрера завершилось внезапно. Отец прислал ему письмо, в котором настоятельно потребовал Альбрехта домой. Повод был важнейший: старший Дюрер сосватал 22-летнему сыну подходящую невесту. 15-летняя Агнес Фрай была дочкой богатого механика и владельца цехов по производству точных инструментов (а Нюрнберг времен Дюрера славился своими мастерами – там, к примеру, были изобретены карманные часы и даже глобус). Будущий тесть Дюрера входил в руководство города и, по слухам, был связан кровными узами с итальянской банкирской династией Медичи. В общем, для сына многодетного и совсем не богатого венгра это была крайне выгодная партия. К тому же за Агнес давали кругленькую сумму – 200 гульденов.
Судя по документам, никакого внутреннего протеста заочное сватовство у Дюрера не вызвало. Он был очень почтительным сыном, любил отца и боготворил мать, ему и в голову не пришло ослушаться. Более того: известный луврский автопортрет с рыжими локонами и в нарядной до вычурности одежде, за который художника не раз упрекнут в самолюбовании, Дюрер написал специально, чтобы послать невесте, которая никогда его не видела. Представил «товар лицом».
Этот брак, продлившийся до самой смерти Дюрера и внешне вполне благополучный, мало кто осмеливался назвать счастливым. Ближайший друг Дюрера, гуманист Виллибальд Пиркгеймер (из рода тех самых патрициев Пиркгеймеров, на чью свадьбу когда-то удачно угодил Дюрер-отец) писал: «Семейная жизнь Альбрехта Дюрера и Агнес Фрай не сложилась – может быть, потому, что они не имели детей. А может быть, детей они не имели именно потому, что жизнь не сложилась…» Письма Дюрера к другу пестрят грубоватыми шутками в отношении любовных похождений Пиркгеймера, но не дают никакой информации о таковых у Дюрера. Кажется, этот меланхолический �
