Mittelreich
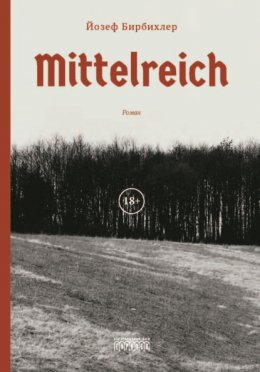
– Ну же, давай, не жадничай, – ворчит старик и левой рукой отмахивается от порхающей рядом птицы. – Не всё ж тебе! Маленьким тоже нужно.
На правой ладони старика покачивается довольный воробей, склевывая хлебные крошки с левой. Второй, на коленях старика, расправляет крылышки, подпрыгивает и резко взмывает в небо. Еще один сидит на плече и не интересуется происходящим – может быть, уже наелся. Несколько птиц прыгают на корявом краю проволочной корзины с проросшей картошкой и вокруг миски с уже очищенными от ростков клубнями, стучат клювами, порхают с места на место. Временами с крыши планируют другие и тут же пугливо возвращаются. В удушливой жаре воздух между домом и пристройками неподвижен.
– Калека, чтоб тебя, – ругается старик. Воробей спикировал с водосточного желоба ему на ладонь и снова взлетел, унося в клюве крошку. В голосе старика звучит уважение. Из-за стоящих в стороне мусорных баков выпрыгивает тень, как снаряд, приземляясь на колени старика. Воробьи разлетаются, словно сухие листья в порыве осеннего ветра. Тенью оказывается кот Манди. Старик устало вздыхает, одной рукой гладит голову кота, а другой почесывает ему холку.
– Ну вот! Улетели, – говорит он, а кот притворяется, что все понимает. Кажется, что животное и человек разговаривают… Затем только что наполненный шорохом крыльев проход между улицей и задним двором на время погружается в тишину.
Кот, мурлыча и жмурясь, разваливается на коленях Виктора. Когти передних лап ритмично впиваются в засаленные вельветовые штаны. Стараясь не тревожить кота, Виктор обрывает картофельные отростки. Лоб под козырьком старой вермахтской фуражки блестит от пота. На кровле дремлют распуганные воробьи. Вниз по дорожке спускается, пританцовывая в комарином рое, молодая курочка. Горячий влажный воздух будто чавкает. Больше ни звука. Жаркий июньский день поглощает прохладное утро.
Виктор приподнимает голову и слегка поворачивает ее вправо – прислушивается. Из-под крыши сарая доносятся царапанье, шорохи, скрежет и шуршанье, а в промежутках сдавленное хихиканье и приглушенный детский шепот. Потом все стихает. В большом доме с шумом спускают воду в туалете. Шипя, наполняется бачок. И снова тихо.
Жара. Тишина. Пот.
И вдруг будто из ниоткуда появившийся истребитель разбивает тишину, небо, воздух и полдень, слух, душу, терпение и любовь, надежду, будущее, все… и исчезает. Раскаты машинного грома в небе не затихают несколько минут.
Кот соскакивает с колен Виктора в проволочную корзину и прячется под скамейкой в сарае, тараща оттуда глаза. Воробьи, спасшиеся бегством в кусты бузины, беспомощно порхают и суетятся в листве. Оглушенная сойка врезается в бетонную крышку выгребного колодца и лежит мертвая в лужице крови.
Конец июня 1984-го. Холодная война нагрелась и грозит превратиться в горячую. Борцы за мир во всем мире вооружаются и перевооружаются. Промышленность и политика переживают тучные годы.
Под крышей каретного сарая у мальчишек от ужаса замирает дыхание. Смертоносный шум в небе постепенно стихает. Вздох облегчения:
– Уф! Истребитель! С ума сойти! – познание жизни в детском укрытии продолжается своим чередом, словно ничего не случилось. Совсем ничего.
Внизу по улице катит на велосипедах молодежь, на багажниках – купальные принадлежности.
– Никуда от этих сисек не денешься, – бормочет Виктор, – и от влечения. – Он морщится. – Надо было удовлетворять сексуальное желание, а не о пенсии думать. Денег мне хватает. Но по части секса в обществе нет согласия. Об этом не думаешь, пока нет проблем. И никто не объясняет.
Так размышляет Виктор.
Он тихонько отворяет прикрытую дверь сарая. Зайдя, прислушивается. Сверху доносятся пыхтение и сопение, время от времени стоны. В остальном все спокойно. Среди рухляди – повозок, деревянных бочек, деревянных осей с деревянными колесами и изогнутых полозьев деревянных саней – под старой соломорезкой он отыскивает двухметровую деревянную лестницу.
– Раньше надо было подготовиться, сейчас уже поздно, – бормочет он, устанавливая лестницу в углу сарая, где две плохо закрепленные доски на потолке слегка перекосились, образовав щель, куда можно легко просунуть голову.
– Хорошо еще, не тянет на детей, а то позорился бы на каждом шагу.
Перекладина за перекладиной он неторопливо взбирается по лестнице.
В деревенской часовне раздается звон колоколов.
– Проклятые монашки, – вырывается у Виктора, и сквозь дыру между досками над головой он успевает заметить трех мальчишек. Они натягивают штаны и, пригнувшись под коньком крыши, пускаются наутек. С громким стуком доски прогибаются и выпрямляются.
«Как большой барабан в день памяти павших воинов», – думает Виктор, и все стихает.
Почему снова так тихо?
Колокола молчат, мальчишек больше не слышно. Виктор стоит, пригнувшись, под деревянным потолком на лестнице. Так тихо!
Ему восемьдесят два, и он еще хорошо видит и слышит. Читает уже двадцать лет в очках, причем в одних и тех же, но больше никаких недугов нет. Только почему так тихо? Хотя бы уж летчик, что ли, вернулся. Внезапно он пугается высоты. «Давай, мышонок, держись, веди себя хорошо», – вертится в голове, и ему становится слегка стыдно. Нащупывая перекладины, он спускается и выходит из сарая.
В доме, по которому он идет, а точнее шаркает, нет и намека на тишину. Суета, громкие разговоры, хлопоты, как всегда и всюду, когда вот-вот приедут гости и делаются последние приготовления. Виктор пересекает кухню, идет по коридору и через шумно бурлящий трактир. Там тоже ни тишины, ни спокойствия, ничего необычного и в то же время нормального, что почему-то так напугало его. Он выходит на веранду со стороны озера и видит, что пароход уже причалил. Судорожно вцепившись в перила, Виктор смотрит на бросивший якорь не далее чем в пятидесяти шагах от берега пароход, огромный, угрожающе близкий, на колеблющейся поверхности. Полная противоположность гостинице с трактиром, у дверей которой Виктор стоит, и уже второй раз у него срывается с языка:
– Проклятые монашки!
Слова исходят из глубины души, не произвольно и не машинально, не потому что чувства нахлынули. Возглас имеет под собой твердую почву, прошел сквозь грунтовые воды, он из старых времен – «Проклятые монашки!», – внутри бурлит.
Это не просто ругательство. Виктор отрекается от всего: от заповедей пунктуальности, от навязанного чувства единения с соседями, от запретов деревенского общества, от оков благопристойности, вежливости и предупредительности. Конец условностям.
Семи выходит из дома и встает рядом.
– Прозевал, как пароход пришел?
– Нет! Чего сразу прозевал, ничего я не прозевал. Монахини не звонили.
Он волнуется и говорит на силезском – языке родины.
– Звонили, – возражает Семи, – я слышал.
– Звонить-то звонили. Потому ты и слышал. Но не когда надо. Не в двенадцать, это точно. Полдень-то в двенадцать, а не в полпервого.
Семи даже не смотрит на него.
– Придется тебе прочитать им «Левит», – бросает он и возвращается в дом.
Хотя перед домом и на улице царит суета, Виктор слышит тишину. С ревом подъезжают автомобили; водители ищут, где припарковаться; кричат и трезвонят велосипедисты, освобождая себе дорогу; с визгом бегут к воде дети; шумно приветствуют друг друга знакомые; пароход тяжелым трубным гудком извещает о скором отправлении. Все это не вовлекает Виктора, который несет вахту на причале. Он все слышит будто издалека и неестественным образом, как сквозь вату. Его пучит, кожа чешется, тело не слушается. Он не может сбросить кожу, поэтому уходит.
Он идет ни на кого не глядя, ни с кем не здороваясь, идет мимо людей, оставляя их позади.
Семи смотрит ему вслед. Он знает Виктора всю жизнь. Виктор сидел с ним за одним столом, ел ту же еду, читал ту же молитву. Он ходил в тот же туалет, скучал в той же церкви, праздновал Рождество под той же елкой. Виктор не был ни дядей, ни тетей, не был двоюродным братом или сестрой, ни родственником, ни свояком. Но он часть большой семьи, жившей в усадьбе на озере. Единственное, в чем ему отказано, это в доступе к финансовым документам и, когда придет пора, месте в фамильном склепе. Семи хорошо знает его, поэтому замечает, что Виктор сегодня не такой, как обычно.
Виктор доходит до коридора в задней части дома и смотрит в четырехугольное зеркало над раковиной у своей комнаты. Фольга истерлась по краям, только в середине осталось круглое окошко, в котором отражается половина лица. Отражение пугает Виктора еще больше: лоб покраснел, зачесанные назад седые волосы растрепались, глаза чужие. Он смотрит в чужие глаза. Чужие глаза смотрят на него. Он надевает очки, и впечатление усиливается: глаза пугают его. Он больше ничего не слышит. Он видит только чужой страх в своих глазах.
– Как это? – спрашивает себя Семи, который дошел за Виктором до конца коридора и незаметно наблюдает за ним. – Как получилось, что такой крокодил везде следит, не оставляя следов? Пришло время вспомнить!
В последней четверти позапрошлого столетия военная мощь страны пошла на убыль и отступила на задний план, чтобы представилась возможность передохнуть и собраться с силами для воплощения новых замыслов, еще более масштабных и разрушительных. Страна снова сосредоточилась на самой себе и внутренних противоречиях. Мануфактуры превратились в фабрики, одним дав работу, а другим – еще больше богатства и власти. Понадобились специалисты для управления богатством и властью по заказу их обладателей. Так и возник новый средний класс, чьи непоколебимая преданность и стойкое нежелание смешиваться с рабочими, в которых все больше и больше нуждались промышленные центры, хорошо вознаграждались. Это были приспешники и канатоходцы нового, особого, типа, состоявшие на службе богатства, которое в своем развитии стремилось к безграничности и прокладывало путь в безграничные миры. Особенно преуспели чиновники и специалисты с высшим образованием, у них возникли потребности, которые ранее были привилегией исключительно аристократов и их окружения. Появилось и быстро разлетелось новое слово – досуг. Вилла на выходные, летний отпуск, купание, катание на лодке, путешествия на пароходе – эти слова зазвучали повсюду, и для жильцов квартир, занимавших целые этажи в домах на улицах больших городов, стали обозначать постепенно удовлетворявшиеся потребности. Средний класс на службе развивающегося капитала, который все больше упивался техническими новациями, созданными неуклонно растущим производством, стал источником обогащения и для деревушек на озере. Средний класс открыл и покорил невозделанные земли, прежде казавшиеся бельмом на глазу, к югу от Мюнхена и до Альп. Эта местность начала процветать. Благодаря возможностям для отдыха и загородных прогулок земля давала не только хлеб и молоко, а озеро – не только рыбу. В стоящих на отдалении друг от друга домах крестьянских и рыбацких деревушек на берегу стали появляться деньги, и, чтобы получить их, достаточно было желания услужить. Маленькие, расположенные на холмах и плохо пригодные для сельского хозяйства участки за огромные деньги продавались состоятельным горожанам, и вскоре над густыми лиственными лесами к северу от Мюльбаха уже высились башенки с эркерами и отвесные фронтоны новеньких вилл, открыв крестьянам и рыбакам новые возможности для сбыта продукции. Благодаря деньгам удалось подремонтировать старые, порой даже ветхие, дома и сараи, и в пустые амбары втиснули несколько комнат для постояльцев: наверху, под самой крышей, с окнами на запад и видом на озеро и горы. Прямо перед домом появился новый причал, и без того внушительная и роскошная усадьба на озере стала выше на целый этаж. Так на берегу вырос маленький желтый замок в стиле крестьянского ренессанса; он светился и был виден издалека, приглашал заглянуть и полюбоваться собой. Это был кулинарный вызов, экономическая провокация, прежние порядки превратились в дым. На рубеже веков в деревушку проникло богатство и хорошенько закрепилось на берегу озера – и в сознании жителей.
Постояльцы открыли окно в большой мир. Жители тесных домишек так сроднились с ними, что уже не могли без них обойтись. Если получалось, постояльцам освобождали место, а если нет, хозяева сидели рядом. Большой мир просачивался туда, где прежде были туман и земля. Новые порядки приносили новые доходы. Коренные обитатели охотно служили и приспосабливались к чужому – обычаям гостей и господ. Те благодарили, делясь знаниями и взглядами. Вскоре появились завсегдатаи. Жители заважничали. Почувствовали превосходство. Жизнь налаживалась. Однако усиливался внутренний разлад.
И только погода осталась прежней.
Юг постепенно примирялся с севером. Ругательство «пруссак» исчезло из обихода и звучало разве что осенью и зимой в анекдотах, когда рядом не было посторонних. Мюнхен, о котором прежде знали лишь то, что он на севере, стал промежуточной станцией для путешественников, прибывающих издалека, чтобы отдохнуть на озере и в горах. Преодолевая расстояния, которые раньше считались непреодолимыми, они приезжали и устраивались на лето. Шум, который поднялся было в деревне – крики бедноты о свободе и независимости, – постепенно стихал. Богатство пока приносила только работа.
Но, несмотря на все это, в земле, где текли молоко и мед, едва ощутимо росло недовольство. Оно поразило жителей, словно душевная болезнь. Короткие дни пролетали безрадостнее, чем когда-либо. Долгие вечера становились все длиннее. Люди по-прежнему собирались вместе, но радость вечера после трудового дня, дружеские встречи и разговоры уже не грели, как раньше. Жителей одолевала мрачная скука, они пресытились друг другом и самими собой. Им смутно чего-то не хватало. Они ждали, но не знали чего. Всюду пустота и скука. Скука, скука. Ждали хоть чего-то. Лета. Людей. С тех пор как познакомились с людьми, ждали их. Ожидание началось с ожидания людей. Прежнего общества было уже недостаточно. Без чужих людей, которые придавали смысл лету, жители стали чужими сами себе зимой. Недовольство росло. Право слово, хоть бы что-то произошло!
После полудня 15 августа 1914 года с Альгойских Альп надвинулся грозовой фронт, который к вечеру рассеялся, так и не разразившись дождем. Озеро оставалось спокойным, словно зеркало. Лодки легко скользили по воде, почти не встречая сопротивления. Над озером разносились песнопения во славу Пресвятой Богородицы, а в промежутках – «Аве Мария». Когда репертуар исчерпывался, начинали сначала.
Чуть впереди на самой большой, почтовой, лодке, мощно взмахивая веслами, бороздил спокойную воду силач Диневитцер. Он привык грести. Не реже трех раз в неделю он в любую погоду водил лодку между Зеедорфом и Клостерридом на противоположной стороне озера и перевозил почту с вокзала Клостеррида в деревни, расположенные к югу от восточного берега. Но вовсе не письма и посылки так нагружали лодку, что временами та грозила зачерпнуть бортом воду, а бочонки с пивом по 30 и 50 литров для усадьбы и других трактиров, наряду с прочими громоздкими товарами для владельцев вилл. Эти товары прибывали поездом, и Диневитцер перевозил их, так сказать, попутно, с Зеедорфом не было железнодорожного сообщения. Когда он собирался тронуться в путь порожняком вниз по течению и забрать груз на другом берегу, случалось, что какой-нибудь крестьянин из Кирхгруба, сбывший быка весом 20 центнеров на скотобойню в Мюнхене, потому что там за него давали на несколько пфеннигов больше, чем мясник в Зеетале, останавливал его и, суля кусок мяса и литр пива, уговаривал взять скотину с собой. Мол, не так уж и далеко до Клостеррида, а сам крестьянин не может поехать: нужно убрать сено, пока погода держится. Иначе он сам отвез бы старину Макса в Зеештадт и поставил бы в вагон для скота. Это же исключительный случай, маленькое одолжение, по знакомству.
– Ладно, – отвечал обычно Диневитцер, – по знакомству можно. Потом молча хватал нервно пританцовывающего быка за кольцо в носу и вел на берег. Там привязывал к столбу на причале и подгонял лодку. Из лодочной хижины, принадлежавшей хозяину усадьбы на озере, выносил чан дробленого ячменя – там имелся запас на такие случаи – и ставил в лодку. Бык жадно набрасывался на корм и уже не обращал внимания на происходящее. Диневитцер связывал передние и задние ноги животного, но не слишком туго, чтобы бык ничего не почувствовал. Узлом подвязывал конец тягового троса к веревке, опутывавшей задние ноги, а длинный остаток троса протягивал через веревку на передних – и внезапно плечом наваливался на тяжелое бычье тело. Бык опрокидывался в лодку на спину, а глуповатое лицо стоявшего рядом с надменным видом крестьянина перекашивал ужас. До того, как у опешившего животного включались защитные рефлексы, почтальон притягивал и прочно закреплял трос, так что передние ноги оказывались привязанными к задним. Все происходило так быстро, что у крестьянина отваливалась челюсть и открывался рот. Бык бился и дергался все полчаса переправы, но встать не мог. Веревки почтальона отнимали у него последнюю свободу: свободу движения.
Ахой, Диневитцер! С тобой я бы познакомился. С остальными, пожалуй, не стоит.
И вот он вел лодку навстречу закату и все громче звучавшему колокольному звону на церкви Девы Марии вниз по течению в Клостеррид на шествие со свечами – Диневитцер переправлял четырех членов муниципалитета Кирхгруба и бургомистра Мюллера, которые не имели собственной лодки, поскольку в Кирхгрубе не было нужды в ней, слишком далеко они жили от озера, – как вдруг бургомистр, сидевший на носу, наклонился со спины к гребущему Диневитцеру и прошептал ему на ухо, чтобы попутчики, воодушевленные пением, плеском воды, закатом и звоном колоколов и глухие к прочим звукам, не услышали («Колокольня будто рядом, кажется, что можно дотянуться даже с закрытыми глазами!» – воскликнул стоявший во второй лодке пастор, прервав громкую молитву, и закрыл глаза)… так вот, бургомистр прошептал Диневитцеру:
– Началась мобилизация! Уже две недели как. Ты тут всех в округе знаешь. Завтра придешь в контору и перечислишь мне имена юношей моложе двадцати пяти. Понял?
– Понял, – машинально ответил Диневитцер, продолжая грести. Мысли упорядочились и заполнили голову. Лицо просияло. Мобилизация! Наконец-то!
По всей стране у людей головы распухли от мыслей, а лица засияли блуждающим светом самообмана. Это казалось освобождением, облегчением. Наконец что-то происходит!
Младшему сыну хозяина едва исполнилось восемь, когда старший по приказу кайзера и под ликующие крики соотечественников отправился на фронт. Еще свежо зеленела отава на лугах, и косить собирались не раньше, чем через месяц. Коровы целыми днями паслись на холмах под присмотром мальчика, а два старших работника вполне справлялись в конюшне. Отсутствие наследника пока не слишком ощущалось в усадьбе, и даже без младшего работника, тоже мобилизованного, кое-как справлялись. Вряд ли это займет много времени – вправить мозги наглым французам, обтесать неотесанных русских и наказать подлых сербов, на совести которых убийство кронпринца. Это ненадолго. За шесть недель можно управиться. У сестер каникулы в интернате, как раз шесть недель. Они помогут, если будет не хватать мужских рук. Военное предприятие было продумано генералами кайзера. На бумаге все гладко, но подчинится ли жизнь этим расчетам? Радостно и пылко лилась из деклараций и газет песня Отчизны.
– Увидимся через шесть недель, – кричали парни от восемнадцати до двадцати пяти, уходя толпой от колодца в Кирхгрубе в ближайший город, к поезду, который отвезет их в учебные центры, неизвестно куда. У этих учеников войны в сердцах не было страха, лишь радостное предчувствие, своего рода паралич мозга, который начался, когда им сообщили, что увезут их из дома в незнакомые места наконец-то, и все благодаря смелости и дальновидности кайзера.
– Вернемся к середине октября, а то и раньше!
– Ага, будет уже поздно, – кричали провожающие, – мы успеем урожай убрать. Бездельники! Неплохо устроились!
«Это я бездельник! – думал младший сын хозяина. Он сидел на краю крутого откоса, не упуская из поля зрения пасущихся коров, но глядя на озеро. В этот день было видно, как оно простирается до самых Альгойских Альп, неизведанных далей. – Может, брат уже на той стороне гор. А я здесь бездельничаю».
Как жадно смотрел он вслед старшему брату, который шел в строю рекрутов и громче всех пел о прекрасном Вестервальде! Эвкалиптовый леденец. Он помнил вкус и ощущал его во рту. Какая тоска охватила его, когда они с матерью провожали брата в Кирхгруб, какая ненависть на мгновение завладела его душой, потому что мать крепко держала его за руку, а он понимал, что вынужден остаться дома! Она все сильнее сжимала руку, как никогда раньше, не отпускала до самого дома. Будто он маленький! Несправедливо, что старшим все можно и не надо спрашивать разрешения! Раз война продлится всего шесть недель, он мог бы прекрасно провести каникулы, нося за братом вещи и помогая стрелять. Летом в усадьбе жили дети, которые уезжали из дома сюда на каникулы. А он вынужден был из года в год оставаться здесь, никуда не ездил, и тут в кои-то веки представилась возможность провести каникулы на войне. Не бездельничать дома. Все, кто остался, бездельники. Дезертиры – вот кто они.
Интересно, поймет ли его Мара, она в длинной льняной юбке поднимается широкими шагами по Кальвариенбергвег. В каждом движении – радость и счастье, подлинное счастье бытия, в одной руке корзинка с его обедом, в другой – кувшин прохладной и чистой колодезной воды, смешанной с яблочным соком. Он почувствовал жгучую жажду. Но притворился, будто не видит Мару. Он погружен в мрачные мысли, и пусть все это знают, даже если все – только Мара. Она расскажет остальным.
– Давай, поешь, – упрашивала она, а он продолжал делать вид, что не замечает кувшин, наполненный стакан и тарелку с румяными кайзершмаррн, посыпанными сахарной пудрой. Все это Мара поставила перед ним в траву на белый платок.
– Не хочу, – упрямился он, и она погладила его по голове.
– Я насыпала пудры побольше.
– Это было давно.
Он уже не помнит, когда был прошлый раз. И кто знает, когда будет следующий?
– Работать придется больше, а получать меньше, если война не закончится в скором времени, – сказал отец недавно за обедом, после того как с утра они разложили последнюю отаву на просушку, чтобы к вечеру убрать. И ничего не добавил. Прежде чем произнести эти слова, он серьезным и строгим взглядом обвел комнату, словно собирался произнести речь. Но ничего не добавил. Молча съел обед, отодвинул пустую тарелку и прервал тишину, царившую за столом:
– Я утром был в банке и не смог получить деньги. Что-то тут не так! – сказал он, будто хотел завести простой разговор за обедом.
Была уже середина сентября, обещанные шесть недель прошли, а ни старший сын, ни работник не вернулись. Неделю назад забрали пару лошадей. Для работ остались только две лошади, а денег в банке больше нет. Что-то тут не так. Эти слова засели у всех в голове, когда они встали из-за стола, чтобы снова приняться за работу: что-то тут не так.
Когда работники и прислуга ушли, хозяин жестом попросил жену и трех дочерей остаться.
– А ты ступай делать уроки, – велел он Панкрацу. Тот понял, что будут обсуждать секреты, и остался за дверью подслушивать.
– Спальня с сегодняшнего дня на замке. Ключ у меня. Вся выручка теперь дома. Иначе не сможем вести хозяйство. И я хочу, чтобы это осталось между нами. Работников не касается, что деньги в доме и где они. Понятно? – строго спросил он, и все молча кивнули. – И Панкрацу знать не нужно. Он еще слишком мал. Пока не поймет. Только разболтает.
Сестры после обеда отправились на велосипедах в Зееталь, на роскошную виллу отставного ротмистра графа Шранк-Реттиха. Старшая дочь графа через три недели после начала войны разослала в лучшие дома округи письма, в которых призвала взрослых дочерей достойных семейств «всеми силами души» поддержать Отчизну, предоставив ей женскую рабочую силу, чтобы слава грядущей победы досталась не только мужчинам. Сама она предоставила свою гостиную, и девушки дружно шили постельное белье, распевая патриотические песни. Здесь же организовали курсы для санитарок, и постепенно мажорные мелодии в песнях дочерей достойных семейств сменялись минорными.
– Давай, ешь, – просила Мара уже настойчивее, – мне нужно домой, дел невпроворот.
«Дурацкое выражение», – подумал Панкрац.
– Отвернись, пока я буду есть.
– Хорошо, – она обратила приветливое лицо к горам. – Я буду смотреть на колокольню Клостеррида и считать до ста, а ты все съешь, ладно?
– Ладно.
– Не забудь помолиться, – напомнила Мара и, когда он наспех пробормотал что-то, принялась считать. Тарелка опустела уже на счете «семьдесят», и он, сияя, смотрел, как она, не оборачиваясь, считает дальше. Закончив, Мара собрала все в корзинку, снова погладила его по голове и босиком, как и пришла, побежала по проселочной дороге вниз к дому.
Кувшин она оставила.
Мальчик встал, побежал за коровой, которая забрела на соседский участок, и загнал ее обратно в стадо. Вернулся, достал школьные принадлежности. Пора браться за уроки.
– Тони, сын хозяина усадьбы на озере, сейчас в лазарете в Мюнхене. Ранение в голову.
– Он что, без шлема был?
– В шлеме. Все равно.
– Да что ж будешь делать. Случится же такое!
– Пастор сказал, он тронулся. Не в своем уме, – и Диневитцер покрутил пальцем у виска.
– Ого!
– Папа, а что такое Мюнхен? – спросила маленькая Тереза, повернувшись к Диневитцеру спиной. Не удостоила его взглядом.
– Город такой, – ответил дочери Лот, крестьянин из Айхенкама, и обратился к Диневитцеру:
– И как же они теперь?
– Похоже, хозяину придется сделать наследником младшего. А как иначе?
– Похоже, – согласился Лот, а потом спросил застывшую рядом девочку:
– А тебе что?
– Ничего.
Но это было неправдой. Тереза взволнована и очень растеряна. Диневитцер, войдя в дом, мимоходом поприветствовал ее: «Привет, малышка с большой головой!» – и прошел в кухню к ее отцу, чтобы рассказать ему новость. Она тут же помчалась вниз по лестнице в комнату и бросилась к зеркалу. На глазах выступили слезы, голова и правда казалась большой; из-за шуточек Диневитцера девочка смотрела на себя по-другому, она была еще слишком мала и не понимала колкостей старших. Отец продолжал говорить с полным энергии Диневитцером о простреленной голове Тони:
– Наверное, пуля пробила шлем, – потом обратился к Терезе: – Сходи к матери, может, ей что-то нужно.
Отослав вернувшуюся было девочку, Лот повернулся к собеседнику. У того был ворох новостей. И все с войны. Он рассказал о несметном количестве убитых и тяжелораненых – всё близкие и дальние знакомые, жившие по обе стороны реки. С ампутированными руками, лишившиеся ног, с изуродованными лицами, каких только нет. У одного, слышал Диневитцер, голова и туловище целехоньки, но нет ни рук, ни ног. Сам его не знает.
– Слава богу, – заметил Лот. – Радуйся.
– Даже покончить с собой не сможет, – сказал Диневитцер.
Иногда крестьянин переспрашивал, если не сразу понимал, о ком речь. Про многих он только слышал, но почти все, о ком рассказывал почтальон, были из крестьянских семей, Лоту они казались ближе других, он сочувствовал им сильнее. С кем-то мог и встречаться. Он понимал, как трудно приходится семье после потери работника и какое это горе.
Девочка тихонько вошла в чистую комнату, где на диване, который старшая сестра приспособила под кровать, в лихорадке лежала мать. Два дня назад она в хлеву неосторожно наступила на вилы, и зубья проткнули ей вену. «Кровь хлестала фонтаном, – рассказывала старшая сестра доктору, за которым отец съездил в ближайший город на рыдване, – пол в хлеву был такой, будто теленка забили». Когда доктор уехал, мать упрекала отца, что тот из-за такой ерунды поехал за доктором. Мол, в хозяйстве подобное случается сплошь и рядом. Сейчас, когда с деньгами туго, как уже давненько не бывало, им ни к чему расходы на доктора. Повязку бы и Мария наложила, а больше ничего не надо. На следующее утро матери стало плохо, когда она доила корову. Опершись на подоконник, мать неловким движением опрокинула горшок с молоком. На лбу выступили капли пота, она медленно сползла по стене и смотрела странным, застывшим взглядом. Совсем как сейчас, когда Тереза спросила, правда ли, что у нее большая голова. Мать не отвечала. Она смотрела перед собой и не двигалась, хотя сидела в постели прямо, прислонившись к двум большим подушкам.
– Хочешь еще укол, мама? – спросила Тереза. – Сказать папе, чтобы он опять привез доктора?
Мать по-прежнему смотрела вперед, и дочь помчалась в кухню. Пусто. Отец и Диневитцер ушли. Тереза побежала во двор, ища хоть кого-нибудь. Того, кто избавит ее от чувства вины. Взгляд матери жег девочку изнутри. «Возможно, заражение крови», – сказал доктор Пачи, когда приехал делать второй укол. После укола взгляд матери стал нормальным. «Пусть доктор опять сделает маме укол, – думала Тереза, – очень страшно, когда она так смотрит. Пусть доктор уколом заставит этот взгляд уйти». «Папа, папа!» – кричала она. Из сарая вышла сестра Сюзи с потным лицом, черным от сена и пыли, и отругала Терезу за то, что та громко кричит:
– Рита еще спит! Ты разбудишь ее воплями.
– Мама опять так смотрит, – сказала Тереза, и на душе полегчало, рядом была сестра. Хоть и ругалась.
Сначала они пошли в комнату, а потом разыскали отца. Постепенно собрались все дети. В том числе трое младших. Из города снова приехал доктор. Но мать уже умерла. От столбняка, так им сказали. Из-за него и был застывшим взгляд. Тереза представляла, что такое столбняк, лицо матери стояло у нее перед глазами.
Лот больше ни разу не разговаривал с доктором Пачи и сам, безо всякой помощи, воспитал семерых детей. Терезе тогда почти исполнилось пять.
Поговаривали, что сразу после выписки из лазарета было ясно: от Антона, сына хозяина усадьбы на озере, проку не будет, пуля, попавшая в голову, повредила рассудок. Впрочем, разве странности, которых раньше не замечали, появились не почти у каждого, кто вернулся с войны невредимым? Даже у тех, кто не получил ранений?
Нет, нет, каждого, кто побывал на фронте, настиг хотя бы один выстрел. Каждого! И необязательно пуля. Все были выбиты из колеи, большинство так или иначе повредились умом. Но что правда, то правда: странности Антона сильнее бросались в глаза, и дело было не только в мрачном фанатичном взгляде, от которого у встречных мороз шел по коже и которого прежде в помине не было. Глаза Антона горели мрачным фанатизмом, когда он выступал с речью перед членами народной дружины в большом зале трактира Хольцвирта в Кирхгрубе или приказывал отряду дружинников, которым командовал, подняться по Кальвариенберг на Эггн для тренировки. С тем же взглядом он маршировал во главе шествий в Праздник тела и крови Христовых и в День памяти павших воинов, размахивая сверкающим, до блеска отполированным штыком, и одни не могли удержаться от смеха, испуганно прячась за спинами других, чтобы никто не заметил: так комично, ненормально и жутко это выглядело. Комично, потому что за сверкающим штыком всегда было видно мрачное, исполненное фанатизма, убийственно серьезное лицо; ненормально, потому что все знали о пуле, пробившей шлем. И когда шел дождь, и когда небо затягивали тучи, и когда Праздник тела и крови Христовых выдавался солнечным, и когда холод пробирал до костей, каждый, у кого были глаза, мог наблюдать убийственно серьезную карикатуру: вот дружинники с застывшими взглядами шагают впереди дароносицы в близлежащий Вальштадт и бормочут молитвы. А вот деревенские муниципалитеты – верующие, у которых в хвосте плетется сама вера. Жители поддерживали отряды дружинников, образованные сразу после войны, ведь неизвестно, надолго ли красный призрак задержится в Мюнхене, не проникнет ли он и в села. Никто не смеялся над Тони открыто, лишь тайком, испытывая угрызения совести. Если коммунисты и в самом деле победят, то под угрозой окажется вся собственность – не только богачей, но и простых крестьян. Крестьяне тоже собственники, пусть и не состоятельные. Богачей среди них не было, разве только хозяин усадьбы на озере, чей сын командовал отрядом дружинников. Но они хорошо знали, как завидуют им неимущие рабочие, завсегдатаи того же трактира. Некоторые выпивали несколько кружек пива, становились разговорчивыми и громко высказывали дерзкие мысли, выплескивая зависть и недовольство, а крестьяне украдкой прислушивались, и эта необузданная одержимость страшила их – по крайней мере, когда закончилась война и события стали развиваться пугающе непредсказуемо. Даже Лот из Айхенкама, который всегда надеялся на лучшее, не говорил дурно об Антоне и никогда не смеялся над ним. Даже Лот, который после смерти жены, вне себя от боли и возмущения, на глазах у собравшихся вокруг майского дерева назвал доктора Пачи тупоголовым, свихнувшимся милитаристом, патриотом-идиотом и коновалом, угробившим его жену, и получил предупреждение от начальника округа за непатриотичные высказывания после доноса Метца, бедного крестьянина из Штайнода, притом что бургомистр отказался вынести предупреждение из уважения к Лоту, как он выразился, поскольку тот недавно потерял жену… Даже Лот! Словно в поисках средства борьбы с безумием, которое, как они считали, грозило прийти из города, они сделали ставку на родное и знакомое деревенское безумие – положились на Антона и его дружинников. Обе сестры смотрели сияющими глазами снизу вверх на решительного брата и под его гипнотизирующим взглядом открывали сердца грядущему.
Лоту, крестьянину из Айхенкама, удалось избежать краха. Внезапная и преждевременная смерть жены поначалу повергла семью в шок. Три старшие дочери первое время заботились исключительно о Лоте, который после похорон словно сделался безразличным ко всему. Внешне он казался спокойным, выполнял работу как обычно, но автоматически. Если ему случалось ошибиться или во время привычной работы что-то шло наперекосяк, как это часто бывает в хозяйстве (раньше он реагировал на такое сдержанным – Лот был благочестив – проклятием), это теперь его нисколько не трогало. На непроницаемом лице, с каким он встречал все вопросы, уговоры, новости и обиды, появлялась пренебрежительная гримаса, похожая на усмешку, и казалось, что всем видом он будто выражал вопрос: какой во всем этом смысл? Он находился на пути к глубокому нигилизму, который ему, крестьянину и христианину, совершенно чужд и неизбежно должен был привести к скорому физическому и душевному распаду. Неопытные в таких вопросах старшие дочери, тем не менее, поняли, как опасно отцовское состояние, и инстинктивно делали все правильно: они взяли на себя роль, принадлежавшую матери, – выполняли всю положенную работу и одновременно, безо всяких споров и уговоров, ухаживали за младшими братьями и сестрами. То и дело (но не слишком часто) они обращались к отцу за советом, неявно напоминая ему, что он им необходим, и пробуждая в нем ответственность за детей и за жизнь в целом. Единственное, что осталось как огромный рубец, – набожность старика.
Через год после смерти матери младшие дети почти забыли ее. Старшие дочери под грузом ответственности рано повзрослели и превратились в молодых женщин, и Лот обращался с ними соответственно: разговаривал на равных, а не как глава семейства с детьми. Это передалось и младшим, они жили в семье без матери – со старшими сестрами, будто у них было несколько матерей. Горе привело к тому, что в семье возник практически матриархат, повлиявший и на отца, и на единственного сына.
В доме Шварца, который хозяин усадьбы на озере купил еще в 1911 году, потому что его отдавали дешево и нужно было больше места для отпускников из города, число которых росло, после Первой мировой войны квартировала госпожа Краусс, в прошлом камерная певица. Она получала достойную пенсию и давала в месяц четыре-пять уроков пения студентам консерватории. Они добирались поездом до Зеештадта, а потом пароходом в Зеедорф. Там высаживались на берег на причале перед усадьбой, меньше чем в ста метрах от дома Шварца. Многие охотно оплачивали это маленькое путешествие, чтобы насладиться прекрасными видами, даже если в итоге петь им приходилось довольно необычно. Гуляющие по набережной порой слышали «ми-ми-ми» и «до-до-до» вперемешку с «ля-ля-ля» и опять сначала, восходящая гамма, нисходящая, «Ди-да-ди-да-ди-да-ди», за которым следовало «мия-мия-мия», неуверенно переходящее в «бра-брэ-бри-бро-бру». Некоторые люди останавливались и слушали, раскрыв рты.
– За это они старой кошелке еще и платят, – сказал крестьянин из Кирхгруба. Он стал однажды свидетелем такого урока, ведя готового к убою быка вниз в Зеедорф, чтобы передать Диневитцеру, который переправит его на железнодорожную станцию в Клостеррид. – Ради такого швырять деньги?!
Он был вне себя, потому что слышал, будто урок у камерной певицы стоит восемь марок. Ему, чтобы столько заработать, нужно две недели доить коров.
В усадьбе на озере, как и во всем Зеедорфе, где с образованными постояльцами в деревенские дома проникло некое подобие культуры (о чем в этой находящейся всего в двух километрах, но хорошо укрытой и защищенной от ветра дыре, Кирхгрубе, даже не слышали), внимали сбивчивому пению из квартиры Краусс совсем иначе – с немым благоговением. Пару раз певица слышала, как младший сын хозяина поет в церковном хоре, и предложила, если тот хочет, проверить, есть ли у него талант.
– Пока что вы кусок глины, – шепнула она ему после пасхального богослужения, – но, может быть, я смогу вылепить из вас нечто. Приходите. Тут недалеко.
Сын хозяина был простодушным молодым человеком и неплохо общался с горожанами, которые каждое лето заполняли дом. Они привозили и распространяли отношение к жизни, отличное от деревенского; появлялись на два или три месяца, поднимали вихрь, быстро действовали и быстро говорили, так что невозможно было поспеть за их речью, и исчезали на остаток года, который, казалось, становился длиннее и темнее по мере того, как Панкрац взрослел и привыкал к подобному ритму, лето воспринималось единственным проблеском света, будто только тогда были движение и жизнь, а в оставшуюся часть года – лишь затхлость, серость, дождь и грязь; нашествие отдыхающих каждый раз опьяняло его.
Все лето он был весел, как молодой жеребенок. Трудился, ни капли не уставая. Спал вдвое меньше, чем в другое время года, и все равно его не покидала бодрость. Готовность услужить и непредубежденность делали его желанным собеседником для постояльцев, когда им нужно было что-то узнать или требовалась помощь. Мало-помалу он начинал чувствовать, что способен на большее, чем предлагала жизнь в деревне и родном доме. Если эти образованные и искушенные люди так явно ищут встреч и разговоров с ним, значит, в нем есть нечто, о чем он сам еще не знает и что ему предстоит понять.
Когда он рассказал дома о предложении певицы, отец лишь пренебрежительно обронил:
– Вот как? Ну-ну! – А затем, помолчав, добавил: – Если тебе только от этого глупости в голову не полезут! По мне, так иди. Госпожа Краусс хорошо платит за жилье. Но если будет в ущерб работе, тогда всё! Ясно?
Обе сестры, узнав об интересе певицы к голосу их брата, напротив, затрещали, как… как… как подожженный сухой хворост при порыве ветра. Они воспитывались в интернате при монастыре и получили среднее образование. Школьное обучение, которое в крестьянской среде было совершенно непривычным и считалось причудой, укрепляло подозрение, что хозяин усадьбы на озере имеет большие планы насчет дочерей.
– Что там у них? Среднее образование! – злословил с завсегдатаями своего трактира Хольцвирт из Кирхгруба за утренней кружкой пива после воскресной мессы. – Все равно на них никто не женится, уж поверьте мне, одна круглая как шар, другая тощая как щепка. Первая будет выкатываться у тебя из рук в постели, вторую вообще туда не затащишь, такая она католичка!
Языками трепали некультурные и необразованные жители Кирхгруба.
– А я бы не прочь иметь спелую жену с аттестатом, – ехидно заявил Баххубер.
– Балабол! – обругал его старик Фезен. – Кто же у девок спелость аттестатами меряет?
Он с раскатистым хохотом стукнул кулаком по столу так, что пиво в кружках вспенилось.
Сидевшие там же жители Зеедорфа предпочитали отмалчиваться. Некоторые ловили себя на мысли – а что, если и у их дочерей есть способности к среднему образованию? Все они общались с приезжими и знали их особенности. Почти в каждом доме сдавали комнатушку или даже гостиную, а семьи хозяев теснились в кухне все лето, стараясь не мешать горожанам. Все они были слегка заражены этой культурой, что было заметно уже по их манере сидеть, будто насупленные коты по осени, в трактире у Хольцвирта среди завсегдатаев – краснолицых и тучных обитателей Кирхгруба, которые не знали комплексов и были хозяевами своего дела и самих себя, которых ничто не могло смутить или оскорбить, даже молчание жителей Зеедорфа.
– На них же все равно никто не женится, – разглагольствовал Аттенбауэр, – на них никто не женится, понял?! Такие всегда всё лучше знают. Тебе слова не дадут сказать… В собственном доме!
Дочери хозяина, конечно, не знали об этих разговорах, оскорбивших бы их. Когда брат ворвался, чтобы поделиться новостью, они вспомнили прекрасное время, проведенное в интернате бенедиктинок в Пойнге, когда почти каждый день музицировали, потому что там учились многие девочки из благородных семей и почти все играли на инструменте – чаще всего на блокфлейте, а также на скрипке и фортепиано. Тем, кто происходил из семей, лишь недавно добившихся благополучия, и еще не прошел школу хорошего тона – а потому не в полной мере овладел правилами поведения за столом и совершенно не умел играть на инструментах, – разрешалось компенсировать этот недостаток навыком пения. В этом отношении дочери хозяина усадьбы на озере не были самыми бездарными. Та, что полнее, Герта, обладала глубоким альтом, а худая, Филомена – высоким сопрано. Они исполняли сольные партии в школьном хоре, а позднее, вернувшись домой и не зная, что им делать с полученным образованием – если только не забредет в деревню француз или англичанин, которому понадобится помощь, – солировали в церковном хоре. Был так прекрасен голос у тех артистов двух… особенно вблизи, в собственных ушах. В душе росли тайные желания одновременно с пониманием их несбыточности. И тут ворвался брат, и рассказал о предложении камерной певицы, и рассеял морок обреченности, и пробудил надежду. Дважды летние постояльцы уже приглашали всех троих в оперу. И память об этом они бережно и надежно оберегали, как скудный запас зерна в хранилище. Сестры не давали брату покоя: он не должен упускать такую возможность! А может, и для сестер какая-нибудь возможность представится.
– Какая еще возможность? – спросил брат.
– Ну, дать послушать наши голоса певице.
Словно дети на елку, глядели сестры на брата. А в другие дни, как это обычно и бывает, сестры к брату постоянно придирались.
Однажды осенью, когда серый ноябрь, как царство мертвых, сдавливал грудь серой тоской и в голову проникали серые мысли, Панкрац постучал в дверь госпожи Краусс.
– Ах, вот и вы, наконец, – вскрикивает она, открыв дверь, – а я уж подумала, что оскорбила вас на Пасху, когда назвала куском глины. Но такого сильного юношу, как вы, нелегко сломить, правда? – Она закрывает за ним дверь. – Летом я несколько раз, сидя на скамейке на вершине Кальвариенберг, наблюдала, как вы, обнаженный до пояса, грузили на повозку тяжелые тюки сена. Черт побери! Ну и сила у вас! Великолепные мускулы! Конечно, вы так просто не сдадитесь. Проходите! Садитесь. Сначала я сделаю нам кофе. Пива вы и дома попьете.
Храбро садится Панкрац на предложенный стул и с любопытством ждет, что будет дальше. И вот камерная певица возвращается. В руках у нее поднос, на нем кофейный сервиз и пирог из песочного теста. Они пьют кофе, едят пирог, и Панкрац смотрит на ее полные, красиво изогнутые губы, видя и морщины, целую сетку мелких морщин, которые, думает он, немного старят лицо. «Наверное, у нее все так выглядит, не только лицо!» А певица рассказывает о своей карьере, об окружавшем ее блеске. Звучат названия больших городов: Париж и Милан, Лондон и даже Нью-Йорк. И вот уже Панкрац забыл о ее морщинистом теле и представляет мир, образ которого она пробуждает рассказами о блестящем прошлом и речами о таланте, который, возможно, дремлет в нем самом.
– По этой причине вы здесь, – говорит госпожа Краусс, – а то, что вы мужчина, а я женщина, ни при чем. У нас, к сожалению, слишком большая разница в возрасте. Так что давайте петь, и забудем страстные мечты.
Панкрацу бросается кровь в лицо, он краснеет до корней волос. И он рад, что она идет к фортепиано. Рад, что наступает момент, который страшил больше всего: нужно петь. Певица замечает, что руки у него хорошей формы, когда он кладет их на крышку фортепиано. Он видел такое движение однажды у певца Роде, когда тот выступал с немецкими лирическими песнями в приходской церкви в ближайшем городе. Роде положил руки на фортепиано, затем, когда начал петь, поднял одну и перенес на талию, оставив другую на инструменте. Это выглядело достойно, как вспоминал Панкрац, когда мысленно готовился петь и думал, как ему встать.
– Вы настоящая загадка, – говорит певица, – у вас тяжелейшая работа, даже представить невозможно, и такие прекрасные руки. Покажите-ка!
Она берет его ладонь в свои, крепко держит и рассматривает. «Как мясник теленка, когда собирается отправить на бойню, – думает Панкрац. – Прикидывает цену». Так паршиво он давно себя не чувствовал. Пожалуй, никогда. Она поворачивает его руку так и сяк, поднимает, «чтобы ощутить вес» – это ее слова.
– Тяжелая, как львиная лапа, – выносит вердикт госпожа Краусс и смотрит искоса снизу вверх, – а кажется легкой, словно держащая вожжи рука дельфийского возничего.
Панкрац ни черта не понимает. Если не справится с наплывающим головокружением, то прямо сейчас упадет в ее объятия. Черт побери! Так у него кружится голова, только если он вечером выпьет больше, чем нужно, и ночью просыпается от позывов к мочеиспусканию, быстро вскакивает и облегчается в желоб у входной двери. Однажды он даже упал в обморок, но, ударившись о пол из еловых досок, пришел в себя. В то время он еще делил спальню с братом, и тот, проснувшись от глухого стука и увидев, что Панкрац беспомощно сидит на полу на корточках, сказал:
– В европейской культуре только женщины мочатся в таком положении.
Брат тоже ходил в среднюю школу и умел культурно избавляться от излишков жидкости. Культура! Всегда в такие моменты Панкрац казался сам себе неотесанным. Брат невозмутимо вернулся в кровать.
И так же беспомощно стоит Панкрац перед певицей, совсем как когда-то сидел на корточках перед братом. Выглядит как идиот. Ссутулившись – одна рука висит, другую держит певица, взгляд застывший, – борется с головокружением.
– Да не смотрите на меня так! Вы и правда очень красивый мужчина.
Она отпускает его руку и садится на табурет у фортепиано. Нормальным усаживанием это не назвать: она натягивает платье на ягодицах, дважды или трижды примеривается над табуретом, прежде чем с легким вздохом согнуть колени, а потом вульгарно плюхается на сиденье. Но у Панкраца уже прошло то, что поначалу могло раззадорить.
Он ушел от госпожи Краусс весьма обнадеженным. По ее словам, с его голосом можно кое-что сделать, но это она еще на Пасху поняла. Все зависит от того, хочет ли он этого, да и может ли.
– Ничем другим у вас заниматься не получится, – сказала она. – Если захотите стать певцом, потребуетесь не только вы целиком, но и все ваше время. Вы должны понять это, прежде чем примете решение. И это будет недешево, хотя не исключено, что удастся получить стипендию. Может быть, индивидуальную. К талантам из деревни в культурной сфере все еще повышенное внимание. Но давайте это обсудим, когда примете решение. Сможете ли вы оставить сельское хозяйство и усадьбу?
Юноша замялся. В памяти всплыли слова отца, что не должно быть глупостей в голове и ущерба работе.
– Я должен обсудить этот вопрос с родителями, – ответил он на литературном немецком. – За усадьбу несет ответственность брат. Он наследник. Мне все равно придется подыскивать что-то другое.
Брат! Да! Хоть он к тому времени уже получил ранение в голову, никто еще полностью не осознал последствий, во всяком случае, в семье хозяина усадьбы на озере. Тони по-прежнему считался наследником, Панкрац еще мог мечтать о карьере певца.
Отец после долгих колебаний все же позволил ему брать уроки у госпожи Краусс. Плату она запросила небольшую, но в придачу регулярно получала свежие деревенские продукты и живого карпа к Рождеству. Сестрам она тоже дала несколько уроков пения – вернее, подсказала несколько технических хитростей, чтобы сопрано Филомены звучало не так фальцетно, а альт Герты – не так баритонально, более женственно. Благодаря ей церковный хор обрел некоторую гармонию и, когда душевная болезнь окончательно поразила старшего брата, хорошего хормейстера в лице Панкраца, чьи мечты рухнули.
Терезе уже исполнилось пятнадцать, и она работала наравне со старшими сестрами, которые пока жили дома. Самая старшая, Мария, несколько лет тому вышла за крестьянина из соседней деревни. Правда, тогда ей было восемнадцать, и она с удовольствием еще несколько лет не спешила бы надевать супружеские оковы, но выбор оставался невелик. Сказывались последствия войны, которая все поставила с ног на голову, нарушив баланс численности между мужчинами и женщинами. Не было уверенности, что позже подвернется хорошая партия. Муж был наследником большой крестьянской усадьбы, и не исключено, что Мария даже любила его. Ничего не поделаешь! Так или иначе, ярмарка невест в доме Лота из Айхенкама была открыта. К ним стали часто приезжать гости. По выходным сваты прибывали издалека в полукаретах, их принимали во дворе. Когда дочери Лота поняли, что пользуются успехом, они отбросили крестьянскую застенчивость, сохранив для приличия самую малость, в качестве украшения. Старик находился среди гостей и с удовольствием выслушивал новости из отдаленных селений. Появлялись и претенденты из близлежащих деревень. Люди знакомились, между одними завязывалась дружба, между другими развивалась неприязнь, временами грозила вспыхнуть конкуренция, подогреваемая мужской гордостью, но старик Лот умел подавить конфликт в зародыше; в итоге шесть дочерей пошли под венец, и веселая суматоха, царившая в доме, поспособствовала крайне редким в иных случаях контактам за пределами естественных границ в виде озера на западе и большой реки на востоке, что подстегнуло местных парней отправляться в путешествия в поисках невест. Сошла на нет и многовековая практика крестьянских браков между близкими родственниками.
История умалчивает, когда Панкрац, чей старший брат все чаще проявлял признаки душевной болезни, впервые появился в Айхенкаме, чтобы подыскать невесту, но, вероятно, это случилось в начале тридцатых. Страна, раздираемая внутренними конфликтами, оправилась после войны, а черные облака пока не угадывались на горизонте. По крайней мере, не искушенные в политических вопросах деревенские их не видели и не ощущали. Не случайно, что именно среди крестьян, подхвативших песню о крови и почве, нашли благодарных слушателей исполнители песни о черно-коричневом лесном орехе.
В усадьбе на опустевшее место старшего сына протиснулась Филомена. Основанный на христианстве патриархальный дух, царивший в доме, не ослабел, а, напротив, ужесточился.
В начале 1933 года Филомене, старшей дочери хозяина усадьбы на озере в Зеедорфе и начальнице филиала Имперской почты, располагавшегося в маленьком доме недалеко от усадьбы еще с периода монархии, было около сорока, и ее время, как и время Веймарской республики, подошло к концу.
Это смелое утверждение, но, если верно, что наш главный и ведущий инстинкт, придающий, вероятно, смысл жизни, – это защищать жизнь и стремиться к продолжению рода, то период действия инстинкта, отвечающего за продолжение рода, у Филомены сменился климаксом, так и не наполнившись смыслом. Можно предположить, что она восприняла эти изменения не как катастрофу, а как пробуждение, не как менопаузу, а как кульминацию, долгожданное обретение нового смысла вместо нереализованного прежнего. Филомена была представительницей своего времени, а время умело ценить людей. Когда из чрева времени появился на свет новый смысл, все было готово к его рождению.
Филомена, которую из-за службы на почте прозвали Почтовой голубкой, повесила на двери усадьбы табличку «В этом доме живут христиане. Евреи здесь неугодны». На двойном флагштоке над зданием почты, на котором после войны рядом с флагом Имперской почты развевался имперский орел, орла сменила свастика. Но орел не улетел. Он угнездился в людских сердцах.
Политические события бурно обсуждались в усадьбе как посетителями, так и домочадцами. Но здесь, как и повсюду, память о последней войне, подпитываемая глубинным чувством справедливости и жаждой сатисфакции, как врожденный рефлекс, подавляла сомнение, отбрасывала на него черную тень, пока оно не исчезло. Когда спустя двенадцать лет оно пробудилось, возникла тавтология: какое-то время сомнение сомневалось в самом себе.
Жизнь и в самом деле налаживалась. Массовая безработица, которая была тяжким бременем не только для безработных, но и для всей экономики, а значит, и для хозяев гостиниц с трактирами и крестьян, исчезала. Все больше людей, даже небогатых, могли позволить себе отдых на озере, цены на сельскохозяйственную продукцию стабилизировались, удалось купить косилку. Голубка поначалу яростно взъерепенилась. Мол, еще больше будут заставлять трудиться лошадей, тогда как полно работников и все умеют обращаться с косой. Чем они будут заниматься?
Филомена любила животных и состояла в обществе защиты зверей и птиц. Каждый день ходила в конюшню и угощала лошадей хлебом и сахаром. Последний лошадям приходилось давать тайком, когда никто не видел. Отец, несмотря на возросшее влияние Филомены в семье, оставался полновластным хозяином усадьбы и строго запрещал детям и постояльцам кормить лошадей сахаром, животные могут ослепнуть. А для Голубки отец и Господь Бог были единственными, наряду с господином пастором и господином учителем, авторитетами. Новому государству, как и предыдущему, она тоже не покорилась. И то и другое она рассматривала как наследников империи, а значит, монархии, на стороне которой оставались ее симпатии. Она сходилась с новым государством только в нескольких пунктах, а возможно, лишь в одном: в неприятии евреев, которые распяли на кресте Господа Бога. И лишь любовь к животным побуждала ее к греху неповиновения отцу.
Новая косилка была целиком из железа: от двух больших колес до дышла. Даже сиденье представляло собой тарелку из листового железа с отверстиями для стока дождевой воды. Такого механизма еще не видели: весь железный! – это было что-то совершенно новое.
– Наверное, танк – ее крестный отец, – сказал Эльф, который в войну дошел до Камбре и стал свидетелем первого сражения в истории, в котором широко использовались танки. Они тоже полностью были из железа, это он знал точно.
Панкрац, который осенью отметил двадцать седьмой день рождения, посетив оперу «Тристан и Изольда» в Мюнхене, и на которого из-за болезни брата поначалу против воли лег груз будущего наследства, запряг мерина и кобылу в новую косилку, уселся на сиденье с отверстиями, словно пробитыми пулями, и двинулся в сад, где трава уже доходила до лодыжек: было начало мая 1934 года, все уже цвело. Он опустил режущий брус длиной метр двадцать и, как ему показывал торговец сельскохозяйственными машинами Финстерле из ближайшего города, где он рано утром забрал косилку, перевел рычаг на зубчатое колесо, которое через коленчатый вал и равномерно вращающееся правое колесо приводило в движение длинный нож с пятнадцатью лезвиями, ходивший между опасными острыми зубьями. Панкрац прокосил несколько полос в саду, и трава лежала на земле, будто казненная. Работник принес грабли, сгреб траву на нескольких квадратных метрах, и все увидели, как чисто косит машина.
– Косой так никогда не выкосишь, надо же, как ровненько! – воскликнул Старый Зепп, лучший косарь из работников, который тогда был не так уж и стар, может, чуть за пятьдесят. Грохот ножа в брусе между стальными зубьями звучал как недобрая лебединая песня эпохи косы. Будущее принадлежало машинам – сомневаться не приходилось.
В следующем 1935 году на Сретенье рассчитали двух работников. В них больше не нуждались. Старый хозяин сказал, что достаточно оставить коня – и то, если он прожил долгую жизнь и хорошо потрудился. Оба уволенных начали работать только в прошлом году, когда новый бургомистр намекнул хозяину усадьбы, что крайне желательно не пренебрегать недавним указанием правительства, согласно которому каждый зажиточный крестьянин должен взять хотя бы одного работника и помочь поднять производство и снизить безработицу. Уволенные не оказались на улице – они нашли работу на строительстве автомобильной дороги. Однако осенью 1935 года в усадьбе сгорели хлев и амбар. В ходе полицейского расследования официально установили, что это был поджог. Виновных не нашли. И даже спустя годы, когда хозяина охватывало соответствующее настроение, он сокрушенно говаривал:
– Не надо было рассчитывать сразу двоих. Время еще не пришло. Боже, боже! Зачем я рассчитал двоих! Это была ошибка.
И все же новое время принесло ему не только пожар, но и кое-что еще: новый амбар! Полностью механизированный, прослуживший до конца земной жизни старого хозяина и даже до конца этого нового времени – тогда, впрочем, оно уже стало (или по меньшей мере именовалось) старым.
В начале осени с наступлением ночи поджигатели устроили эффектное зрелище. Весь урожай был собран, сено и зерно заполняли амбар под самую крышу, в итоге и он, и хлев мгновенно вспыхнули ярким пламенем. Было светло как днем, а языки пламени полыхали в небе на высоте в два раза выше старой груши в саду. Поставленная всего два года тому назад скамейка из мореной вишни покрылась пятнами от сыпавшихся искр. Об этом на следующий день рассказывала съехавшимся родственникам пятидесятилетняя Мария, которую потом именовали старой Марой.
Пожарные из города примчались первыми, команда из соседнего Кирхгруба прибыла последней. Пока протягивали шланги к озеру, чтобы качать воду, Филомена уже обзвонила все почтовые отделения в округе и попросила срочно передать страшную новость родственникам и полезным знакомым. Эльф, чья усадьба находилась через дом к северу, увидел, как он выразился, «мерцающий тревожный свет» первым, потому что вышел из дома перед сном по малой нужде, и тут же сделал правильный вывод: усадьба на озере горит! Его крик прозвучал так громко, что услышал сосед Райтц – тот как раз ставил на стол трехлитровую глиняную кружку с пивом, которое, как он позже потрясенно рассказывал, ему налили в усадьбе на озере из деревянного бочонка.
– Когда хозяин наливал мне пиво, поджигатели на гумне чиркали спичками, – говорил он каждому, кто готов был слушать, – по-другому я это никак не могу объяснить.
Они с Эльфом помчались к усадьбе.
– Пожар! Пожар! Усадьба на озере горит! – не переставая кричали они и тем самым заставили хозяина и его близких обратить внимание на катастрофу.
– А то еще кто-нибудь сгорел бы! Они вообще ничего не знали, пока мы не прибежали, – расхваливали они себя.
Хозяин весьма предусмотрительно взял на себя руководство и так организовал своих людей и соседей, что удалось спасти скот без единой потери, как написали через два дня в газете «Зеештедтер Зеекурьер». В безопасное место удалось перенести даже новую косилку и две тележки с сеном, которые по счастливой случайности стояли у входа в амбар, потому что еще не ввезли отаву с последнего покоса. Только большая молотилка, находившаяся в самом конце амбара, потому что до зимы ее не планировали использовать, расплавилась в черную колючую глыбу.
– Интересная форма, – заметил построивший несколько лет тому назад дом на Кальвариенберг художник и скульптор по металлу Лассберг, после того как попросил у крайне огорченного, будто заглянувшего в ад, хозяина разрешения пройтись по пожарищу.
– Я же художник и любопытен ко всему, что создает формы. Разрушение – это тоже создание формы. Природа трудится без отдыха, она виновница и доброго, и злого – я, конечно, не в смысле нравственности, художник не мыслит такими категориями. Природа уже придумала все формы, которые лишь впоследствии открывает наша фантазия. Так-то, господин Бирнбергер, и потому искусство не может обойтись без природы. К сожалению. В основе каждой катастрофы лежит деяние природы, даже в поджоге. Мы должны помнить об этом и не позволять подобным событиям повергнуть нас в отчаяние. Не относитесь к произошедшему как к трагедии.
Хозяин подошел к нему вплотную, грозно взглянул и произнес:
– В такую минуту вы говорите об искусстве! Хорошо, не будете ли вы так искусны ссудить мне пятьдесят тысяч марок, господин Лассберг? Как раз хватит на отстройку всего. И никакой трагедии. А если нет, не будете ли вы так искусны поцеловать меня в зад, господин Лассберг? Мне нужно работать. Горит, знаете ли.
Слегка испуганный – не требованием хозяина, которое он не принял всерьез, а скорее угрожающей позой, – Лассберг исчез.
– Это тоже злодеяние природы, – бормотал он, уходя, – что она рождает таких грубиянов! Ну что ж. Я переплавлю и отолью заново эту глыбу, чтобы завершить неумелое произведение природы. Ха! Это будет превосходная скульптура.
Он приподнял голову и несколько раз втянул носом воздух. Приро-о-ода! Приро-о-ода!.. Само звучание слова причиняет боль. Он вышел на проселочную дорогу, ведущую к дому, творчеству и избавлению от внутренней агрессии.
Когда отпали первоначальные подозрения в отношении хозяина и его домашних, расходы по восстановлению усадьбы взяла на себя страховая компания. Скот до весны распределили по крестьянским дворам в округе. Двух телок даже переправили в Хаспельберг. О животных заботились приютившие их люди. В случае с коровами крестьяне оставляли себе молоко. За остальной скот, предназначенный на убой, хозяин должен был возместить убытки сеном или мясом. В начале лета животных выгнали на пастбища и уже осенью завели в новый хлев. Благодаря правительственной программе по созданию рабочих мест удалось нанять нужное количество работников, восстановление огромного здания завершилось к концу весны, и в июне, как положено, в новый амбар сложили сено. Когда скотину загнали в новый хлев, все коровы получили новые имена. Теперь их звали Аттенбауэрша, Лигенкаммерша, Шехина, Оберзеедорферша и так далее, по местам временного проживания.
Годы спустя, когда была развязана война и почти из каждого двора забрали на фронт сначала молодых мужчин, затем мужчин постарше, и освободившиеся рабочие места на фермах заняли работники из военнопленных, началось сожительство иностранцев с немецкими коровами. Позднее утверждалось, что все происходило так непосредственно, что своевременно распознать это не представлялось возможным. Тесная дружба немецких коров с военнопленными – в первую очередь французскими, а потом и русскими – не основывалась, как считали все до единого в первые послевоенные годы, на якобы врожденной развращенности французских солдат и культивированной, а значит, противоестественной высоконравственности немецких коров, которые давали отпор, сталкиваясь, так сказать, с инстинктом продолжения рода и демонстрируя естественный, врожденный способ поведения. Нет! Их поддержка заключалась лишь в том, что изголодавшиеся французы и русские, когда их никто не видел, получали из коровьего вымени калории, которых требует нуждающийся в углеводах организм человека, занятого принудительным трудом. То, что немецкие коровы не сопротивлялись, а, напротив, стояли смирно, нельзя рассматривать с точки зрения морали. Со временем это стало общепризнанным фактом. Так или иначе, то, что происходило на фермах в военные годы, никак не сказалось на обращении немецких крестьян с коровами после войны.
Во второй год войны, незадолго до нападения на советскую Россию, Панкраца, уже не такого и молодого хозяина усадьбы на озере – ему было почти тридцать пять, – призвали и отправили сначала в Россию, а затем во Францию. В это же время в далеком Каттовице в оккупированной Польше тридцатидевятилетний Виктор Хануш тоже отправился на фронт, попав под поздний призыв. Прощаясь с Терезой в усадьбе Лота из Айхенкама, Панкрац пообещал жениться на ней, если вернется с войны невредимым.
Похожее обещание корове Шехине полгода спустя дал как-то вечером французский военнопленный Жан Кюртен, который уже десять месяцев выполнял принудительные работы в усадьбе на озере. Он зашел со свечой в хлев, чтобы тайком попрощаться с Шехиной. На следующий день он собирался рискнуть и бежать во Францию, и кроме коровы в доме не было никого, с кем ему грустно было бы расстаться. Голубка, правда, искала его общества, как только подворачивалась возможность, и Герта тоже, и они тайком, но от этого не менее интенсивно, вели беседы о Боге и о мире, причем чаще о Боге, Жан был католиком не меньше, чем французом. За десять месяцев это происходило только тогда, когда позволяли работа и предписания военного времени: крестьянам под угрозой штрафа предписывалось загружать пленных работой от восхода до заката, не допуская простоев, не облегчая труд и не помогая. Общение с коровами для французов было единственной возможностью ощутить близость живого существа из плоти и крови. Вот Жан и собирался после войны, которую, в чем он не сомневался, немцы проиграют, вернуться и забрать Шехину во Францию в качестве трофея.
Жан сговорился с другим французом, Луи Клермоном, который работал у крестьянина в соседней деревне, и сообщники разработали план побега. Они слышали, что немцы перебросили большую часть армии на восток и оккупационные войска во Франции состоят в основном из пожилых солдат позднего призыва. Когда все силы сосредоточили на востоке для нападения на Россию, батальоны, направленные защищать страну, оказались укомплектованы из рук вон плохо. Французы рассчитывали беспрепятственно проникнуть во Францию, переправившись через австрийские и швейцарские Альпы, днем отсыпаясь в укромных местах, а ночью продолжая путь. Они рассчитывали – была уже осень, ночи стали длиннее – примерно через десять дней добраться до швейцарской границы. На пятый день они достигли местечка Ройтте в Тироле, где наткнулись на патруль и были задержаны. Они не могли знать, что как раз в это время удалось сбежать из плена одному французскому генералу, и немцы бросили все силы на поимку высокопоставленного офицера. Возможные пути бегства во Францию тщательно контролировались. Генерала так и не нашли. Клермона отправили в лагерь для военнопленных, где он работал на оружейном производстве. Кюртен, интеллектуал с политическими амбициями, попал в Украину, где под угрозой смерти строил фронтовые укрепления, а потом – в рабочий лагерь в Чехословакии. Когда Красная армия продвинулась далеко на запад, незадолго до конца войны в суматохе немецкого отступления Кюртену снова удалось бежать. Он прятался в Баварском лесу и после свержения нацистского правительства отправился домой через Зеедорф. Бесплатно получив комнату в усадьбе, Кюртен продолжил прерванные побегом интенсивные беседы с Голубкой. Когда наступило лето, он вернулся в родные края неподалеку от Лиона. Он вскоре стал местным бургомистром, а потом сенатором в Париже. Шехине Кюртен подмигнул на прощание, оставив в родном хлеву.
«Почему я не знаю, чем в это время в России и во Франции занимался солдат вермахта – мой отец? – спрашивает себя Семи. – Едва ли причина лишь в том, что одни испытывали патриотическую гордость за победу, а другие – личный стыд за поражение в этой мясорубке. Должно быть еще что-то: общий стыд, навязанный победителями. Смешавшись с личным стыдом за покорно совершенные поступки, общий стыд создал особое настроение, которое окутало молчанием конец сороковых и сопровождалось опущенными взглядами и шипением сквозь зубы до конца пятидесятых. Если человек не задает себе вопросов, то и другие их ему не зададут. По себе знаю. Обижаться тут не на что. Нужно было сразу ткнуть его в это! А я?»
Семи стоит перед осиротевшим родительским домом и смотрит в стену.
Каждый, кто решил дойти до конца, должен истечь кровью. Своей немецкой кровью. И не сострадание к бесправным и замученным движет им, а, скорее, уважение к убитым, но сильнее всего – ненависть. Ненависть к тем, кто несет в мир несправедливость и мучения, снова и снова, вполне осознанно, потому что строит на этом свое господство и извлекает выгоду.
Семи стоит у стены, лицо налилось кровью. Он во власти момента, его чувство справедливости подчинено ходу истории. Он ежедневно ведет эту битву.
В январе 1945 года в усадьбу на озере пришло извещение: сын, солдат вермахта, в героическом оборонительном бою против наступающих войск противника на территории Франции был ранен осколком гранаты и находится в лазарете в Эльзасе. Адрес указать нельзя, чтобы не дать врагу возможность совершить трусливое нападение на беззащитных немецких солдат, пострадавших в героической борьбе за Отечество. Раненого героя лечат лучшие врачи.
Новость потрясла живущих в усадьбе. В Рождество 1943-го умер старый хозяин, в доме все еще продолжался траур. На всех дверях, несмотря на то, что прошел год, шестого января рядом с первыми буквами имен трех волхвов – 19 + К + М + В + 43 – прикрепили кнопками черные ленты. На буфете в комнате для постояльцев, которая долгими зимними вечерами служила семье гостиной, поставили большую свадебную фотографию хозяина и его жены в траурной рамке, хотя хозяйка была жива. Она была подавлена и большую часть дня проводила в супружеской спальне на втором этаже. Шторы целый день оставались задернутыми, и в комнате было темно, как в могиле.
В доме все это время заправляла Голубка с помощью сестры Герты. Хлевом ведал Старый Зепп, которому было уже почти шестьдесят пять; Голубка ничего не понимала в этих делах и полностью ему доверяла. Что касается работ в лесу и в поле, приходилось полагаться на помощь посторонних. После того как в 1944 году союзники вошли на территорию Франции, французские пленные были отозваны, чтобы лишить врага возможной поддержки в тылу. Правда, гауляйтер посоветовал обратиться в концлагерь Дахау и взять оттуда какого-то русского для полевых работ, но от этой идеи предпочли отказаться как от слишком рискованной и ненадежной. В доме еще с двадцатых квартировал князь и художник Хабиб Моссул. Он и его прекрасная жена Шейла занимали комнату на третьем этаже, которую до самых восьмидесятых называли комнатой Моссулов. Эти постояльцы были людьми не только приятнейшими, но и элегантными, загадочными, необычными, – перед ними почти преклонялись. Они-то и рассказали страшные подробности о жестокости большевиков в России. В том числе по этой причине, но и не в последнюю очередь из уважения к Моссулам, которые в 1917 году бежали из России, оставив имущество, по вине таких людей, как те, которых сейчас предлагали в качестве работников, от предложения наотрез отказались. При уборке сена прибегли к помощи постояльцев, а также школьников из Зеедорфа и соседних деревень; фанатично преданный режиму учитель Вегерих отпускал с уроков детей из некрестьянских семей, чтобы те помогали обеспечивать доставку продуктов на фронт. Под руководством поденного работника Броя они могли выполнять простые полевые работы, переворачивать сено, раскладывать его, сгребать. Благодаря этим необычным временным мерам, принятым матриархатом, помощи гостей и детей, даже без постояльцев женского пола, которые в первые годы войны оказывали посильную помощь, распевая песни и сплетая венки, и теперь несли службу в лазаретах страны и за ее пределами на еще оккупированных территориях, в усадьбе два последних военных года удавалось неплохо сводить концы с концами. Но постепенно возникло и распространялось настроение, что пришла пора возвращаться к нормальной жизни. Подозревали, что война скоро закончится, но вслух об этом не говорили. Конца ждали безмолвно, но от того с еще большим нетерпением. В воздухе витало неповиновение, беззвучное, как клочья тумана, и оно тихо ядом изливалось на сторонников войны до победного конца. Зародились слухи, которым верили все больше людей, и в итоге в последний военный год в головах сельских жителей прочно угнездилась мысль, что главное зло – не Гитлер, а «гитлеры». Хотелось, чтобы рейхсканцелярия сказала наконец веское слово, заткнув рты милитаристам и положив конец войне. Хотелось, чтобы вернулись дети и братья, соседи и родственники, потому что их любили и не в последнюю очередь потому, что не хватало рабочих рук.
Летом не приехали отпускники, их место заняли квартиранты. В апреле начались периодические бомбардировки Мюнхена, ставшие в июне и июле постоянными. За короткое время столица Баварии превратилась в руины, и пугающие новости о бедственном положении жителей достигли деревни. Вслед за новостями потянулись пострадавшие от бомбежек в поисках нового пристанища.
Первым появился совершенно истощенный, покрытый паршой пес, помесь овчарки и волкодава. Голубка быстро его вылечила, приютила и назвала Луксом. Стоило начаться грозе и загреметь грому, пес забивался в комнату Старой Мары и лежал там, громко завывая, пока ненастье не проходило. Догадаться о прошлом Лукса было легко: он жертва бомбежек.
За Луксом последовали бесчисленные, столь же истощенные скитальцы, ищущие приют: художник и писатель Хайдельбергер, виолончелист и дирижер Лео Пробст, скрипач Цигизмунд Бонди, камерная певица Швайнс, актрисы Б. и Д. Визельфинк. Были и простые люди, агент по недвижимости Мерц с семьей, фройляйн Гермина Цвиттау из Восточной Пруссии, инженеры Виланд и Фройд – они первыми устремились из уничтоженных городов в деревню и там – к этому благодатному месту, к жемчужине на озере, которое помнили по более счастливым временам. Они успели раньше тысяч других, чей приезд был еще впереди. Не только Мюнхен стал непригодным для жизни – из восточных областей, как сообщалось в еженедельных сводках, миллионы людей спасались бегством от большевистских варваров. Во всех домах на берегу озера из тех немногих, где обычно принимали постояльцев только летом, жили жертвы бомбежек, не уезжавшие с окончанием лета. Одни платили хозяевам и преумножали богатство деревни, другие уменьшали его, живя в долг, поскольку единственным, что у них осталось, была жизнь. Им вежливо намекали, что они могут возместить бесплатное проживание и пропитание, внося вклад в выполнение многочисленных работ, несмотря на объяснимое неумение обращаться с непривычными сельскохозяйственными орудиями. Это должно было произвести хорошее впечатление на тех, кто еще располагает средствами и вынужден платить.
Итак, в деревушку на озере устремилась разношерстная публика, которая обосновалась там надолго и через несколько дней уже чувствовала себя дома в большей степени, чем местные. Дома были забиты под крышу, обитателей из числа жертв бомбежек получила даже ветхая, давно пустующая комнатушка в хлеву, которая вплоть до двадцатых служила ночлегом кучерам: проведя здесь одну ночь и восстановив силы, они на отдохнувших лошадях продолжали путь в Мюнхен. Клали новые печи и ремонтировали старые, раньше в гостевых комнатах жили только летом и отапливались лишь два-три помещения для тех постояльцев, которые и летом мерзли, а также для гостей, покинувших богатые мюнхенские кварталы и желавших провести несколько солнечных дней на озере осенью без шума и суеты. Вместо каминов появлялись печи. Несколько жильцов, чьи комнаты не было возможности обновить, днями и вечерами сидели в натопленной гостиной. В доме все шло кувырком, когда пришло известие о ранении будущего хозяина.
Ничего не известно! Ни что за ранение, ни насколько оно серьезно. Обеспокоенные родные представляли себе худшее. Почти в половине домов в деревне за пять лет войны оплакали одного, а то и нескольких погибших, и не было людей, кто хотя бы раз – на улице или в церкви – не встречал бы калек, вернувшихся с войны. Воображение рисовало самые страшные картины, а в каких-то сорока километрах, в сумасшедшем доме Мюнхена, влачил жалкое существование бывший наследник, потерявший рассудок на предыдущей войне.
Сильнее всего эта новость, зловещая из-за отсутствия деталей, поразила Старую Мару. Закончив работу и поужинав, она исчезала в комнатушке, где ее уже ждал Лукс. Там она прихлебывала чуть теплый кофе из глиняной кружки, держа ее в правой руке, и пальцами левой перебирала бусины перламутровых четок. Мара тихо бормотала слова молитвы, пес внимательно слушал. Временами она прерывалась и громким голосом рассказывала про маленького Панкраца. Всем, что ей вспоминалось – как он рос и взрослел, – она делилась с псом. Это было легче, чем беседовать с собой перед лицом неизвестности. Она говорила на старом диалекте, и слова сами выплывали из глубины воспоминаний. Они осторожно и робко приглушали боль и на губах Старой Мары приобретали форму, стремясь выразить красоту и утешение. Умница Лукс, внимательный слушатель, навострив уши и не моргая, посматривал на сидевшую в кресле Мару обращенным к ней глазом – он понимал все, о чем она рассказывала. Мара так забывалась, что вскоре засыпала, и только когда чугунная печь остывала и становилось холодно, просыпалась и ложилась в постель. Пес всю ночь тихо лежал рядом, распространяя зловоние, и чувствовал себя прекрасно.
На следующий день она, как обычно, в пять часов утра, еще искреннее, чем накануне, молилась за молодого хозяина и, согнувшись, как под тяжкой ношей, отправлялась в хлев. Так миновали несколько недель.
У Голубки страх и заботы о брате выразились в иных, скорее организационных, хлопотах. Едва узнав страшную новость, она тем же вечером заказала пастору в маленькой церкви на озере молебен, на котором с присущей ей властностью призвала присутствовать всех жителей деревни, обойдя каждый дом. Как и в ночь пожара десять лет тому назад, она обзвонила все почтовые отделения, оттуда новость передали родным и знакомым, и вечером у ограды церкви стояли несколько лошадей, запряженных в экипажи и одноколки, и велосипеды – транспорт прибывших из других краев.
Можно подумать, Панкрац какой-то особенный, а от осколочного ранения гранатой умирают, ворчали некоторые – особенно старый рыбак Ширн; вечером положено молиться за покойников. Но в церкви все равно собралось много людей. Виолончелист Пробст играл на органе и пел хоралы, Герта и Голубка подпевали – бас-баритон, альт и сопрано, – и благодаря молитвам им удалось создать в храме проникновенную атмосферу, которая в итоге охватила собравшихся, по крайней мере, некоторых. Глаза Старой Мары блестели от слез, Старый Зепп неподвижно смотрел перед собой, угрюмый Ширн с тревогой думал о сыне, который все еще был на фронте. Пришедшие толпой беженцы из Мюнхена прятали презрительные улыбки, вызванные неумелым пением на хорах, под застывшими масками благочестия.
Шли дни, правительственные сообщения лживо отрицали факт отступления немецких солдат на всех фронтах, пропаганда, обрушивавшаяся на людей из радиоприемников, была шита белыми нитками, дух на фронте падал все ниже, пока не зародилось подозрение о бессмысленности и возможной несправедливости войны. Что, если все было ошибкой? Что, если следовало меньше слушать фанатиков?
Когда стало известно, что передовая группа вражеских войск выдвинулась из Зеештадта в направлении деревни, Голубка достала из бельевого шкафа белую простыню, повязала ее на рукоять метлы и отправилась в сторону Зеефельда. Она несла перед собой в поднятых руках самодельный парламентерский флаг, беспрерывно читая «Отче наш», и сердце ее словно проваливалось куда-то. Теплый ветер с гор развевал над головой льняную простыню. В этот апрельский день он прогнал моросивший дождь – добрый знак, – а хлопанье трепетавшего флага зазвучало в такт трепетавшему сердцу. Голубка все шла и шла и подумала вдруг о святой Орлеанской деве. Может, она сама призвана к чему-то великому, может, ей предстоит подняться до вершин святости, стать святой в глазах жителей деревни или даже принести себя в жертву ради спасения страны? При мысли о предначертанной ей мученической смерти у Филомены выступили слезы и затуманили зрение, все расплылось, ей казалось, что она движется сквозь воду к неземной цели. С каждым шагом она продвигалась вперед – так купальщик, преодолев вплавь глубокое место, движется к берегу, уже не плывет, а идет с усилием, пружинисто, высоко подняв и слегка раскинув руки… шагай, шагай, Голубка… И вдруг она увидела зеленоватую замызганную униформу. На нее смотрели усталые глаза, а вокруг глаз сплошная чернота: черное-пречерное лицо! Такого она никогда не видела! Словно в мольбе, дрожа, подняла она перед ним рукоятку метлы с льняным полотнищем, как большой крест, и страх пронзил все ее тело, колени задрожали.
– What’s the matter? – Глубокий бас принадлежал существу с толстым, лоснящимся черным лицом, глаза взглянули еще более устало. И когда Голубка услышала этот голос, совсем близко, черное лицо словно почернело еще больше, и из этой черноты выплыла ночь, которая превратилась в черную глубокую дыру, и дыра грозила поглотить ее…
Теряя сознание, Голубка увидела, как из дыры на нее смотрит настоятельница монастыря в Пойнге: усталые глаза, толстое и лоснящееся лицо, чернота на нем, широкие пушистые усики прямо под носом, как полоска грязи над губой, и бас, такой густой, что все думали, что настоятельница мужчина.
Как только старшая дочь владельца усадьбы на озере узнала настоятельницу, страх покинул ее. Толстое лицо настоятельницы было добрым, как и лицо, которое она видела перед собой, только оно выглядело немного чужеродным. Настоятельница тоже любила, входя в класс, спрашивать: «What’s the matter?» И все мчались на места и доставали словарные тетрадки, настоятельница преподавала английский язык в монастырской школе. Вот о чем думала Голубка. Нет! Она видела это! Прямо перед глазами. К ней вернулась смелость, в памяти всплыли выученные и давно позабытые слова, и она услышала, как говорит на чужом языке; она заставила себя забыть, что смотрит в лицо опасности. Она говорила и говорила, будто именно для этой благой цели изучала английский язык тридцать пять лет назад. Слегка наклонившись в раболепной позе, она просила чернокожего сержанта вражеской армии пощадить маленькую деревню и ее жителей, местных и приезжих. Она может поклясться, что в деревне не прячутся представители старого режима, все уже сбежали, а священник из соседнего Кирхгруба, отвечающий и за духовные нужды жителей Зеедорфа, уже выразил готовность отслужить на спортивной площадке Зеефельда молебен о мире, как только люди пожелают. Она говорила, что слышала: по ту сторону Атлантики тоже веруют во Христа. Пришло время после всех невзгод вспомнить о том, что объединяет людей, и похоронить прошлое.
– That’s a good idea, – ответил сержант и распахнул рубашку на груди. Показался маленький серебристый крестик с серебристым, еще меньшего размера, Христом. Из-за алюминиевого крестика могучая грудь сержанта показалась Голубке еще чернее, чем лицо. На угольно-черном фоне крест блестел особенно ярко, и она задрожала от благоговения. «Так индейцы Южной Америки стояли перед испанцами, впервые ступившими на их землю», – подумала она.
Этот призрак лишь на короткое время определил образ мыслей Голубки, пока ею владел страх. Вскоре к ней вернулось врожденное неприятие иных культур. Но было и много тех, кто навсегда остался под воздействием первого впечатления, и оно определило всю их дальнейшую жизнь.
Когда молодой хозяин пришел в себя, оказалось, что он потерял память. Во всяком случае, он никогда не рассказывал о происходившем с ним в минувшие недели и месяцы. Он говорил, что они выпали из памяти и он не хочет отвечать на вопросы.
Некоторым эти слова казались двусмысленными, и они приходили к собственным умозаключениям. Однако большинство удовлетворялись ответом, многие, кто вернулся с войны, столь же решительно настаивали на потере памяти. Они перенесли такие лишения и пережили столько ужаса, что неудивительно (и даже естественно) забыть об этих вещах. Вскоре вернувшимся перестали задавать вопросы. Нужно восстанавливать хозяйство, а что там происходило, каждый при желании мог додумать сам. Достаточно было посмотреть в безжизненные лица вернувшихся и понаблюдать за их зачастую странным поведением в первые месяцы после возвращения, как все становилось понятно и желание спрашивать пропадало. Кто знает, может, было бы слишком тягостно услышать рассказы о происходившем на войне? Пропагандистские сообщения наверняка были далеки от истины. Там творилось такое, о чем лучше не знать, – так думали многие, расспросы вскоре прекратились. Лучше с надеждой смотреть в будущее.
Вот только лица вернувшихся с войны оставались неподвижны. В первые месяцы и годы казалось, будущее их не интересует. Некоторые стали сторониться людей. Другие, если и ходили в трактиры, сидели там только с себе подобными – тоже прошедшими войну. Обычно они склоняли друг к другу головы и разговаривали так тихо, что за соседними столами люди постарше их не слышали.
– У них, похоже, одно ранение на всех, просидели там в обозе, а теперь нос задирают, что на войне были, – сказал однажды кто-то за соседним столом.
– Не трогай их, – ответил другой, – а то еще подойдут. На что мне это? Я после первой войны точно так же сидел. Знаю, как это. Им стыдно, они проиграли. А тоска портит удовольствие от пива. Так что не лезь.
Всех устраивало, что бывшие солдаты сторонились общества, и их охотно оставляли одних.
Когда Панкрац очнулся, он был в коляске связного мотоциклиста и висел – именно так, сидячим его положение назвать было нельзя, – скрючившись и уткнувшись лицом в маленькое замызганное ветровое стекло. Его швыряло из стороны в сторону, то вперед, то назад, в зависимости от того, какое из трех колес попадало на камень или в яму, и тупая боль в левом бедре так мучила его, что он не замечал, как сильно лицо было разбито в кровь от ударов о стекло. Солдат, сидевший за рулем мотоцикла, протянул ему грязный носовой платок и прокричал сквозь шум мотора:
– Вытрись! Ты похож на Иисуса на Изенгеймском алтаре.
На рукаве у солдата была повязка санитара, и Панкрац только теперь заметил красный крест на коляске.
– Что случилось? – прокричал он санитару. – Куда мы едем?
– Куда? – заорал тот. – В лазарет! Или ты хочешь домой, к мамочке? Посмотри на свои ноги!
Панкрац посмотрел и впервые увидел собственную бедренную кость. От этого зрелища он снова потерял сознание и очнулся, к счастью, уже в лазарете в Кольмаре. Придя в себя, он ревел, как никогда в жизни, поскольку теперь знал, где у него болит, и боль была чудовищной. Ему быстро вогнали укол морфия над повязкой, и вскоре он опять затих.
Панкрац лежал, смотрел оцепенело на трещины в потолке и думал, что скоро тот обрушится, и вся штукатурка рухнет, и что нужно укрепить потолок, чтобы этого не произошло. Иначе пострадает не только он, но и по меньшей мере дюжина других раненых в зоне обрушения. На всякий случай Панкрац приподнялся, желая посмотреть, сколько их, и увидел, как сильно заблуждался. Вокруг лежала не дюжина раненых – их было не меньше пятидесяти, и это в палате, не рассчитанной и на дюжину человек. «Что творится?» – подумал он, чтобы не думать о своей судьбе, которая казалась ему недостижимой, нет, неизбежной, то есть невыносимой, невыразимой, опять не так – несказанной. Наконец он нашел слово: несказанная. Он пришел в раздражение от того, что понадобилось столько попыток, чтобы правильно закончить мысль. Откуда ему было знать, что виноват морфий. Раньше он с подобным не сталкивался. Он был из деревни.
Потом пришла медсестра, хорошенькая, чистенькая девушка, это он сразу заметил, но в крови с головы до ног. В ее облике и лице не осталось никакой заносчивости. Это он тоже сразу заметил, ему хорошо был знаком такой тип женщин. Он встречал их среди приезжавших на лето отпускников: светловолосые, с полными губами, с правильной, даже вычурной, речью. Они, как правило, без исключения – или как это говорится? – насквозь, нет, чушь, все как одна – да, теперь правильно – все как одна были высокомерны, много о себе воображали, почти у всех отцы были доктора, или тайные советники, или фабриканты, или адвокаты. Эти женщины, правда, кокетливо посматривали на него, порой даже с вожделением, но стоило ему подойти, давали ему от ворот поворот. Он таких хорошо знал. Наелся досыта. Да. Но эта выглядела нормальной и говорила просто. Она сказала:
– Я ассистентка старшего полкового врача. Должна сообщить вам, как мы поступим. Как видите, вы не единственный и не первый, кого сюда доставили. Придется потерпеть. По-другому не получается. Здесь есть люди с более тяжелыми ранениями, которыми мы должны заняться в первую очередь. Придется подождать два или три дня, пока мы сможем ампутировать вам ногу. Но до тех пор вам будут давать достаточно морфия, чтобы вы могли более-менее терпеть боль. Сейчас поспите, если получится.
Сказав это, она ушла.
Ампутировать!
Она сказала «ампутировать»?
Следующие дни он провел в глубокой депрессии, которую облегчал только морфий – если давали. Медсестра преувеличивала, говоря «достаточно»: давали дозу в день. И про «два или три дня» она тоже приукрасила, старший полковой врач пришел только через неделю. Он сказал:
– Завтра ваш черед, господин Бирнбергер. У вас станет на одну ногу меньше, зато вы почувствуете себя лучше, поверьте, боль исчезнет, необходимость в морфии отпадет. Вы ждете уже семь дней. Если заставить вас ждать еще, последствия будут негативными. Еще, чего доброго, морфинистом станете. Вы же этого не хотите? Хватит нам одного морфиниста в стране, правда?
За эти слова врач мог бы поплатиться головой, потому что намекал на рейхсмаршала Геринга. Но Панкрац об этом, конечно, понятия не имел, о том, что рейхсмаршал морфинист, в деревне точно никто не знал. Так что он не был испуган неуважением к авторитетам и не хлопнул себя по раздробленному бедру, выражая восторг от удачной шутки. Он просто ничего не понял.
О семи днях, проведенных в лазарете Кольмара перед запланированной ампутацией левой ноги, молодой хозяин впоследствии рассказывал, как и о том, какую боль испытывал и как долго тянулись эти семь дней, будто проходила вечность в ожидании вечернего укола. Но как раз это и спасло Панкрацу ногу: время, когда он мог размышлять, и недостаток морфия, благодаря чему мысли не затуманивались, оставаясь ясными. За семь дней глубокой подавленности и казавшейся невыносимой боли ему стало ясно, что он хочет жить, причем так, как раньше: с двумя ногами. Он твердо решил отказаться от ампутации.
Так он и сказал старшему полковому врачу.
– Ваша ассистентка говорила, что у меня нет костоеды, или как там это называется, только воспаление тканей, и что ногу можно вылечить. Я не представляю себе жизнь с одной ногой, поэтому готов пойти на риск и умереть, если ногу не удастся спасти. Я прошу вас не проводить операцию, а только оказывать необходимую медицинскую помощь, чтобы у меня оставался шанс.
Вот как он сказал. Представить только: так грамотно! Конечно, он никогда не смог бы так говорить, если бы не вырос в усадьбе на озере, среди всех этих образованных отпускников, у которых учился каждое лето, год за годом.
Старший полковой врач какое-то время смотрел на него, сначала удивленно, и жесткая морщина залегла на лбу. Он не привык к такому уверенному поведению, это было не принято. Солдаты выполняли приказы старших по званию, а он старший по званию. Попытки настаивать на своем рассматривались в армии как действия, направленные на подрыв оборонной мощи. Но война подходит к концу, это понятно, достаточно поглядеть вокруг: сколько отслужившего мяса лежит в лазарете! Нужно только сравнить и соотнести силы вермахта с лазаретами в стране и еще занятых областях, чтобы получить представление. О подрыве оборонной мощи больше и речи не идет, уж тем более когда солдат просто хочет спасти ногу, даже если главный полковой врач намерен ее отрезать. Оборонная мощь страны с самого начала разлагалась, поскольку никогда не была оборонной мощью, а всегда представляла собой мощь наступательную, что уж говорить об отказе повиноваться. Так думал старший полковой врач. В конце концов он сам позволил себе увлечься подрывающим военную мощь aperçu[1] – он, старший полковой врач собственной персоной.
«Aperçu, – подумал он, а потом еще погонял во рту это слово. – Aperçu! Будем его использовать – в конце концов, здесь скоро будет Франция».
А еще старший полковой врач! Ха-ха! «Тоже разложился, разложился до мозга костей».
– Хорошо, пусть так и будет, – сказал он Панкрацу. – Вам нужно только подписать бумаги, чтобы ответственность за исход не лежала на мне, если вы все же отойдете в мир иной. Всего хорошего.
Он протянул Панкрацу руку и исчез, остались лишь стоны лежавших вокруг кусков мяса.
Панкрац, оказавшись один, понял, что сбит с толку. Он ожидал возражений. Надеялся на непреклонность врача, который разъяснит, что без операции Панкрац непременно умрет. Он, конечно, не хочет умирать и сказал это просто так, поскольку хочет спасти ногу и слышал, будто в лазаретах всегда сразу прибегают к ампутации, даже если в этом нет необходимости. Отрезать ногу проще и быстрее, чем вылечить. Он часто слышал это от других солдат, которые попадали в лазарет с менее серьезными ранениями и после выздоровления возвращались на фронт. Теперь он в ответе за то, будет ли жить или умрет. Панкрац надеялся, что ему прикажут согласиться на ампутацию, тогда в будущем он мог бы оправдаться перед собой и другими. Он сказал бы, что боролся за ногу, но вынужден был подчиниться приказу. И он бы обязательно остался жив. А сейчас он перед лицом смерти и сам в этом виноват.
Так растерян и потрясен он был только раз в жизни: когда отец понял, что старший сын не может стать наследником, и решил передать усадьбу младшему. Он привел Панкраца в комнату с фортепиано, которая одновременно служила конторой, запер за сыном дверь и сказал:
– Тебе придется продолжать дело. Твой брат душевнобольной, на него нельзя рассчитывать. Но сразу говорю: или ты занимаешься только усадьбой, или не занимаешься этим вообще. Придется бросить пение. Иначе ты не получишь никакого наследства, даже наличных денег. Даю тебе неделю на размышления. Иди.
И отпер дверь.
Всю неделю Панкрац боролся с собой. Он хотел непременно стать певцом, но боялся остаться без денег. Он не имел ни малейшего представления, как добывать средства к существованию, если придется покинуть дом. Панкрац не умел ничего, только работать по хозяйству. Он чувствовал чрезмерное напряжение, поэтому через неделю отказался от профессиональных стремлений и сказал отцу, что согласен наследовать усадьбу, – из страха перед будущим.
Хорошо. Тогда шла речь о мечте всей жизни, а сейчас – о самой жизни. Панкрац сидит на постели и ощущает страх, страх смерти. Он ничего не может поделать и вынужден сидеть и ждать: то ли начнется гангрена и он умрет, то ли нет. Когда они попадали под обстрел, тоже было страшно, но не так сильно, надо было сражаться и выполнять приказы. Все страхи, и страх смерти тоже, перекладывались на унтер-офицера и командира роты – в форме доверия. Чем мощнее были атаки и ужаснее страх, тем глубже доверие. Иногда они вверяли себя ему, как дети вверяют себя одеялу, укрываясь с головой, стоит услышать шорох в темной комнате. Но сейчас он совсем один.
Всякий раз, когда кто-нибудь из медсестер оказывается поблизости, Панкрац поднимает руку, пытаясь привлечь внимание. Никто не замечает его, и он начинает кричать, кричит снова и снова. Один из соседей по палате орет, чтобы он дал поспать, этим бабам от него все равно ничего не надо, они зарятся только на офицеров, у тех части тела на месте, причем все. Самому соседу разворотило низ живота со всеми причиндалами. Наконец проходящая мимо медсестра спрашивает Панкраца, чего он хочет.
– Я должен сказать госпоже ассистентке старшего полкового врача кое-что очень важное, речь о жизни и смерти. Не могли бы вы позвать ее? Пожалуйста!
Сестра что-то бормочет и уходит. Через какое-то время и в самом деле приходит ассистентка. Она стала для Панкраца доверенным лицом, теперь она его унтер-офицер.
– Я, возможно, все же соглашусь на операцию, я пока не знаю, но может быть. Как вы считаете?
Ассистентка приветлива, но смотрит все-таки немного раздраженно, может, ему не стоило отвлекать ее – у нее и в самом деле ужасно много работы. Почему она должна еще думать о его ступне, точнее, ноге? Правильно говорить «нога». У них в деревне ступней называют всю ногу, а не только ступню, но верхняя часть называется «нога». Этому его тоже научили постояльцы. С чего бы ассистентке заниматься его ногой? К глазам подступают слезы, черт возьми, ему так жалко себя! Он изо всех сил старается не заплакать.
– Извините, я не хотел вас отвлекать, просто я не уверен.
Ассистентка садится на корточки у кровати и осматривает его – бегло, но со знанием дела, как ему кажется, даже деловито. Он снова чувствует замешательство, но это уже неважно, ассистентка говорит:
– Меня очень удивило, как вы вчера беседовали с врачом и сопротивлялись ампутации. И на врача вы произвели впечатление. Он не пошел бы вам навстречу, не будь шанса сохранить ногу. (Ассистентка говорит «сохранить», а не «оставить». Она думает об общем, не о частном. Она думает не о нем, Панкраце, как ему бы хотелось, а так, как должна думать. Что ж, почему нет.) Не сдавайтесь. У вас осколок гранаты над раной в мышечной ткани. Если не будет воспаления, можно будет сохранить ногу – вместе с осколком. Если начнется заражение, придется удалить осколок, а сделать это можно, только ампутировав ногу. Подождем, посмотрим.
Пребывая в отчаянии и стыдясь того, что жалеет себя, он не смотрит на ассистентку, опустил голову и сквозь пелену слез глядит в пустоту. От этого он лучше слышит и понимает ее слова, от которых становится легче, вдыхает запах ее плоти, как запах вина в бокале, и пьет ее слова, как вино, еще сильнее ощущает запах ее плоти и, когда она встает, видит, куда он смотрел и что так поглощало его все время: глубокая бороздка по центру декольте. Еще мгновение – и он не устоял бы перед желанием зарыться туда лицом. Когда она уходит, его пронзает боль от потери интимной близости, словно ему оторвали ступню, то есть ногу.
На его кровати сидела тоска по любви, недостижимой, как равенство.
Ему сохранили ногу. Спустя три недели лазарет в Кольмаре эвакуировали, и Панкраца перевели в переоборудованный под госпиталь отель первого класса у подножия гор. Там он провел еще четыре недели.
Повезло тебе, солдат. Ты даже не попал в плен. Только осколок в бедре первые годы беспокоил при перемене погоды. Но разве это важно, если вступил в новую жизнь, в демократию, обеими ногами.
В семье Лота из Айхенкама судьба компенсировала горе, причиненное смертью матери, счастьем. Лот и его жена произвели на свет семь детей и только одного сына. Когда была запущена огромная, уничтожающая все на своем пути военная машина, единственный сын вынужден был, как и все, отправиться на фронт, чтобы не дать ей остановиться. Когда бои завершились, он вернулся невредимым. А так как остальные дети были дочерями, Лот никого не потерял.
Можно сказать, двенадцать лет, которые изменили мир, в усадьбе Лота прошли незаметно – не произошло ничего, что повлияло бы на взгляды ее обитателей или хотя бы заставило их задуматься. Хотя нет, одна мелочь в самом конце войны все же случилась.
Еще до того, как трудовые лагеря и лагеря смерти были освобождены союзными войсками, а элита бенефициаров от промышленности и экономики наряду с низшими чинами и политическими приспешниками второго плана наладили тесные связи с будущими победителями с целью без потерь сохранить свое положение, местная команда убийц попыталась в последний раз извлечь выгоду из немногих оставшихся в живых измученных узников. Этих людей, мало чем отличавшихся от покойников, погнали в марши смерти из концлагерей в горы для возведения крепости, где элитарное ядро нацистских преступников рассчитывало укрыться от наступающих освободителей.
В окрестностях к югу от Мюнхена добропорядочные и честные местные жители проснулись от шарканья и стука. Открыв окна, они увидели истощенные фигуры в полосатых мешковинах и деревянных башмаках, бредущие через их деревни и городки. Потрясенно взирая на несчастных, о которых, как жители себя убедили, они ничего не знали или не подозревали, одни понимали, что не в силах оторвать взгляд, и ловили себя на том, что протягивают идущим хлеб или кружку молока. Другие понимали, что не в силах видеть это, и закрывали окна, ничем не помогая и даже не задумываясь об ужасе собственного невольного участия в уникальном и потому все же в некотором роде знаменательном преступлении.
Так в эти дни впервые за двенадцать лет начал вбиваться клин в тесно сплоченный народ: клин сомнения. Однако, поскольку двенадцать лет этого чувства не допускалось, уже вскоре после его пробуждения засомневались в самом сомнении: так ли уж всё, абсолютно всё, было неправильным и недостоверным. И до сих пор это сомнение раз за разом возрождается к жизни. Всякий раз оно выглядит немного иначе, но суть всегда одна: не все было ошибкой; где-то было ненамного лучше; тут сомневаться не приходится.
Среди немногих заключенных, которым удалось бежать из маршей смерти, были два поляка. В усадьбу Лота их привел поиск еды и убежища. Крестьянин и три младшие дочери – остальные уже вышли замуж, а сын пока не вернулся из плена – сидели с работником-поляком за ужином в просторной кухне с низким потолком, когда в окошке на фоне черной ночи (стояла середина февраля, и темнело рано) появилось лицо, больше похожее на череп. Тереза, которой недавно исполнилось тридцать четыре, первой увидела обезображенное лицо и, выведенная из задумчивости, подняла крик. Когда второй череп появился рядом с первым, она резко смолкла и начала хватать ртом воздух. Лот вскочил и сделал знак работнику, чтобы тот шел за ним. Перед кухонной дверью, ведущей на улицу, послышались громкие голоса. В кухне сестры, тоже крайне испуганные, пытались успокоить Терезу, борющуюся за воздух, жизнь и желание безмятежно существовать в этом мире.
Вскоре Лот вернулся и поручил дочерям завернуть остатки ужина в чистое, без единого пятнышка, полотенце, предназначенное для гостей, и налить в кружку свежего, только что надоенного молока. Сохранявшие пока самообладание сестры сделали, как им велели.
Cнаружи донеслись звуки ожесточенной перепалки на незнакомом языке и крики боли, дверь распахнулась, и в кухню влетел работник с окровавленным лицом. Он орал:
– Они хотеть меня убить! Они думают, я предатель!
Когда Лот с завернутыми в полотенце остатками еды и кружкой молока открыл дверь, чтобы выйти, один заключенный ввалился в кухню и стал осматриваться.
Замерев как вкопанный, он уставился на женщин. Скелет – оборванная одежда, покрытая грязью, обритая голова – вытаращился пустыми глазницами, как на неземное видение, на трех дочерей Лота, находящихся в самом расцвете женской поры, дышащих невинностью.
Он громко позвал товарища.
Вместо ответа послышалось истерическое кудахтанье вспугнутых птиц в курятнике рядом с амбаром недалеко от кухонной двери. Тереза вскочила и помчалась к двери в коровник. Скелет попытался последовать за ней, и Лот набросился на него, повалив на пол. Кружка разбилась, молоко вылилось и медленно потекло, заполняя щели между плитками кухонного пола. Кошмарное создание вырвалось из рук Лота, поползло на четвереньках к остаткам молока, грозившим вот-вот просочиться в пористый известняк, и с безудержной жадностью принялось, как кошка, слизывать с пола белую жидкость, пока не осталось ни капли. Лот, приготовившийся было снова броситься на незнакомца, замер и созерцал эту картину, не чувствуя ни радости, ни удовлетворения. В нем боролись бесстыдное любопытство и стыдливое желание отвернуться, он не узнавал себя. С трудом Лот взял себя в руки. Его душил смех, мальчишеский и гнусный, рвался наружу, Лот понимал, что это глупо, но ничего не мог с собой поделать. «Так не бывает, не может быть! Что он, во имя всего святого, делает?» – спрашивал он снова и снова, смеясь и хихикая. Он слышал незнакомый, неприятный голос, понимал, что это его голос, который он не узнаёт и не любит, но не знал, как от него избавиться.
Работник сидел на корточках в углу под иконами, словно там он в безопасности, и слизывал кровь с губ. Обе сестры смотрели на него с испугом и отвращением.
Второй несчастный, тоже доведенный палачами концлагеря до состояния мертвеца, увидел, выходя из курятника с куриной тушкой в руках, исчезающее за дверью амбара платье. Он пошел следом, но в непроницаемой тьме сеновала раз за разом натыкался головой на всякий хлам и перекрытия. Он быстро забыл белую плоть женщины, вспомнив о мертвой плоти в руках, о другом голоде, который страшнее, и побрел наружу, где темнота была не такой темной, а потом на яркий свет кухни, где товарищ по несчастью все еще лизал пол, словно животное. Вскоре они, безвольные и смертельно ослабевшие, способные напугать только своим видом и поленьями, взятыми в дровяном сарае у дома, уже ждали, пока дочери Лота приготовят им добычу из курятника – первую праздничную трапезу после ада. В качестве аперитива они выпили кувшин молока, заедая караваем хлеба – подарком от повара. Они по очереди выходили за дверь, их рвало. Лот бдительно сидел за кухонным столом, напряженный и спокойный одновременно: пока эти воскресшие мертвецы пожирают пищу, они не причинят вреда его убежавшей дочери. Он надеялся, что их только двое, и готов был сражаться насмерть, если ситуация изменится.
«Где они были и что с ними случилось?» – спрашивал он себя. Ответ подсказала полосатая одежда людей, потерявших человеческий облик. Лот слышал о концлагерях: там, может, и содержится несколько евреев, но в основном преступники, всякий сброд. И военнопленные. Лот не знал, что его поляку под страхом возвращения в лагерь смерти было запрещено рассказывать о тех ужасах, и вот он столкнулся с ними в собственной кухне. Что мог натворить человек, которого наказали, нанеся такие увечья? Политикой Лот не интересовался. Ни к чему это, таков был его девиз. После смерти жены он понял, что самые тяжелые удары судьбы носят личный характер. Лошадь мало волнует, кто управляет повозкой, а в лошадях он разбирался. За прикрывающими глаза шорами им все кажется одинаковым. Бывает, что поводья натягивают сильнее. То же и с государством. Все равно ничего не поделаешь. Разве что в мелочах: управляющего муниципалитетом можно и выбрать.
За этими мыслями он на миг забыл о дочери, которая укрылась в глубокой темноте, настолько глубокой, что такой черноты она, как позже будет рассказывать, еще никогда не видела. В глубине амбара, в дальнем конце, за досками, прикрытыми сложенным под потолок сеном, она провела уже больше часа – точно не знала, но думала, что прошли часы, – и не слышала ничего, кроме ударов сердца. Она прижимала руку к груди, стремясь приглушить глухой стук. Ей показалось, что мечущиеся мысли тоже могут услышать, другой рукой она ощупала голову. Она не знала, что происходит в доме, жив ли еще кто-то. В воображении она уже так погрузилась в катастрофу, что не могла выбраться. Дыхание грозило снова остановиться, Тереза понимала, что задохнется в этой тесноте. От страха смерти ее вырвало. Она жадно задышала, и это спасло от удушья и сохранило жизнь. Опустившись на колени в зловонную лужу рвоты, исполненная стыда и отвращения, Тереза как никогда сильно почувствовала, насколько унизительно ее несовершенство.
Что с ней будет, если все погибли, что толку тогда существовать? Какое право она имеет жить дальше одна, может ли быть вина больше, чем ее? Жить она будет через силу. Жить насильно! Ничего легкого судьба ей больше не преподнесет.
Последним, что она видела, прежде чем погрузиться в темноту, было то, как отец бросился на ворвавшееся в дом кошмарное создание, стремясь спасти ей жизнь. Спас ли он свою? Убегая в амбар, она видела другое кошмарное человекоподобное животное, еще крупнее первого. Что отец с сестрами могут сделать против этих чудовищ? Поляк не в счет. В его глазах она увидела равнодушие, угасшее желание жить; вот бы ощутить то же самое. Никакой надежды. Равнодушие спасло бы ее.
Но Тереза чувствует только безысходность и вину. Она не знает, что охотник давно потерял след и его тело истерзано палачами, поэтому им управляет не инстинкт продолжения рода, а инстинкт самосохранения. Терезе кажется, что он все еще где-то поблизости, она боится даже вздохнуть. Страх поселился в ней, засасывает и гложет в глубокой тишине. Часы. Дни. Она кажется себе чужой, отвратительной. Жажды и голода не чувствует. Только саму себя, но так, будто это не она. Собственный, но незнакомый запах все невыносимее, она уже ненавидит его. Ненависть мучает Терезу, и она прибегает к прощению, чтобы выдержать ее, но запах не уходит. Она хочет умереть, но все остается по-прежнему.
Она думает о матери, умершей от столбняка, и о том, как отец упрекал себя, что поверил врачу и женщине, обмывавшей покойников, и позволил похоронить мать. Он знал, что некоторые умершие от столбняка в гробу оживали, потому что только казались мертвыми. Что, если она не умерла? Этот вопрос терзал его несколько недель. Тереза чувствует то же, что, наверное, испытывала мать, если и правда оказалась живой в могиле. Она ощущает связь с умершей матерью и чувствует себя почти в безопасности. Почти.
…у горизонта движется через поля толпа людей. Впереди, будто облако, низко над землей, парит мать в гордой позе, приковывающей взгляды. Полные груди стянуты корсетом, она одета согласно старым традициям, от которых уже отдаляется: тяжелая пестрая юбка из бархата растворяется в дыму и исчезает, покрытая черной копотью, во Вселенной. Чем выше мать поднимается, тем бесформеннее ее одежда и корсет, они тают в грозовой черноте. Тереза стыдится обнаженности матери и наслаждается легкостью и светом. Она слышит, как мать тихо манит ее разными голосами, они становятся громче, приближаются, а сама она призрачно обнажается в пустоте, небе, сфере, отблесках. Голос уже совсем близко, в ушах, он превращается в голос отца… отец светит в укрытие фонарем, мягко трясет Терезу за плечо и говорит: «Просыпайся!»
Пережитое и сон останутся с ней незаметно для нее самой. Она будет противостоять традициям. В провале страха, в вакууме истории, откуда она вырвалась, но не убежала, фольклор становится неактуальным.
Узники концлагеря исчезли раньше, чем курица сварилась. Изголодавшись, они перенасытили желудки молоком и хлебом до рвоты, больное нутро причиняло ужасные муки. Страх перед собаками ищеек гнал их дальше. В красном углу под иконами все еще сидел, скрючившись, их соотечественник, как жалкий кусок мяса. Старый Лот и дочери опустились рядом на колени и прочли «Отче наш».
В дом Шварца, который хозяин усадьбы на озере приобрел в начале двадцатых, чтобы продемонстрировать потоку рвущихся в деревню отпускников расширение гостиницы и увеличение числа комнат, в дом, где половину нижнего этажа с начала Первой мировой занимала вышедшая на пенсию певица Краусс и где одну комнату она приспособила для занятий пением с учениками, – в этот дом в конце лета 1945 года, когда с востока снова хлынул поток беженцев, хотя уже казалось, что он пошел на убыль, в одну из трех бывших комнат Краусс, умершей незадолго до Второй мировой от эмболии легочной артерии, вселилась фройляйн Гермина фон Цвиттау, аристократка из Восточной Пруссии. Она заняла самую маленькую из трех комнат, ту, что Краусс приспособила под свой обширный гардероб. Уже немолодой фройляйн фон Цвиттау пришлось довольствоваться этой комнатой, две другие, более просторные, были заняты жильцами, тоже немолодыми, – художником Альфом Брустманном и виолончелистом Лео Пробстом. Они вовремя покинули разбомбленный Мюнхен и опередили беженцев с востока, тронувшихся с места в поисках пристанища. Эти трое на ближайшие семь–десять лет сформировали прочное культурное ядро в доме по соседству с усадьбой.
Вторая половина дома приютила большую семью Мерца, торговца недвижимостью. Здесь искусство понималось скорее как необходимость после разрушительной войны как можно быстрее пробудить потребности потребителя, тогда как обитатели северной части дома Шварца считались приверженцами, пусть и несовременного, зато традиционного, а значит, проверенного временем взгляда на искусство. Верхний этаж дома владелицы, две незамужние дочери покойного хозяина, сохранили как личное жилье на случай, если одной или даже обеим еще улыбнется счастье и в связи с изменившимся семейным положением потребуется соответствующая жилплощадь. Сестры по-прежнему жили в усадьбе, где появились на свет пятьдесят лет назад, и рассматривали ее как принадлежавшее им по праву рождения основное жилище, не допуская никаких сомнений – даже когда усадьба перешла по наследству молодому хозяину и ему потребовалось место для новой семьи.
С подобным бастионом давно обосновавшихся в доме превосходящих женских сил в те годы приходилось уживаться многим владельцам усадеб, и семейным людям, как мужчинам, так и женщинам, в вызванных войной, но только после нее открывшихся обстоятельствах, скоро начинало не хватать воздуха в собственном доме; они чувствовали, что снова живут, как на войне, и окружены агрессивными вражескими силами. Случалось, молодой крестьянин, спустя годы вернувшийся домой из русского плена, с оттенком раздражения рассказывал за обедом в кругу молодой семьи и сидящих за тем же столом незамужних сестер о преимуществах, пусть и редких, спокойных минут, подаренных русскими во время жестокой схватки за жизнь в сталинградском котле.
В распоряжении молодого хозяина была рабочая сила в лице жены, Терезы из Айхенкама, на которой он женился после выписки из лазарета и полного выздоровления осенью 1945 года, и сестер. В качестве вознаграждения они бесплатно ели и жили в доме, вот и все. Так было принято. Нужные им наличные деньги (скудные) они зарабатывали, сдавая в аренду дом.
Господа Пробст и Брустманн и фройляйн фон Цвиттау, как и семейство Мерц, стали частью этой жизни и хорошо ладили, когда летом 1946 года к ним с некоторым опозданием примкнул Виктор.
Благополучно дезертировав из армии осенью в последний год войны, он нашел приют у садовника Егера. Виктор, правда, не имел ни малейшего представления о садоводстве, но этого и не требовалось. Требовалась физическая сила. Поскольку среди местного населения таковой осталось немного, Егер, как и другие встающие на ноги хозяева, обзавелся самыми молодыми работниками-мужчинами, каких удалось найти. Это были преимущественно беженцы в возрасте от тридцати до пятидесяти лет, происходившие из утраченных восточных областей исхудавшего рейха. В 1944 году правительство постановило расквартировывать пострадавших от бомбежек, а оккупационные власти постановили расквартировывать беженцев. Из их числа крестьяне и владельцы небольших хозяйств первое время набирали рабочую силу.
В усадьбе на озере в двух гостевых комнатах на верхнем этаже дома поместили семью беженцев из пяти человек: бабушку и дедушку с внуками шести и двенадцати лет, а также парализованного отца детей в инвалидной коляске. Все это не позволяло использовать их как рабочую силу, молодой хозяин сразу это понял. В доме живут те, кого можно назвать обузой, не приносящей прибыли, не говоря уже о потере двух комнат, которые теперь нельзя было сдавать. Старики получали пенсию как фронтовики и по старости, а их поблекший зять в коляске – по инвалидности. Им не нужно было трудиться, чтобы заработать. Разве что мальчишки могли время от времени пасти скот за несколько марок карманных денег. А плата за аренду от властей была гораздо ниже обещанной.
Пользы от беженцев в усадьбе почти не было. Пользы не приносили и жильцы второго этажа. Если уж откровенно, там поселился пятиголовый повод для постоянного недовольства, и по обеим сторонам линии фронта это понимали.
И какой повод! Дня не проходило без перебранок, и в игре под названием «Как превратить жизнь другого в ад» дед из семьи беженцев был гораздо искуснее молодого хозяина. Старик состоял в созданном недавно «Союзе инвалидов войны», а они даже после двух проигранных, а значит напрасных, завоевательных войн занимали прочную позицию в обществе и, соответственно, в балансе интересов крепнущего нового государства. Старый Шнайдер отвергал все попытки хозяина покончить с бессмысленным совместным проживанием, переселив семью беженцев туда, где им проще будет ужиться и освоиться. И вовсе не потому, что ему нравилось в усадьбе или ему подходил озерный климат, наоборот! Лишь из-за сладкого чувства, которое охватывало его всякий раз, когда из спора о квадратных метрах жилплощади он выходил победителем. Положение Панкраца с его ранимой душой несостоявшегося музыканта было заведомо проигрышным, он даже не успевал сделать ответный ход.
Часто можно было видеть, как после очередной пошлой и унизительной ссоры со Шнайдером, за которой наблюдали все обитатели дома, а порой и зубоскалящие соседи с красными от злорадства лицами, он униженно, как побитая собака, пробирался в конюшню, запрягал в одноколку любимого мерина-тяжеловоза Бройндля и уезжал в сторону озера, стремясь вдали от людей, под могучими деревьями смешанного леса на Штаренбахе, восстановить душевное равновесие и почувствовать свою значимость. Ему это было необходимо, чтобы примириться хотя бы с самим собой.
– Куда мне с ним тягаться, – говорил он после ужина, который съедал в молчании, не проронив ни слова за целый день. – Куда мне с ним тягаться!
Эти слова довольно точно отражали его позицию почти во всех спорах.
Как-то в жаркое июльское воскресенье хозяин усадьбы поставил на почти пустой стол, за которым на тенистой и прохладной веранде сидел Виктор, полкружки пива и сказал:
– За мой счет, господин Хануш.
Виктор по поручению садовника Егера привез дополнительный ящик красной капусты, припасенная на выходные закончилась уже во время обеда из-за неожиданно высокого спроса на жареную свинину – виноват был нагло совравший прогноз погоды по радио, который обещал дождливое воскресенье, а день выдался замечательно солнечным и принес толпы посетителей. Хозяин собственноручно наполнил кружку Виктора и поставил на стол. Потом уселся напротив.
– Нравится вам работать у Егера? – начал он разговор.
Спокойная манера держаться и обходительность Виктора в сочетании с интеллигентностью – во всяком случае, в деревенском понимании – нравились Панкрацу, и он был не прочь переманить его в усадьбу и поручить работу, для которой другие не годились, поскольку если и брались за нее, то не всегда могли делать с умом.
– Как сказать, – поколебавшись, ответил Виктор, – я уже не знаю, важно ли, чтобы работа нравилась. Главное, она есть. Жить же как-то надо.
– Тут вы правы, – согласился хозяин, – совершенно правы. Но если уж повезло получить работу, то гораздо спокойнее, если она нравится. Или вы так не считаете?
Спокойнее?
Виктор приехал в Зеедорф меньше года назад и еще не научился понимать местных. Когда он только завязывал первые знакомства, точнее, когда оккупационное правительство поспособствовало налаживанию связей, ему сразу стало ясно, что не всё здесь устроено так, как на родине. Поскольку он догадывался, что уедет отсюда нескоро и на родину не вернется, каждый ответ нужно тщательно обдумывать. Это он понимал. Кто знает, что у спрашивающего на уме.
«Спокойно! Хм?» – Местный образ мыслей был ему еще чужд, он прикидывал, что происходит, но не мог пока оценить, поэтому отвечал осторожно.
– Работа есть работа, и нечего перебирать. Главное, что она есть.
– Но ведь не всегда получаешь то, что хочешь, – возразил Панкрац и заранее восхитился хитрой задумке, пришедшей в голову. – Разве, например, все равно: сажать и убирать картошку или использовать ее по назначению, готовя из нее обед?
– Ну…
– Я вам так скажу, – перебил Панкрац, которого уже было не остановить. – Мне больше нравится работать в поле, чем в кухне. Но я тоже не всегда могу выбирать. Я крестьянин и хозяин гостиницы с трактиром. Должен уметь и то, и другое, и должен хоть немного хотеть этим заниматься. Меня не спрашивают, хочу ли чего-то: я обязан хотеть. А так как я обязан этого хотеть, то должен и уметь. Точка. Собственность обязывает. Такая уж моя судьба. Моя судьба – собственность. Я вынужден отвечать за свою собственность, я на службе у нее, моего желания не спрашивают, хотите верьте, хотите нет. Если думаешь, что можно, ни с кем не считаясь, наплевать на эту ответственность, потому что нет сил и желания, значит, ты проиграл. По себе знаю. Мне следует быть жестче, собственность – это привилегия, а привилегия лишь тогда представляет собой таковую, если выжимаешь из нее все соки, как из раба, и холишь и лелеешь, как невесту. Иначе привилегия становится камнем на шее. Чтобы пользоваться привилегией, нужен талант, а он есть не у каждого. Вот в чем загвоздка. Это еще и игольное ушко, через которое нужно постоянно протискиваться, чтобы, оставаясь собственником, попасть в Царствие Небесное. Собственнику не грозит потерять все. Это грозит его наследникам, у которых из-за всевозможных ограничений и предписаний унаследованное состояние утечет сквозь пальцы, понимаете? Как устроить, чтобы после смерти собственника все перешло к наследникам, которых он избрал, а не к государству? Богатый, конечно, не попадет в Царствие Небесное. Иначе и веры бы уже не было. Но кого можно считать богатым? Точно не меня. Я, в лучшем случае, обеспечен, средний класс. Но наследство, собственность нужно постараться целиком протянуть сквозь игольное ушко, передать в руки следующего поколения. А игольное ушко, господин Хануш, – это завистники. Те, кто усложняет жизнь, пытаясь отнять собственность, полностью или частично, хоть ты и позволяешь им чуть ли не даром жить в доме, как я этим беженцам наверху. Понимаете? Нужно замаскировать свое состояние под верблюда, чтобы провести его мимо завистников и гнуснейшего разбойника – государства. Возможно, притча об этом и говорит. Но так как вы не обременены собственностью, вы можете выбирать, будет ли вам работа по душе, или же вы будете работать через силу. А работать под крышей, не завися от погоды, удобнее, чем под открытым небом, где постоянно то дождь, то холод, то жара. Вот что я хотел сказать.
Виктор молча сидел перед хозяином, который пытался добиться понимания и активно жестикулировал для большей выразительности. Лицо Виктора пылало. Постепенно он успокоился, краска сошла с лица, он будто еще раз услышал сказанные слова. «Откуда это взялось? – подумал он. – О чем я говорил? Такого со мной еще не было!» Он вспомнил лазарет и то, как боролся за ногу. «Нет. Всё же один раз было». Тишина давала ему силы.
Виктору было чертовски неуютно, когда на него выплескивали эмоции. Он ерзал на стуле и исподлобья посматривал по сторонам.
– Не хочу судить, – наконец осторожно произнес он, – когда речь о религии – а вы говорите о религии, если я правильно понял, – каждый спасает душу по-своему. Так меня учила мать. В собственности я ничего не понимаю, тут вы правы. Я работал в банке перед тем, как меня призвали на фронт. Через меня проходило много денег, которые мне не принадлежали. Чтобы в голову не лезли дурные мысли, лучше вообще не думать. Считаешь, бывало, деньги, пропасть денег за день, автоматически, ничего не чувствуешь. А о равенстве и справедливости лучше вообще забыть. Иначе тронешься. И кто сказал, что собственник не попадет в Царствие Небесное? Он попадет туда таким же голым, как и нищий. Ему придется начинать сначала, а нищему нет. Вот, думаю, и вся разница, когда протянешь ноги.
Виктор умолк. Допил пиво и собрался уходить.
Панкрац левой рукой взял у Виктора пустую кружку, а правой усадил его на деревянную скамью.
– Выпейте еще, господин Хануш, – предложил он, – чтобы не захромать.
Панкрац отправился за стойку к бочке и наполнил кружку.
– Я немного разволновался, – сказал он, – не берите в голову. Всего лишь хотел предложить вам работу. Может, вы предпочтете работать в тепле, на кухне, и готовить картофель, а не выращивать его на улице в любую погоду. Мне нужен умный и отзывчивый человек.
И он поставил на стол вторую кружку пива.
Наконец-то Виктор понял, откуда дует тепленький ветер. Вот оно что! Как же он сразу не догадался!
– Я не из тех, кто бросает место, которое получил всего пару дней назад, – сказал он, сделав большой глоток, – но как раз сегодня хозяин сильно оскорбил меня, и я задумался, стоит ли это терпеть.
– Вот как? Что же произошло?
– Ну, когда он, в смысле Егер, сегодня утром – в свободный день! – выдернул меня из комнатушки, поручив принести с грядки красную капусту, которую вы заказали, я еще не совсем проснулся, споткнулся о лопату, забытую кем-то в огороде, и наступил на грядку с петрушкой. Сломал два кустика, не больше. И тут он стал орать и ругаться, обозвал меня придурковатым беженцем и славянским чурбаном, по сравнению с которым даже еврей сверхчеловек, да еще швырнул мне в спину деревянный ящик для капусты. Про евреев пусть говорит что хочет, но меня не трогает. И какой я славянин? Пусть этот сукин сын не сидит дома, а съездит куда-нибудь – может, узнает, кто славянин, а кто нет.
Теперь уже Панкрац молча сидел перед жестикулировавшим, побагровевшим от злости Виктором.
– Не знаю, что делать, – продолжал тот. – Без работы я не смогу содержать жену и дочь. Но смогу ли вернуться к Егеру? Тоже не знаю.
Он одним глотком выпил полкружки темного пива.
– Понимаете, – снова заговорил Виктор, все больше волнуясь, – последние годы были непростыми, я пережил такое, что этой дубине и не снилось…
– Рассказывайте, рассказывайте, – бесцеремонно перебил его Панкрац, вставая, – я принесу еще пива, – и взял кружки тремя пальцами. – Мне из-за стойки слышно. – Он уже в третий раз ушел за стойку с пустой посудой. – Рассказывайте! Я внимательно слушаю.
– Да что говорить, – ответил Виктор слегка неуверенно, отчего его волнение стало уже не таким бурным. – В феврале сорок пятого пришли русские. Мы жили в домишке на окраине Каттовица. Дочери в январе как раз исполнилось семнадцать. Мы были небогаты, но денег хватало, не нуждались. И тут пришли русские. Мы долго не раздумывали, остаться или податься на запад. Дочери было семнадцать! Вот и весь ответ. Мы представляли, что с ней могут сделать русские, слухов ходило предостаточно. Мы собрали, что могли унести, и вместе с другими отправились на запад. Меня призвали осенью сорокового, мне было почти тридцать девять. Мне повезло: будучи банковским служащим, первые годы я сидел в канцелярии и только под конец пришлось защищать Бреслау. В начале февраля сорок пятого я смылся. Уже была возможность. Все они, и нацисты тоже, так наложили в штаны, испугавшись русских, что никто не следил, организованно ты отступаешь или делаешь ноги. Я удрал. Дезертировал. Не потому что трус. Нет. Быть пушечным мясом не хотелось. У меня семья. Защищать Германию? Уже нечего было защищать. Так что тогда? Через три месяца мы были в Мюнхене. Везде толпы людей. Сплошь с востока. Если не видел сам, невозможно представить, сколько их было. И повсюду лица местных. Тогда я понял, какие бывают глаза у убийц. До этого, на войне, где разрешалось убивать, взгляды были другие. Взгляды становились тупыми, убивать разрешалось. Но тут приходилось разбираться с совестью. Если разрешено убивать, ты чувствуешь не скованность, а свободу. Однако совесть гложет. Поэтому взгляд и тупеет. Но тут они испугались за свои денежки. А убивать нас им уже не разрешали. Хотя они ненавидели нас так же, как до этого евреев или русских. По глазам все было видно, могу вам сказать. По глазам видно, что эти люди творили раньше и что хотели бы творить снова. От Берлина до Нюрнберга и Мюнхена все устремились в деревни. Сплошь беженцы с востока. Повсюду эти глаза. Что касается городов… От них ничего не осталось. Выбора не было. Пришлось искать счастья в деревне. Так я и осел у Егера.
Панкрац уже какое-то время назад вернулся за стол с пивом, и Виктор сделал еще один большой глоток. Он немного устал и почувствовал облегчение.
– Да, Егер бывает порой вспыльчив, – сказал Панкрац, – всем известно. Любит, так сказать, помахать шпагой, его тут некоторые зовут Егерь со шпагой. Если хотите, я с ним поговорю, и вы перейдете работать ко мне. Но только если вас это устраивает.
Виктора все устраивало, и Панкрац уладил с Егером. Тот, правда, впал в ярость и обвинил Панкраца, что тот самым бессовестным образом переманивает у него предоставленных оккупационными властями работников, накачивая их пивом и рассказывая пьяным рожам вещи, которые граничат с клеветой. Как, спрашивается, Панкрац вообще себе такое позволил – идти против оккупационных властей! (Виктор, предвкушая триумф над кляузником Егером и замаячившее новое место, не стал сдерживаться и выплеснул все, что ему рассказывал Панкрац, и про Егеря со шпагой, и про все остальное, и прибавил еще от себя…)
