Загородный бал. Перевод Елены Айзенштейн
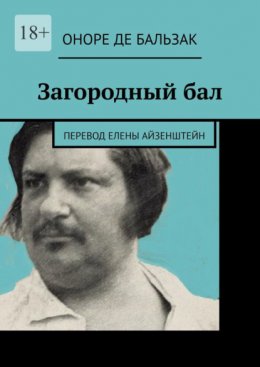
Переводчик Елена Оскаровна Айзенштейн
Оформление обложки Елена Оскаровна Айзенштейн
Составление книги, примечания Елена Оскаровна Айзенштейн
© Оноре де Бальзак, 2024
© Елена Оскаровна Айзенштейн, перевод, 2024
ISBN 978-5-0064-1948-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Загородный бал
Повесть
Анри Бальзаку —
его брат Оноре
Граф де Фонтень, глава одной из старейших семей в Пуату, в течение войны, которая сделала Вандею республикой, служил Бурбонам с умом и смелостью1. После того как он избежал всех опасностей, которые угрожали главе роялистов, в течение этой бурной эпохи современной истории, он весело сказал:
– Я один из тех, кого убили на ступенях трона!
Эта шутка не была безосновательной для человека, оставленного среди истекавших кровью мертвых в День четырех дорог. Хотя он был разорен конфискациями, преданный Вандеец постоянно отказывался от весьма выгодных мест, которые ему предлагал император Наполеон. Верный своей аристократической религиозности, он слепо следовал максимам, когда подобающе судил, подбирая себе спутницу жизни. Несмотря на соблазнительность богатого революционера- выскочки, который назначил за брачный союз высокую цену, он женился на безденежной мадмуазель Кергаруэт, но она носила одну из самых древних фамилий в Бретани.
Реставрация удивила мосье де Фонтеня, отягченного многочисленным семейством. Хотя он не следовал мыслям благородных молодых людей, ходатайствовавших о милостях, тем не менее, он сдался желаниям своей жены, покинул свое имение, чьего низкого дохода почти не хватало на детей, и уехал в Париж.
Опечаленный жадностью, с которой его старые товарищи выгребали места и конституционные привилегии, он вернулся на свою землю, когда получил письмо из министерства, по которому достаточно известное Его Превосходительство объявляло о присвоении ему звания фельдмаршала приказом, позволявшим офицерам католической армии считать двадцать первых лет правления Луи XVIII за годы службы. Несколько дней спустя Вандеец получил без каких-либо ходатайств еще Орден Почетного легиона и орден Сан-Луи. Потрясенный этой резолюцией о последовательной высочайшей милости, он думал об обязанности помнить монархию, не довольствовался больше тем, как он распоряжается своей семьей, поскольку каждое воскресенье благочестиво кричал «Виват королю» в зале Маршалов в Тюильри; когда царствующие особы возвращались в часовню, он просил о милости частной встречи. Эта аудиенция, очень быстро согласованная, не имела ничего особенного. Королевская гостиная была полна старых слуг с напудренными головами, на которых он смотрел с некоторой высоты, они напоминали ему снежный ковер. Там дворянин нашел старых товарищей, у которых он получил несколько холодный прием; но царственные особы, выражаясь высокопарно, казались ему восхитительными, чего он избегал, когда самые обходительные из хозяев, которые, как он считал, знают только его имя, пожимали ему руку и провозглашали самым чистым из Вандейцев. Несмотря на эту овацию, никакие августейшие персоны и в мыслях не имели спросить его ни о потерях, ни о тех деньгах, которые сыпались в кассы католической армии. Немного позже он заметил, что вел войну за свой счет. К концу вечера он думал, что может рискнуть, сделав остроумный намек на положение дел, как сделали бы люди с деньгами. Ее Величество принялась достаточно добро смеяться; все слова, на которых лежала отметина остроумия, доставляли ей удовольствие. Но, впрочем, она ответила одной из королевских шуток, чья ласковость больше пугала, чем гнев порицания. Один из самых близких сторонников короля не задержался и приблизился к расчетливому Вандейцу, о котором он слышал, с тонкими и вежливыми фразами, когда еще не пришел момент счета с хозяевами; он оказался на ковре воспоминаний более давних, чем его собственные, которые, без сомнения, становились достоянием истории Революции. Граф осторожно вышел из почтенной группы, описав уважительный полукруг перед августейшей семьей. Потом не без труда отодвинул свою шпагу от тонких ног гостей и приглашенных, на которые она натыкалась. Через двор Тюильри он достиг фиакра, остававшегося на набережной. С этим ретивым ощущением, которое отличало благородство старой скалы, у которой не совсем еще погасли воспоминания о Лиге и баррикадах, в компрометирующей манере он стал жаловаться в своем фиакре громко вслух на изменения, произошедшие при дворе. «Некогда, – говорил он себе, – каждый свободно рассказывал королю о своих делах, господа могли спокойно, к своему удовольствию, просить милости и денег. А сегодня мы не получим без скандала назад сумму за свою службу? Черт! Крест Сан-Луи и фельдмаршальское звание не оценивают в триста тысяч ливров, сколько я прекрасно и славно потратил для королевских дел. Я хотел бы переговорить с королем с глазу на глаз в его кабинете».
Эта сцена в кабинете очень охладила рвение мосье де Фонтеня, потому что просьба об аудиенции так и осталась без ответа. Кроме того, он видел прихлебателей империи, некоторые из которых сохраняли после перемен лучшие дома, доставшиеся от старой монархии.
– Все пропало, – сказал он утром, – решительно, король был только революционером. Его Величество не уклонялся, а утешал верных слуг. Я не знаю, в какие руки попала бы корона Франции, если бы режим продолжился, без Его Величества. Его проклятая конституционная система была намного хуже всего правления и никогда не могла подойти для Франции. Луи XVIII и мосье Беньё нам испортили в Сан-Уане.
Отчаявшийся граф приготовился вернуться на свою землю, с благородством отказавшись от претензий на всю компенсацию. В этот момент события 20 марта объявили новую бурю, которая угрожала поглотить законного короля и его защитников. Подобные этим благородным людям, которые не посылают слугу во время дождя на улицу, мосье де Фонтень взял взаймы денег у своей земли, чтобы следовать за разгромленной монархией, не зная, будет ли эмиграция более благоприятной, чем его прошлая преданность; но после наблюдения, что товарищи в изгнании имели больше милостей, чем смельчаки, протестовавшие с оружием руках против учреждения республики, может быть, он надеялся найти в этой поездке за границу больше выгоды, чем в активном и опасном служении внутри страны.
Его расчеты придворного не были направлены на одну из бесполезных спекуляций, суливших на бумаге сверхрезультаты и рушившихся при их исполнении. Он сделался, в соответствие с самым остроумным и с самым ловким словом одного из наших дипломатов, одним из пятисот верных слуг, которые разделили изгнание с двором в Ганте, и был одним из пятидесяти тысяч возвратившихся.
В течение короткого отсутствия королевской власти мосье де Фонтень имел счастье быть использованным Луи XVIII, он еще больше доказал королю великую политическую честность и искреннюю привязанность. Однажды вечером, когда монарху нечего было делать, он вспомнил остроту, сказанную мосье де Фонтенем в Тюильри. Старый Вандеец не упустил из виду случай и рассказал свою историю королю, который ничего не забывал и мог в полезный момент вспомнить об этом. Августейший литератор отметил тонкие обороты речи, данные Фонтенем в нескольких замечаниях, чью редакцию передал сдержанный дворянин. Эта маленькая заслуга включила мосье де Фонтэня в памяти короля в круг наиболее лояльных слуг его короны. При втором возвращении граф сделался одним из необыкновенных посланников, которые проходили ведомства с миссией суверенного суда над преступниками восстания; но он скромно использовал свою ужасную власть. Когда эта временная юрисдикция была прекращена, великий проректор сел в одно из кресел Государственного Совета, стал депутатом, говорил немного, слушал много и значительно менял точку зрения. Некоторые обстоятельства, неизвестные биографам, завели его в близких отношениях с императором достаточно далеко, чтобы однажды лукавый монарх подозвал его, входящего, так:
– Мой друг Фонтень, я не назначил бы вас ни главным управляющим, ни министром! Ни вы, ни я, если бы мы были на службе, не остались бы на своем месте по причине наших мнений. Представительное правительство хорошо тем, что избавляет нас от трудностей, которые мы некогда имели, самим увольнять секретарей государства. Наше правление поистине гостиница, куда общественное мнение часто посылает нам необыкновенных путников, но мы все-таки всегда знаем, где разместить наших верных слуг.
За этой насмешливой увертюрой последовало распоряжение, которое дало мосье де Фонтеню управление чрезвычайно важной областью короны. В результате разумного внимания, с которым он слушал сарказмы своего королевского друга, его имя находилось на губах Его Величества всякий раз, когда надо было создать комиссию, члены которой получали прибыль; у него было хорошее чутье на необходимость молчания о милости, которой почтил его монарх; он знал, как поддержать это пикантной манерой рассказчика в одной из привычных бесед, которые столько же нравились Луи XVIII, как приятно написанные записки, политические анекдоты и, если позволительно использовать это выражение, дипломатические и парламентские сплетни, изобиловавшие тогда. Известно, что детали его управляемости, слово, усвоенное насмешливым королем, бесконечно веселили его. Благодаря доброму нраву, уму и обходительности мосье де Фонтеня, каждый член его многочисленной семьи, каким бы юным он ни был, как приятно выразился глава семьи, заканчивал тем, что становился шелкопрядом на листах бюджета. Таким образом, по доброте короля, старший из сыновей достиг высокого места в несменяемой судебной власти. Второй, до Реставрации простой капитан, после возвращения из Гонта немедленно получил легион; потом, по милости движения 1815 года, в течение которого игнорировали правила, он прошел в королевскую гвардию, вышел в телохранители, после Трокадеро вернулся в строй, став генерал-лейтенантом, и командовал охраной. Последний, названный субпрефектом, сразу стал владыкой просьб и директором муниципальной администрации города Парижа, где он находился под приютом законодательных бурь. Эти теневые милости, тайные, как графское расположение, пролились незамеченными. Хотя отец и три сына имели каждый достаточно должностей, чтобы наслаждаться доходами бюджета, почти столь же существенными, как у самого главного управляющего, их политическая судьба не волновала ничьей зависти. В это время разработки первой конституционной системы мало кто имел подходящие мысли о мирных областях бюджета, когда мастерство фаворитов сумело найти эквивалент разрушенным аббатствам. Мосье граф де Фонтень ранее тщеславился тем, что не читал Хартию и, сердясь на жадность придворных, не переставал доказывать своему августейшему хозяину, что так же хорошо понимает его дух и представительские средства, однако, несмотря на надежность карьеры, открывавшейся для трех сыновей, несмотря на денежные выгоды, за которыми последовало совместительство четырех мест, мосье де Фонтень находился во главе слишком многочисленной семьи, чтобы суметь быстро и легко восстановить свои доходы. Его сыновей ждало богатое будущее милости и таланта; но он имел еще трех дочерей и боялся утомить доброту монарха. Он думал о том, что скажет король об одной из этих девственниц, спешившей зажечь пламя. Король имел слишком хороший вкус, чтобы оставить свое творение незавершенным. Брак первой с генералом был заключен благодаря одной из королевских фраз, которая ничего не стоила и ценилась на миллионы. Однажды вечером, когда монарх был угрюм, он улыбнулся, узнав о существовании другой мадмуазель де Фонтень, которую он выдал за юного мирового судью; тот был правдив, но богат и полон таланта, сделавшего его бароном. Когда на следующий год Вандеец будет говорить об Эмилии де Фонтень, король ответит ему своим тихим кисловатым голосом: «Amicus Plato, sed magis amica Natio»2. Потом, несколько дней спустя, он подарит своему другу Фонтеню достаточно невинный катрен, названный эпиграммой, в котором пошутит о трех дочерях, так ловко сотворенных в форме троицы. Если верить историческим событиям, монарх искал нужное слово в единстве трех божественных персонажей.
– А если король соблаговолит изменить свою эпиграмму в эпиталаму? – подумал мосье де Фонтень, пытаясь повернуть королевскую шутку к своей пользе.
– Если я вижу рифму, я не вижу мысли, – жестко ответил король, которому не понравилась шутка, делающая его стихи несколько нежнее, чем они были.
С этого дня в его отношениях с мосье де Фонтенем стало меньше обходительности. Король больше любил, чтобы ему не противоречили. Как почти все последние дети, Эмилия де Фонтень была Вениамином3, испорченным всеми вместе. Охлаждение монарха оказалось причиной настолько же более мучительной для графа, насколько трудно было заключить брак для этого ненаглядного ребенка. Чтобы понять все препятствия, нужно было проникнуть в самое нутро этого здания, где управляющий размещался на служебные средства. Эмилия провела свое детство на земле де Фонтень, наслаждаясь изобилием, которого достаточно для первых удовольствий юности. Ее малейшие желания были законом для сестер, для братьев, для матери и даже для отца. Все родственники любили ее. Когда она дошла до рассудительного возраста, когда семью осыпали милостями судьбы, очарование ее жизни продолжилось. Роскошь Парижа казалась ей такой же естественной, как богатство цветов и плодов, поскольку это полевое изобилие создавало счастье ее первых лет. Никогда в своем детстве она не терпела никаких отказов, когда хотела удовлетворить радостные наслаждения; она видела, как ей подчиняются, когда в возрасте четырнадцати лет бросилась в вихрь света. Она привыкла к уровню наслаждений доходами, к поискам нарядов, к элегантности золотых салонов и экипажей, ставших для нее такими же необходимыми, как настоящие или фальшивые льстивые комплименты, как праздники и тщеславие двора. Впрочем, все улыбалось ей: она замечала расположение к себе во всех глазах. Как большая часть испорченных детей, она тиранизировала тех, кто любил ее, сдерживая кокетство перед безразличными. Ее недостатки росли вместе с ней, и родственники скоро начали собирать горькие плоды этого печального воспитания.
Дойдя до девятнадцати годов, Эмилия все еще не могла сделать выбор среди знакомых ей молодых людей, которых политика мосье де Фонтеня созывала на праздники. Хотя она была еще юной, она наслаждалась в свете всей духовной свободой, которую могла в нем иметь женщина. Ее красота была настолько замечательна, что казалось, в гостиной царствует она одна. Подобно королям, она не имела друзей и видела себя повсюду объектом обходительности, перед которой не могло устоять и существо более равнодушное по природе своей. Ни один человек, будь это даже старик, не имел силы противоречить мнению юной девушки, чей один только взгляд даже в холодном сердце возбуждал любовь. Выращенная с заботой, отсутствовавшей для сестер, она достаточно хорошо была причесана, говорила по-английски и по-итальянски, играла на фортепиано, наконец, ее голос, усовершенствованный несколькими учителями, имел тембр, придававший ее пению соблазнительную неотразимость. Одухотворенная и вскормленная всей литературой, она могла заставить поверить, что, как говорил Маскари, что достойные люди приходят в мир, зная все. Она легко рассуждала об итальянской или фламандской живописи, о Средневековье или Ренессансе, через древние и новые книги судила о неправоте, с жестокой грацией размышляла о книгах. Самая обычная из ее фраз принималась идолопоклоннической толпой, как тюрки воспринимают фетву султана4. Поверхностных людей она ослепляла; что до глубоких людей, ее природный такт помогал ей распознавать их, и для них она расточала такое кокетство, что милость к соблазненным могла помочь ей избежать их экзамена. Этот обворожительный глянец покрывал беззаботное сердце, и, по общему мнению большинства юных девушек, никто не жил в достаточно высокой сфере, чтобы понимать превосходство ее души и гордость, которая настолько же связывалась с ее рождением, как и с ее красотой. В отсутствии неистового чувства, которое рано или поздно поднимается в сердце женщины, она тратила свой юный пыл на неумеренную любовь к отличиям, свидетельствуя более глубокое презрение к простолюдинам. Очень дерзкая с новым дворянством, она делала все усилия, чтобы ее родственники шествовали рядом с самыми влиятельными людьми Сен-Жерменского предместья. Эти чувства не миновали наблюдательных глаз мосье де Фонтеня, которого брак его первых дочерей заставил не раз стонать от сарказмов и острых слов Эмилии. Люди логики удивлялись, видя, что старый Вандеец отдал свою первую дочь за генерала, который успешно владел, по правде говоря, старинными величественными землями, но чьему имени не предшествовала та частица, которая так защищала трон, а вторую – за мирового судью, слишком недавно ставшего бароном, чтобы заставить забыть, что его отец продавал дрова. Это заметное изменение в мысли о дворянстве в момент, когда де Фонтень достиг своих шестидесяти лет, в эпоху, когда люди редко оставляют свои убеждения, не должно было быть только прискорбным жилищем современного Вавилона, где все люди провинции заканчивают тем, что теряют свою жесткость; новое политическое сознание графа де Фонтеня было результатом советов и дружбы короля. Этот принц-философ с удовольствием обращал Вандейца в веру, которой требовали ход девятнадцатого века и реновации монархии. Луи XVIII хотел сплавить партии, как Наполеон – вещи и людей. Легитимный король, может быть, такой же разумный, как и его соперник, действовал из противоположных чувств. Последний глава дома Бурбонов также жаждал удовлетворить третью власть и людей империи, сдерживая духовенство, как первый Наполеон, ревновавший к привлечению на его сторону великих господ или представителей церкви. Поверенный королевских мыслей, государственный советник незаметно стал самым влиятельным и самым мудрым в этой умеренной партии, которая живо желала, именем национальных интересов, слияния мнений. Он проповедовал ценные моральные принципы конституционного правительства, всей своей властью помогал игре политического коромысла, которое позволяло посреди волнений управлять Францией. Может быть, мосье де Фонтень льстил себя получением пэрства благодаря одному из ударов законодательного ветра, чья сила была тогда так удивительна для самых старых политиков. Один из наиболее устойчивых принципов состоял в том, чтобы не признавать во Франции другого дворянства, чем пэрство: семьи пэров были единственными, имевшими привилегии.
– Дворянство без привилегий – это карман без денег, – говорил он.
Такой же далекий от партии Лафайета, как и от партии Лабурдоннэ, он с пылом предпринял усилия к общему примирению, когда для Франции должна была наступить новая блестящая эра. Он пытался убедить семьи, в которые имел доступ, в немногих выгодных шансах, которые предлагались за пределами военной и административной карьеры. Он стремился, чтобы матери, отдававшие своих детей в независимые промышленные профессии, услышали, что военное дело и высокие функции правительства окончательно будут принадлежать конституционным кадетам из благородных пэрских семей. По его словам, нация захватила выборным собранием довольно широкую часть в администрации; места в судебной власти и финансах, говорил он, будут всегда прерогативой знати третьего сословия. Новые идеи главы семьи де Фонтень, мудрые союзы его первых двух дочерей встретили сильное противостояние среди его домочадцев. Графиня де Фонтень оставалась верной старым традициям, от которых не должна была отрекаться женщина, принадлежавшая к Роанам по матери. Хотя она какое-то время противилась счастью и денежному успеху, которые ожидали двух старших дочерей, она возвращалась к тайным расчетам, которые супруги поверяют друг другу вечером, когда их головы отдыхают на подушках. Мосье де Фонтень точными расчетами холодно доказал своей жене, что пребывание в Париже, обязанность представляться, великолепие дома, который вознаграждал за потери, так смело разделенные супругами в глубине Вандеи, расходы, сделанные на их сыновей, поглотили наибольшую часть семейного бюджета. Нужно было хватать, как небесную милость, возможности, так щедро предоставляемые их дочерям. Не должны ли однажды они насладиться шестьюдесятью или восьмьюдесятью тысячами ливров ренты? Такие выгодные браки не каждый день могли встретить девушки без приданного. Наконец, пришло время подумать об экономии, чтобы увеличить земли де Фонтень и заново отстроить древние территории семейного поместья. Графиня уступила, как сделали бы на ее месте все жены, хотя, скорее, из высшей благосклонности, может быть, чем из-за таких убедительных аргументов. Но она заявила, что, по крайней мере, ее дочь Эмилия будет выходить замуж удовлетворяющим гордость способом, развитию гордости она и способствовала, к несчастью.
События, которые должны были пролить радость в эту семью, внесли легкую закваску раздора. Генеральный сборщик налогов и молодой судья находились на насыпи церемонной холодности, созданной графиней и ее дочерью Эмилией. В их поведении самое обширное место занимала домашняя тирания: генерал-лейтенант женился на единственной дочери банкира; председатель женился разумно на девушке, чей отец, дважды или трижды миллионер, занимался торговлей расписными холстами; наконец, третий брат, показавший себя верным доктрине о простолюдинах, взял жену из семьи богатого парижского нотариуса. Три невестки и два зятя находили столько очарования и личной выгоды, оставаясь на высоте сфер политической власти, и, завладев гостиными Сен-Жерменского предместья, они все согласились сформировать маленький двор надменной Эмилии. Этот договор интересов и гордости, однако, не стал очень прочным цементом, как юного монарха часто не волнуют революции его маленького государства. Сцены, которые не отвергал хороший тон, поддерживались членами этой могущественной семьи насмешливым настроением, без заметного изменения дружб демонстрировавшимся на публике, иногда внутри перерождаясь в чувство менее милосердное. Что касается жены генерал-лейтенанта, ставшей баронессой, она верила, что так же благородна, как Кергаруэт, утверждала, что сто добрых тысяч ренты дают ей право быть столь дерзкой, как ее родственница Эмилия, которой она иногда иронически желала счастливого брака, коротко объявляя, что дочь такого-то пэра вышла замуж за такого-то. Жена виконта де Фонтеня веселилась, затмевая Эмилию хорошим вкусом и богатством, которые становились заметны в нарядах, в обстановке комнат и в экипажах. Дух насмешки, с которым невестки и зятья несколько раз приветствовали требования мадмуазель де Фонтень, вызывали у нее гнев, едва успокаиваемый потоком насмешек. Когда глава семьи терпел некоторое охлаждение в молчаливой и ненадежной дружбе монарха, он особенно трепетал, что, в результате вызывающих насмешек сестер, его любимая дочь никогда не бросит свой взор достаточно высоко.
Посреди всех этих обстоятельств, когда маленькая домашняя борьба становилась очень серьезной, когда мосье де Фонтеню нужно было вернуть милость монарха, того атаковала болезнь, от которой монарх погиб. Великий политик, знавший, как среди бурь хорошо управлять своим кораблем, потерпел поражение. Уверенный в грядущих милостях, граф де Фонтень, однако, сделал огромные усилия, чтобы объединить вокруг своей последней дочери элиту из молодых людей, готовых жениться. Те, кто пытались решить сложную проблему устройства жизни своей своенравной и гордой дочери, поймут, может быть, наказание, на которое обрек себя бедный Вандеец. Предприятие можно было завершить по прихоти его милого ребенка, оно могло бы увенчать достойную карьеру, построенную графом в Париже в течение десяти лет. Способ, каким его семья захватила денежное содержание из всех министерств, можно сравнить с австрийским домом, угрожавшим завоевать Европу. Так же и старый Вандеец не отвергал представления претендентов, даже не нравившихся ему, так он заботился о счастье своей дочери; но не было ничего более забавного, чем форма, в которой дерзкая натура произносила свои приговоры и судила о заслугах обожателей. Можно сказать, что, похожая на одну из принцесс «Тысячи и одного дня», Эмилия сделалась достаточно богатой, достаточно прекрасной, чтобы иметь право выбирать среди всех принцев мира; объекты же были самые шутовские: один имел слишком толстые ноги или стучащие колени, другой был близорук; тот звался Дюран, этот хромал; почти все они казались слишком толстыми. Более живая, более очаровательная, более веселая, чем когда бы то ни было, оставив двух или трех претендентов, Эмилия бросилась в зимние праздники, бегала на балы, где сверлящим взглядом испытывала однодневных знаменитостей, где часто, с помощью своей восхитительной болтовни она добиралась до разгадки самых таинственных сердечных секретов, наслаждалась, терзая всех молодых людей, с инстинктивным кокетством волнуясь из-за предложений, которые всегда отклоняла.
Природа дала ей изобилие необходимых выгод для роли, которую она играла. Крупная и стройная, Эмилия де Фонтень, по своей прихоти, обладала величественной и игривой походкой. Ее немного длинная шея позволяла ей выразить очаровательный образ презрения и дерзости. Она создала для себя плодотворный репертуар из мелодических поворотов головы и женских жестов, которые так жестоко или счастливо объясняют полуслова и улыбки. От прекрасных черных волос, пышных изогнутых бровей исходило такое выражение гордости и кокетства, что зеркало научило ее через неподвижные или легкие изгибы ее губ возвращать взгляд, холодные или ласковые ее улыбки ужасно изменившимися: или неподвижными, или нежными. Когда Эмилия хотела захватить чье-то сердце, в ее чистом голосе появлялась мелодия; но в нем могла также отпечататься кроткая ясность, когда она укрощала язык назойливого кавалера. Ее белое лицо и мраморный лоб казались прозрачной поверхностью озер, которые одно за другим морщинятся под усилиями ветра или возобновляют радостную ясность, когда успокаивается окружающая среда. Большинство молодых людей, став предметами ее презрения, обвиняли ее в том, что она ломает комедию; но огонь настолько сиял, обещания так били ключом из ее черных глаз, что она оправдывалась, пленяя стучащие сердца элегантных танцоров под их черными фраками. Среди юных модных девушек никто, кроме нее, не знал, как взять этот тон высоты, получив приветствие молодого человека, имевшего талант, или распускал обидную вежливость на людей, на которых она смотрела, как на слуг, и выливала свою дерзость на всех тех, кто пытался идти с ней в паре. Повсюду, где она находилась, она, казалось, получала скорее почтение, чем комплименты; и даже во дворце принцессы ее обороты речи и тон превращали кресло, на котором она сидела, в императорский трон.
Мосье де Фонтень слишком поздно открыл, как нежность всей семьи исковеркала воспитание слишком любимой дочери. Восхищение, которое свет сначала свидетельствовал ее юной персоне (за него свет не опоздает отомстить), еще возвысило гордость Эмилии и повысило ее уверенность в себе. Всеобщее попустительство развило в ней природный эгоизм испорченных детей, подобно королям, веселящимся от всего, к чему приближаются. Благодаря юности и очарованию талантов, ее недостатки в этот момент были скрыты от всех глаз, настолько более ужасные у женщины, которая могла доставить удовольствие только преданностью и самопожертвованием; но ничто не избежало глаз ее отца; мосье де Фонтень часто пытался объяснить своей дочери главные страницы странной книги жизни. Тщетное предприятие! Он слишком часто стонал от причудливой непокорности и иронической мудрости своей дочери, чтобы проявлять упорство в задачах такой сложности, как корректировка ее природной испорченности. Он довольствовался тем, что время от времени давал ей советы, полные нежности и доброты; но он страдал, видя, как самые нежные слова скользят по сердцу его дочери, как если бы оно было сделано из мрамора. Глаза отца прозрели так поздно, старому Вандейцу понадобилось больше одного раза, чтобы наблюдать дух снисходительности, с которым его дочь соглашалась на редкие ласки. Она напоминала маленьких детей, говорящих матери:
– Поспеши меня обнять, чтобы я пошла играть.
Наконец, Эмилия соизволила проявить нежность к своим родителям. Но часто по внезапному капризу, казавшемуся необъяснимым у юных девушек, она изолировалась и показывалась редко; она жаловалась, что должна со всем светом делить сердца своих отца и матери, она становилась ревнивой ко всем, даже к братьям и сестрам. Потом, после того как она сотворила пустыню вокруг себя, эта странная девушка обвинила всю природу в своем дурацком одиночестве и в добровольных наказаниях. Вооруженная своим двадцатилетним опытом, она осудила судьбу, не зная, что первый принцип счастья – в нас самих, она просила, чтобы жизненные вещи принадлежали ей. Она сбежала бы на край света, чтобы избежать брака, подобного тем, какие были у ее сестер. Кроме того, в своем сердце она носила ужасную ревность, видя их женатыми, богатыми, счастливыми. Наконец, несколько раз она давала это понять своей матери, жертве всех ее действий, так что мосье де Фонтень начал думать, уж не безумна ли дочь. Эти аберрации были достаточно объяснимы: ничего нет более общего, чем тайная гордость, родившаяся в сердце юной личности, которая принадлежит семье, высоко стоящей на социальной лестнице, кого природа одарила великой красотой. Почти все они считали, что их матери, достигнув сорока-пятидесяти лет, больше не могли ни симпатизировать их юным душам, ни постигать их фантазии. Они воображали себе, что большая часть матерей завидовали своим дочерям и хотели одеться по их моде с предумышленным замыслом затмить или вызвать их похвалу. Из-за этого случались часто тайные слезы и немые возмущения против утверждения материнской тирании. Посреди этих печалей, становившихся реальными, хотя зиждились чувства на воображаемой основе, они имели еще манию придумать тему своего существования и составляли для себя блестящий гороскоп. Гороскоп заставлял поверить, что они берут свои мечты в реальность. В их долгих размышлениях они тайно решали, согласятся ли их рука и сердце на человека, который выгодно владеет тем и другим преимуществом. Они рисовали в своем воображении тип, которому волей-неволей нужно подобное будущее. После многоопытной жизни и серьезных размышлений, которые приносили годы, глядя на мир и на его прозаическое движение, на несчастные экземпляры, прекрасный цвет их идеальных лиц отменялся; потом, в прекрасный день, они оказывались в текущей жизни, удивляясь, что счастливы без мечты, питавшей их поэзией. Следуя этой поэтичности, мадмуазель Эмилия де Фонтень остановилась в хрупкой мудрости на программе, которая должна была прийти в действие, чтобы ее претендент был принят. С этим были связаны и ее презрение, и сарказм.
– Хотя он юн и древнего рода, – говорила она, – он будет пэром Франции или старшим сыном пэра! И мне кажется невозможным не видеть на панелях моей кареты, бегущей по большой аллее Елисейских полей, посреди плывущих складок лазурного покрова герба, знака пэрства в Дни Лоншана5. Кроме того, мой отец считает, что наступит день самого большого почета во Франции. Я хочу военного, и я оставляю за собой право дать ему отставку. Я хочу наградить его, чтобы нас несли на руках.
Эти редкие качества ничему не служили бы, если бы это существо не обладало бы огромной добротой, красивыми оборотами речи, умом и если бы молодой человек не был бы стройным. Худоба, эта грация тела, хотя и мимолетная, особенно в представительном правительстве, была строгим условием. Мадмуазель де Фонтень имела определенный размер идеала, который использовала как образец. Юноша, который с ее первого взгляда не исполнял желаемого условия, даже не получал ее второго взгляда.
– О, мой Бог! Видите, сколько толстых мосье! – это было у нее выражением самого сильного презрения.
По ее словам, честные, но полные люди – плохие и презренные мужья; они не в состоянии входить в культурное общество. Хотя эту красоту считали изысканной на Востоке, избыточный вес казался ей несчастьем для женщин; но для мужчины это было преступлением. Парадоксальность ее мнения, благодаря веселости ее речи, развлекала. Тем не менее, граф почувствовал, что претензии его дочери, чья насмешливость была очевидна для некоторых как проницательных, так и милосердных женщин, позже станут роковым сюжетом насмешек. Он боялся, как бы странные мысли дочери не превратилась в дурную невоспитанность. Он трепетал, что безжалостный свет уже забавляется персоной, которая так долго на сцене и до сих пор не дождалась развязки комедии, которую играет. Что до актеров, то они, раздраженные отказами, ждали малейшего инцидента, чтобы отомстить. Безразличные, праздные начинали уставать; восхищение всегда утомительно для человеческого духа. Старый Вандеец знал лучше, чем кто-либо, что, чем искуснее выбираешь момент выхода на подмостки мира, двора, гостиной и на сцену, тем труднее выйти кстати. В течение первой зимы, последовавшей после появления на троне Карла X, он также удвоил усилия, совместно с сыновьями и зятьями, чтобы объединить в гостиных лучшие партии, которые могли представлять различные депутаты департаментов. Сияние этих праздников, роскошь залов для обедов, пахнущих трюфелями, конкурировала с известными обедами министров своего времени, которые устраивали подчиненным для уверенности в парламентском голосовании.
Почтенный Вандеец считался тогда одним из самых властных коррупционеров законодательной честности этой страдавшей от обжорства сиятельной Палаты. Странная вещь! Попытки выдать дочь замуж поддерживались блестящей милостью. Может быть, Вандеец нашел выгодную тайну, чтобы дважды продать свои трюфеля. Это обвинение, вынесенное некоторыми либеральными насмешниками, возмещавшими обилием слов редкость их приверженцев в комнате, не имели бы никакого успеха. Положение нашего дворянина было столь благородным и почтенным, что он не получал ни одной из тех насмешек, которыми злобные газеты эпохи окружали триста избирателей, министров, поваров, управляющих, принцев фуршетов и защитников учреждений, поддерживавших администрацию Виллеля6. В конце этой кампании, в течение которой мосье де Фонтень сдал все свои войска, он понял, что собранные им претенденты не станут на этот раз фантасмагорией для дочери и настало время с ней посоветоваться, он чувствовал внутри некоторое удовлетворение от того, как хорошо он выполняет свой отцовский долг. Сделав стрелу из целого дерева, он надеялся, что среди предложенных капризной Эмилии сердец он сможет встретить то, которое она отличит. Не в состоянии возобновить эти усилия, утомленный, впрочем, поведением своей дочери, к концу Великого поста, утром, когда заседание Палаты не слишком повелительно требовало его участия, он решил сделать властный шаг. Пока камердинер артистически рисовал на его черепе дельту пудры, дополненную свисающими на его благородную прическу крыльями голубя, не без тайных мыслей отец Эмилии попросил своего слугу приготовить гордую мадмуазель к немедленному появлению перед главой семьи.
– Жозеф, – сказал он, когда слуга заканчивал ему прическу, – снимите салфетку, натяните шторы, поставьте кресло на место, встряхните ковер у камина и всюду вытрите. Пойдемте! Дайте в мой кабинет немного свежего воздуха, откройте окно!
Граф увеличил свои распоряжения, и Жозеф запыхался, догадавшись о стремлении своего хозяина возвратить хоть сколько-нибудь свежести этой комнате, естественно, самой не убранной в доме, и преуспел, наложив отпечаток гармонии на груды счетов, картонок, святилище мебели, где сражались интересы королевских владений. Когда Жозеф немного привел в порядок этот хаос и разместил на виду, как в магазине новинок, вещи, которые могли быть внешне самыми приятными или создавали своими цветами поэзию бюрократии, он остановился посреди лабиринта документов, размещенных на ковре в каком-то порядке, сам восхитился моментом, наклонил голову и вышел.
Бедный синекурист7 не разделял хорошего мнения своего слуги. Перед тем как сесть в огромное кресло, он бросил подозрительный взгляд вокруг себя, проверив неприятный запах своего комнатного платья, схватил несколько гранул табака, тщательно протер нос, расположил лопатки и пинцеты, разжег огонь, подтянул четвертую часть своих тапок, бросил назад маленький хвост, расположенный между воротником и жилетом, тот, что из домашнего платья, и снова занял перпендикулярное положение. Потом он сделал удар метлой по пеплу очага, которым свидетельствовал настойчивость своего носа. Наконец, после того как в последний раз осмотрел свой кабинет, надеясь, что ничто не могло дать места шутливым замечаниям, которыми его дочь имела привычку отвечать на его мудрое мнение, старый Вандеец сел. Входя во все это, он не хотел компрометировать отцовское достоинство. Он осторожно взял щепотку табака, два или три раза покашлял, словно собирался произнести имя; он слышал легкий шаг своей дочери; она вошла, напевая арию Барбарины8.
– Здравствуйте, отец. Что вы хотите с утра пораньше?
После этих слов, брошенных, как ритурнель9 к напеваемой мелодии, она обняла графа, не с той семейной теплотой, которая возвращала таким нежностям дочернее чувство, но с беззаботной легкостью повелительницы, всегда уверенной в удовольствии, которое она создает.
– Мое милое дитя, – серьезно сказал мосье де Фонтень, – я пригласил тебя, чтобы серьезно поговорить с тобой о твоем будущем. Это необходимость, когда ты, в данный момент, выбираешь мужа способом, который должен вернуться к тебе прочным счастьем…
– Мой дорогой отец, – ответила Эмилия самым ласковым голосом, на какой была способна, чтобы прервать его, – мне кажется, что перемирие, заключенное между нами относительно моих претендентов, еще не истекло.
– Эмилия, закончим сегодня дурачиться по такой важной теме. В течение некоторого времени усилия тех, кто тебя по-настоящему любит, мое милое дитя, объединились, чтобы обеспечить тебе подходящую партию. Было бы преступной неблагодарностью легкомысленно приветствовать знаки интереса, на которые не один я расщедриваюсь для тебя.
Услышав эти слова, ударив копьем пытливого злого взгляда обстановку отцовского кабинета, юная девушка села в кресло, показавшееся ей менее использованным просителями, но сначала перенесла его с другой стороны камина и поставила так, чтобы сидеть напротив отца, и приняла наиболее серьезное выражение, при котором невозможно заметить следов насмешек, скрестив руки на дорогой белоснежной пелерине, беспощадно скомкав многочисленные тюлевые рюши. Глядя в сторону и смеясь над взволнованным лицом старого отца, она нарушила молчание.
– Я никогда не слышала, мой дорогой отец, о том, что правительство занимается делами в домашнем платье. Но, – добавила она, смеясь, – люди не должны быть трудными. Увидим, однако, проекты ваших законов и ваших официальных представлений.
– Я не всегда смогу решать легко ваши дела, юная безумица! Послушай, Эмилия! Мое стремление долгое время не компрометировало мой характер; отчасти он является отражением судьбы моих детей; я привлекаю полк танцоров, и ты громишь их каждую весну. Ты уже была невинной причиной опасных ссор внутри некоторых семей. Я надеюсь, что сегодня ты лучше понимаешь трудности твоей позиции и нашей. Тебе двадцать лет, дочь моя, и вот уже три года, как ты должна быть замужем. Твои братья и две твои сестры так богато и счастливо устроились. Но, мое дитя, расходы, которые возбудили эти браки, домашняя свита, какую ты держишь у своей матери, берут так много дохода, что я тебе смогу дать приданого меньше ста тысяч франков. Сегодня я хочу заняться будущей судьбой твоей матери; она не должна приносить себя в жертву своим детям. Эмилия, если мне придется оставить мою семью, мадам де Фонтень не обязана ни у кого просить милости, должна продолжать наслаждаться простотой, какой я слишком поздно вознаграждаю ее за преданность моим несчастьям. Ты видишь, мое дитя, что малость твоего приданного не может находиться в гармонии с твоей идеей величия. Это была бы жертва, такую я не приносил ни для одного из своих детей; но они щедро согласились не пользоваться преимуществом, творимым мной для самого милого ребенка.
– В их-то положении! – сказала Эмилия с иронией, взволнованно подняв голову.
– Дочь моя, не обесценивайте никогда тех, кто вас любит. Знайте, что щедры только бедные! Богатые имеют достаточно рассудка, чтобы не излишествовать тысячами франков на родственников. Хорошо, не дуйся, мое дитя, поговорим разумно. Среди юных молодых людей, готовых жениться, не отметила ли ты мосье Манервиля?
– О! Он говорит «зу» вместо «жу», смотрит всегда под ноги, потому что считает себя маленьким, смотрит на себя! Впрочем, он блондин, а я не люблю блондинов.
– Ладно. А мосье де Бодёнёр?
– Он неблагороден. Он плохо сложен и толст. По правде говоря, он брюнет. Нужно, чтобы два мосье соединились, чтобы соединились их богатства, чтобы первый дал тело и имя второму, который сохранил бы волосы… и тогда, может быть…
– Что ты имеешь против мосье де Растиньяка?
– Он почти стал банкиром, – злобно сказала она.
– А виконт Портондюэр, наш родственник?
– Дитя, плохо танцующее, к тому же без дохода. Наконец, отец, это люди без титула. Я хочу быть, по крайней мере, графиней, как моя мать.
– Но этой зимой ты видела кого-то, кто…
– Нет, отец.
– Но что ты хочешь?
– Сына пэра Франции.
– Моя дочь, вы безумны! – сказал мосье де Фонтень, поднимаясь.
Но вдруг он поднял глаза к небу, кажется, зачерпнул в религиозной мысли новую дозу безропотности; потом бросил взгляд отцовской жалости на своего ребенка, ставшего взволнованным, взял Эмилию за руку, сжал ее и нежно сказал:
– Бог свидетель, бедное потерянное существо! Я добросовестно выполняю мой отцовский долг перед тобой. Что значит добросовестно? С любовью, моя Эмилия! Да, Бог знает, этой зимой я представил тебе самых честных людей, чьи качества, нрав, характер, были мне известны и казались достойными тебя. Мое дитя, моя задача исполнена. Сегодня я возвращаюсь арбитром твоей судьбы, нахожу себя вместе и счастливым, и несчастным, оттого что освобождаюсь от самых тяжелых отцовских обязанностей. Я не знаю, как долго еще ты будешь прислушиваться к голосу, который, с несчастью, никогда не был серьезен; но знай, что семейное счастье основывается не на блестящих качествах и доходах, а на взаимном уважении. Это счастье по своей природе скромно и несиятельно. Иди, моя дочь, я приму того, кого ты приведешь мне в зятья; но, если ты окажешься несчастлива, подумай, что не имеешь права обвинять в этом твоего отца. Пойми, я не отказываюсь от попыток предпринять шаги, чтобы помочь тебе, но да будет твой выбор серьезен и окончателен! Я не могу дважды компрометировать уважение, к которому обязывают мои седины.
Волнение и торжественность тона, каким была произнесена ласковая речь отца, живо тронули мадмуазель де Фонтень; но она скрыла свою нежность, прыгнув на колени графа, который сидел, весь еще дрожа от волнения; она расточала ему самые милые ласки, так что лоб старика разгладился. Когда Эмилия решила, что ее отец уже пережил мучительность эмоций, тихим голосом она сказала ему:
– Я очень благодарю вас за ваше трогательное внимание, мой дорогой отец. Вы привели в порядок ваши апартаменты, чтобы принять дочь. Вы, может быть, не знаете, что она настолько же безумна, как и мятежна. Но, мой отец, очень трудно все-таки выйти за пэра Франции? Вы говорили, что их делают дюжинами. Ах, по крайней мере, вы не откажете мне в советах.
– Нет, бедное дитя, нет. Я буду кричать тебе: остерегись! Подумай, однако, что пэрство слишком ново в нашем «управлении», как говорил покойный король, чтобы пэры могли обладать большим состоянием. Те, кто богаты, хотят стать еще богаче. Самые богатые из всех членов нашего пэрства наполовину не владеют тем, чем владеют наименее богатые лорды Высшей Палаты Англии. Пэры во Франции ищут богатых наследниц для своих сыновей, неважно, где они находятся. Необходимость заключать денежные браки будет длиться больше двух веков. Возможно, что ожидание счастливого случая, которого ты желаешь, поиск того, кто может стоить самых прекрасных лет, твое очарование, так как в этом веке женятся исключительно по любви, говорю я, осуществит чудо. Когда опыт скрывается под таким свежим лицом, как твое, можно надеяться на чудеса. Не ты ли раньше легко распознавала добродетели в большем или меньшем объеме тела? Это немалая заслуга. Поэтому у меня нет необходимости предупреждать такую мудрую, как ты, в трудности предприятия. Я уверен, что, видя лестную фигуру, ты никогда не предположишь незнакомца с добрым нравом, или не станешь оценивать добропорядочность в нем через красивые обороты речи. Хотя сегодня ничто не отмечено высоким образом, может, кто-нибудь раскроет тебе этих молодых людей. Впрочем, ты держишь свое сердце в узде, как хороший рыцарь, уверенный, что не позволит дрогнуть своему скакуну. Желаю тебе удачи, дочь моя!
– Ты позабавил себя мной, отец! Ладно. Я заявляю тебе, что скорее умру в монастыре мадмуазель де Кондэ, чем позволю себе не быть женой пэра Франции.
Она вырвалась из рук своего отца, гордая быть его госпожой; ушла, напевая арию «Милая не сомневается в тайне брака»10. Случайно семья праздновала тогда годовщину домашнего торжества. За десертом мадам Плана, жена генерала и старшего брата Эмилии, достаточно громко говорила о юном американце, владельце огромного состояния, который так страстно увлекся ее сестрой, что делал чрезвычайно блестящие предложения.
– Это банкир, я полагаю, – небрежно сказала Эмилия. – Я не люблю людей финансов.
– Но, Эмилия, – ответил ей барон де Виллан, муж второй сестры мадмуазель де Фонтень, – ты не любишь и представителей судебной системы; если ты отвергаешь всех нетитулованных, я не знаю, из какого сословия ты будешь выбирать мужа.
– Особенно, Эмилия, – добавил генерал-лейтенант, – с твоей системой худобы.
– Я знаю, – ответила юная девушка, – то, что мне нужно.
– Моей сестре хочется большого имени, – сказала баронесса де Фонтень. – И ста тысяч ливров ренты. Мосье де Морсе, к примеру!
– Я знаю, моя дорогая сестра, – сказала Эмилия, – что я не заключу такого дурацкого брака, какие так много видела. Впрочем, чтобы избежать брачных дискуссий, я заявляю, что буду смотреть, как на врагов моего покоя, на тех, кто будет говорить мне о браке.
Дядя Эмилии, вице-адмирал, семидесятилетний старик, чьи доходы выросли до двадцати тысяч ливров ренты по закону о компенсации, имел власть сказать своей любимой племяннице тяжелые истины; он воскликнул, чтобы рассеять горечь этого разговора:
– Но не терзайте мою бедную Эмилию; разве вы не видите, что она ждет совершеннолетия герцога де Бордо?
Эта шутка старика была встречена общим смехом.
– Остерегитесь, чтобы я не вышла за вас, старый безумец! – сказала юная девушка, чьи последние слова счастливо потонули во всеобщем шуме.
– Дети мои, – сказала мадам де Фонтень, чтобы смягчить дерзость Эмилии. – Неужели вы все не воспримете совета своей матери.
– О, мой Бог! Я не слушала бы никого, кроме себя, в деле, которое касается меня, – очень отчетливо сказала мадмуазель де Фонтень.
Все взгляды обратились на главу семьи. Каждому было любопытно увидеть, что он предпримет, чтобы сохранить достоинство. Благородный Вандеец не просто наслаждался высокой оценкой в свете; но еще более счастливый, чем другие отцы, он дорожил оценкой семьи, чьи члены признавали солидные качества, использованные им, чтобы создать своим состояние. Он был окружен глубоким уважением, которое свидетельствовали английские семьи и некоторые аристократические дома континента представителю генеалогического древа. Он хранил глубокое молчание, и глаза гостей поочередно неслись то к надутому и высокомерному лицу избалованного ребенка, то к строгим лицам мосье и мадам де Фонтень.
– Я позволил моей дочери Эмилии быть хозяйкой своей судьбы, – бросил граф глубоким тоном.
Тогда родственники и гости посмотрели на мадмуазель де Фонтень с любопытством, смешанным с жалостью.
Это слово, казалось, объявляло, что отцовская доброта устала бороться с характером, который семья считала неисправимым. Зятья шептались, братья бросили их женам шутливые улыбки. С этого момента все перестали интересоваться браком юной девушки. Только один дядюшка, как старый моряк, осмеливался доходить до последней черты и сносил ее выходки, никогда не смущаясь отвечать огнем на огонь.
Когда после голосования о бюджете наступило прекрасное время, эта семья, истинная модель парламентских семей с другого края Ла Манша, имеющих «лапу» во всех администрациях и десять голосов в Муниципалитете, улетела, как выводок птиц, через прекрасные места Дольнэ, Дантони, Шатнэ. Богатый генерал купил для своей жены в окрестностях загородный дом, так как в течение летнего сезона она не оставалась в Париже. Хотя прекрасная Эмилия презирала обычное, это чувство не касалось презрения к выгодным доходам, скопленным буржуазией. Она сопровождала сестру на ее пышную виллу не столько из дружбы, не для семьи, которая там укрывалась, а потому что хороший тон властно этого требовал от всех женщин, уважающих отсутствие летом в Париже. Зеленая местность Со изумительно отвечала требованиям хорошего тона и долгу общественных перемен. Поскольку было немного сомнительно, чтобы репутация пасторального бала в Со превысила пределы департамента Сены, необходимо нарисовать некоторые детали еженедельного праздника, по своей важности угрожавшего превратиться в учрежденный на постоянно. Окрестности маленького местечка Со пользовались славой благодаря местоположению; туда перебирались, чтобы ими восхищаться. Может быть, они были самыми обыкновенными и стали известными только по глупости парижской буржуазии, которая, выходила в бездны щебня, чтобы восхищаться равнинами Бос. Однако поэтические тенеты Дольнэ, холмы Дантони и долину Бьевра населяли несколько странствующих художников, незнакомцев, очень сложных людей, множество красивых женщин, у которых не отсутствовал вкус, и это заставляло верить, что парижане правы. Но Со обладало другой, не менее властной над парижанами привлекательностью. Посреди сада, где открывались восхитительные виды, находилась огромная, открытая со всех сторон ротонда, чей купол, легкий и огромный, поддерживался элегантными колоннами. Этот пасторальный навес защищал зал для танцев. В течение сезона редкие деревенские жители, сияющими кавалькадами, в элегантных и легких каретах, припудренных пылью пешеходов-философов, не съездили хоть раз или два во дворец деревенской Терпсихоры. Надежда встретить прекрасную светскую женщину и быть замеченным ею, надежда менее часто обманывающая: увидеть юных крестьянок, таких же хитрых, как их ценители; прибегали на бал в Со в воскресенье многочисленные рои клерков-адвокатов, учеников Эскулапа, и юные молодые люди, чей белый свежий оттенок поддерживался влажным воздухом парижских магазинов, где они стояли у служебного входа. Множество брачных союзов задумывалось под звуки оркестра, занимавшего центр круглой залы. Если бы ее крыша могла говорить, о скольких любовях она бы поведала!
Эта интересная особенность «сходок» в Со делала этот бал более пикантным, чем два других бала в пригородах Парижа; ротонда этого бала, красота видов и приятность сада, создавали неоспоримую выгоду. Эмилия первая выразила желание заполнить публикой веселый местный бал, пообещав себе огромное удовольствие от нахождения посреди деревенского сборища. Все удивлялись ее желанию блуждать в такой толпе; но разве инкогнито не является для знати самым живым наслаждением? Мадмуазель де Фонтень наслаждалась, выполняя все эти повороты, она видела оставленные в самом сердце буржуа воспоминания о взгляде и об очаровательных улыбках и уже смеялась над танцорами с претензиями, и готовила карандаши для сцен, которыми могла обогатить страницы своего сатирического альбома. По воле ее нетерпения, воскресенье никогда не приходило достаточно рано. Общество павильона Плана шло пешком, чтобы не совершить неосмотрительности к рангу тех персон, которые хотели почтить бал своим присутствием. Обедали рано. Наконец, месяц май способствовал этой аристократической эскападе одним из самых прекрасных своих вечеров. Мадмуазель де Фонтень удивлялась, обнаружив в ротонде несколько кадрилей, составленных из людей, казалось, принадлежавших к хорошему обществу. И здесь, и там она хорошо видела нескольких молодых людей, казалось, месяц экономивших, чтобы блистать один день здесь; она заметила несколько пар, чья искренняя радость не обвиняла ни в чем супружеском; но она могла только подбирать, вместо того чтобы собирать урожай. Она удивлялась, видя, что удовольствие одетых в перкаль так сильно похоже на удовольствие одетых в атлас, что буржуа танцуют с такой же грацией или несколько лучше, чем танцует дворянство. Большинство нарядов были просты и хорошо сидели. Те, кто в этом обществе представлял сюзеренов территории, крестьяне держались в уголке с невероятной вежливостью. Мадмуазель Эмилии понадобилось даже поупражняться в некоторых элементах, которые исполняла эта публика, прежде чем она нашла предмет для забавы. Но у нее не было времени ни на доставление злой критики, ни на выбор заметных комментариев, с радостью собираемых карикатуристами.
Гордая натура внезапно встретила в этом огромном поле цветок, метафору времени, чье сияние и цвета воздействовали на ее воображение авторитетом новизны. Мы часто смотрим на платье, на стену, на белую бумагу достаточно отвлеченно, чтобы не наблюдать на поле пятно или яркую точку, которые позднее поразят весь наш взор, как если бы они возникли в нем только в то мгновение, когда мы их увидели; феноменальный моральный тип, достаточно похожий на это: мадмуазель де Фонтень различила в толпе молодого человека, внешне совершенного, о котором она так долго мечтала. Сидя на одном из грубых кресел, составлявших обязательный облик залы, она разместилась в конце группы, сформированной ее семьей, собираясь, наконец, подняться или предполагая отдаться своим фантазиям, включаясь в живые картины и группы этой залы, как на музейной выставке. Она дерзко наводила свой лорнет на персону, находившуюся в двух шагах от нее, делала свои размышления, как если бы она была критиком или художником, лепившим голову или жанровую сцену. Ее взгляд, словно блуждавший по огромному живому холсту, выхватил вдруг лицо, которое, казалось, нарочно поместили в уголке картины, в самом прекрасном освещении, за пределами всякой соразмерности с остальными.
Незнакомец, мечтатель и одиночка, легко прислонившись к одной из колонн, поддерживавших крышу, скрестив руки, держался, поворотясь, словно чтобы позволить живописцу написать его портрет. Полная элегантности и гордости, эта манера была свободной. Ни один жест не указывал, что он специально на три четверти повернул свое лицо и слабо склонил голову вправо, как Александр, как лорд Байрон, как некоторые другие великие люди, с единственной целью – привлечь к себе внимание. Его остановившийся взгляд следовал за движениями танцорши и менялся от какого-то глубокого чувства. Его тонкая и свободная талия напоминала тонкие пропорции Аполлона. Его прекрасные черные волосы естественно кудрявились на его высоком лбу. С первого взгляда мадмуазель де Фонтень заметила тонкость его белья, свежесть козьих перчаток, очевидно, хорошей выделки, миниатюрность ног, уютно обутых в ботинки из ирландской кожи. На нем не было никаких отвратительных безделушек, которыми обвешивались маленькие хозяева национальной гвардии или Адонисы прилавка. Только черная лента (на ней висел его лорнет) плыла на аккуратно скроенном жилете. Никогда трудная Эмилия не видела таких смутных глаз, таких длинных, таких изогнутых ресниц. Меланхолия и страсть дышали в этом лице, характеризовавшемся мужественным оливковым оттенком. Его рот все время казался готовым улыбнуться и поднимал уголки красноречивых губ; но это положение, далеко не веселое, являло, скорее, сорт печальной грации. В этой голове было слишком много будущего, слишком двоилась личность, чтобы можно было сказать: «Вот прекрасный молодой человек или красивый человек. Хорошо бы познакомиться с ним». Увидев незнакомца, самый проницательный наблюдатель не мог не принять его за человека талантливого, привлеченного к деревенскому празднику каким-то властным интересом.
Эта масса наблюдений стоила Эмилии не больше минуты ее внимания, в течение которой особенный молодой человек был подвергнут строгому анализу, стал объектом восхитительной тайны. Она не говорила себе: «Нужно, чтобы он был пэром Франции!» Но она думала: «О! Если он благороден, тогда он обязательно должен быть…» Не закончив мысли, она поднялась вдруг, следуя за своим братом, генерал-лейтенантом, к колонне, казалось, наблюдая за радостной кадрилью, но, по искусной оптике, свойственной женщинам, она не потеряла ни единого из движений молодого человека, к которому приблизилась. Незнакомец вежливо отступил, чтобы уступить место двум гостям, и придвинулся к другой колонне. Эмилия, взволнованная вежливостью незнакомца, настолько же вежливого, насколько она была дерзка, принялась говорить со своим братом гораздо громче, чем это позволяли правила хорошего тона; она сделала особенное лицо, увеличила жестикуляцию, не слишком по теме смеялась, не затем чтобы развеселить брата, а чтобы понравиться невозмутимому незнакомцу. Ни в каких маленьких хитростях она не преуспела. Тогда мадмуазель де Фонтень последовала в направлении, которое занимал взгляд молодого человека, и заметила причину его небрежности.
Посреди кадрили, находившейся перед ней, танцевала молодая бледная девушка, казавшаяся божеством экосеза, которую Жироде разместил в своей огромной композиции французских воинов перед Оссианом11. Эмилия поняла, что узнала в девушке блестящую леди, в течение недолгого времени поселившуюся в соседнем местечке. Она имела кавалером молодого человека пятнадцати лет, с красными руками, в нанковых панталонах, в синей одежде, в белых туфлях, который доказывал ее любовь к танцам и то, что она не испытывала трудности в выборе партнера. В ее движениях не чувствовалось слабости; но легкая краска освещала ее белые щеки, и цвет ее лица начинал меняться. Мадмуазель де Фонтень приблизилась к кадрили, чтобы иметь возможность изучить незнакомку в момент, когда та вернется на свое место, пока ее визави повторяли необходимые фигуры. Но незнакомец опередил ее, поклонился красивой танцорше, и любопытная Эмилия смогла отчетливо услышать слова, произнесенные повелительным и нежным голосом:
– Клара, дитя мое, не танцуйте больше.
Клара сделала маленькую надутую гримасу, склонила голову в знак покорности и перестала улыбаться. После контрданса молодой человек с предосторожностью возлюбленного укутал плечи девушки кашемировой шалью и попросил ее сесть таким образом, чтобы на нее не дуло. Вскоре мадмуазель де Фонтень, видевшая их, поднялась и прошлась вокруг ротонды, как люди, расположенные уйти, но нашла предлог, что хочет полюбоваться видами сада. Ее брат с хитрым добродушием поддался капризу этой достаточно странной прогулки. Эмилия заметила эту красивую пару, показавшуюся в элегантном тильбури12 (его сопровождал слуга на лошади и в ливрее). В момент, когда молодой человек сел и постарался сделать вожжи равными, она сначала добилась от него одного из взглядов, которые без цели бросают на большую толпу; но испытала слабое удовлетворение, увидев, что он повторно поворачивает голову в ее направлении; молодой незнакомец подражал ей. Это не предмет ли ревности?
– Я полагаю, ты теперь достаточно осмотрела сад, – сказал ей брат. – Мы можем вернуться к танцу.
– Я очень этого хочу, – ответила Эмилия. – Как полагаете, это леди Дадли?
– Она не выходит без Феликса Ванденесса, – сказал ей брат, улыбаясь.
– Леди Дадли не может быть, она у родителей…
– Молодой человек, да, но юная леди – нет, – сказал барон де Фонтень.
На следующий день мадмуазель де Фонтень заявила, что хочет прогуляться на лошади.
Незаметно она приучила своих братьев и старого дядю сопровождать ее в утренних прогулках, очень полезных, говорила она, для ее здоровья. Она любила исключительно окрестности деревни, возле которых жила леди Дадли. Несмотря на кавалерийские маневры, несмотря на радостные поиски, коим она предавалась, заставлявшие ее надеяться, она не увидела незнакомца так скоро. Несколько раз она возвращалась на бал в Со, но не могла найти юного англичанина, упавшего с неба, чтобы возвышаться в ее мечтах и украшать их. Хотя ничто больше не подстрекало любви юной девушки, кроме преграды, был момент, когда мадмуазель Эмилия де Фонтень была готова отказаться от своего странного и тайного преследования, почти отчаявшись в успехе предприятия, чья необыкновенность могла создать представление о смелости ее характера. На самом деле она могла долго кружить вокруг деревни Шатни, не увидев вновь своего незнакомца. Юная Клара (таково было имя, услышанное мадмуазель де Фонтень) не была англичанкой, и так называемый иностранец не жил в благоуханных и цветущих рощах Шатни.
Однажды вечером Эмилия выехала на лошади со своим дядей, который добился от своей подагры довольно долгого прекращения военных действий, и встретила леди Дадли. Рядом с блестящей незнакомкой в ее карете находился мосье Ванденесс. Эмилия узнала пару, и ее предположения рассеялись, как рассеиваются сны. Огорченная, как все расстроенные своими ожиданиями женщины, Эмилия повернула поводья так быстро, что ее дядя испытал все горести мира, следуя за ней, так она пришпорила своего пони.
– По-видимому, я слишком стар, чтобы понимать переживания двадцатилетних, – сказал себе старый моряк, пуская лошадь галопом, – или, может быть, юность сегодня не напоминает прошлую? Однако, что моя племянница? Вот теперь движется маленькими шагами, как жандарм, патрулирующий улицы Парижа. Не будем говорить, что она хочет окружить этого бравого буржуа, у меня создается впечатление, что он автор, мечтающий о поэзии, так как, я полагаю, он ходит с альбомом в руке. По-моему, я большой дурак! Не этого ли человека мы ищем?
С такой мыслью старый моряк тихо пошел на лошади по песку таким образом, чтобы бесшумно оказаться подле племянницы. Вице-адмирал оставил слишком много темных пятен в году 1771 и в следующих эпохах наших летописей, когда в чести была обходительность, чтобы тотчас не догадаться, что Эмилия встретила незнакомца на балу в Со по самой большой случайности. Несмотря на пелену, наложенную возрастом на его постаревшие глаза, граф Кергаруэт видел у племянницы признаки необычайного волнения, постоянную досаду, которую она пыталась выразить на своем лице. Сверлящие глаза юной девушки в своего рода ступоре остановились на незнакомце, мирно шедшем перед ней.
– Хорошо, – сказал себе моряк, – она последует за ним, как торговый корабль за корсаром. Когда она увидит его удаляющимся, она испытает отчаяние, не зная, кого она любит, маркиз ли это или буржуа, и тогда станет его игнорировать. Поистине молодые головы превращаются подле нее в старых попугаев, как я.
Вдруг он неожиданно толкнул свою лошадь, чтобы поехать вслед за племянницей, и так быстро пронесся между ней и молодым пешеходом, что заставил незнакомца броситься на зеленый откос, окружавший дорогу. Сразу же остановив свою лошадь, граф воскликнул:
– Не могли бы вы уступить дорогу?
– Ах, простите, мосье, – ответил незнакомец. – Я не заметил, но это ваше дело – принести мне извинения в том, что вы свалили меня с ног.
– Ах, друг, закончим, – зло продолжил моряк, беря звуком голоса насмешливую интонацию, имевшую что-то оскорбительное.
В это самое время граф поднял свой хлыст, словно чтобы стегнуть лошадь, коснулся плеча своего собеседника, сказав: – Либеральный буржуа мыслит, а все мыслители должны быть мудры.
Молодой человек, слушая эти сарказмы, поднимался по насыпи; он скрестил руки и сильно взволнованным тоном ответил:
– Мосье, я не могу поверить, видя ваши седые волосы, что вы веселитесь, ища дуэлей.
– Седые волосы? – воскликнул моряк, прерывая его, – Ты лжешь, они не седые.
Спор в несколько секунд стал таким жарким, что молодой противник забыл умеренный тон, который он пытался сохранить. И когда граф Кергаруэт увидел племянницу со всеми признаками глубокого беспокойства, он объявил свое имя противнику, прося сохранять молчание перед юной персоной, вверенной его заботам. Незнакомец не смог скрыть улыбку и отдал свою карточку старому моряку, заметив, что живет в деревне Шеврез, и вскоре после этого удалился.
– Вы едва не ранили бедного незнакомца, моя племянница, – сказал граф, скоро шагая впереди Эмилии. Разве вы не умеете удержать поводья вашей лошади? Вы позволили себе скомпрометировать мою честь, чтобы покрыть ваши безумства. Пока что, если вы остановитесь, единственного вашего взгляда или вежливого слова, одного из тех, которые вы произносите так красиво, когда вы не дерзки, будет достаточно, чтобы все исправить.
– Мой дорогой дядя, это ваша лошадь, а не моя явилась причиной ссоры. Я полагаю, на самом деле, вы не можете больше садиться верхом, вы уже не тот кавалер, каким были в прежние годы. Но, вместо того чтобы ничего не говорить…
– Ничего. Значит, ничего, что сделает дерзость вашему дяде?
– Но нужно узнать, не ранен ли этот молодой человек? Видите, дядя, он прихрамывает.
– Нет, он бежит. Ах, я грубо к нему придирался.
– Ах, дядя, я узнаю вас в этом.
– Остановитесь, – сказал граф, беря лошадь Эмилии за поводья. – Я не вижу необходимости заигрывать с хозяином лавки, которого слишком осчастливили, бросила ли его на землю очаровательная юная девушка или с ним разделался командующий Бель-Пуль.
– Почему вы предполагаете, что это простолюдин, мой дорогой дядя? Мне кажется, у него слишком почтенные манеры.
– У всех сегодня манеры, моя племянница.
– Ну нет, мой дядя, весь свет не использует оборотов речи, имеющих место в гостиных, и я поспорила бы с вами, что этот молодой человек благороден.
– У вас немного времени, чтобы это проверить.
– Но я уже не в первый раз вижу его.
– Вы ищете его уже не в первый раз, – ответил, смеясь, адмирал.
Эмилия покраснела, и дядюшка на некоторое время оставил ее в смущении. Потом он сказал:
– Эмилия, вы знаете, что я люблю вас, как своего ребенка, именно потому, что вы единственная из семьи обладаете законной гордостью, которую дает высокое рождение. Моя маленькая племянница, поверившая, что добрые принципы становятся такими редкими? Я хочу быть вашим доверенным лицом. Моя милая малышка, я вижу, что юный молодой человек вам не безразличен. Тише… Они забавляются нами в семье, если только мы плывем под недобрым флагом. Вы знаете, что я хочу сказать. Позвольте мне вам помочь, моя племянница. Сохраним все в секрете, и я вам обещаю, что вы сможете ввести его в центр гостиной.
– И когда, мой дядя?
– Завтра.
– Но, дядя. От меня ничего не потребуется?
– Совсем ничего, будьте спокойны, моя милая племянница, – сказал он Эмилии, – вы можете бомбардировать, сжигать, завоевывать его с чистой совестью, как старую каракку13, если вы этого хотите; это не в первый раз, не правда ли?
– Вы добры, мой дядя.
Сразу же, как только граф вернулся к себе, он надел очки, достал из кармана карточку и прочел: «Максимилиан Лонгвиль, улица Сонтьер».
– Будьте спокойны, моя милая племянница, – сказал он потом Эмилии, вы можете на него охотиться со всею добросовестной надежностью, он принадлежит к одной из исторических наших семей, и если он не пэр Франции, то непременно им будет.
– Откуда вы знаете так много вещей?
– Это мой секрет.
– Вы знаете его имя?
Граф, достаточно напоминавший старый ствол дуба, вокруг которого летали какие-то скрученные холодной осенью листочки, в молчании склонил свою седую голову; по этому знаку племянница попыталась оказать на него влияние всякий раз новым своим кокетством. Обученная искусству обольщения старого моряка, она расточала ему самые детские ласки, самые нежные слова, она даже поцеловала его, чтобы достичь разоблачения такой важной тайны. Старик, всю жизнь заставлявший племянницу разыгрывать перед ним подобные сцены, за которые часто он платил ей ценой украшений или купленной ложей в итальянской опере, на этот раз был доволен отбросить молитву и приласкаться. Но, поскольку он продлил удовольствие слишком надолго, Эмилия разозлилась, перешла от нежностей к сарказмам и надулась, а потом в ней возобладало любопытство. Моряк дипломатически добился от своей племянницы торжественного обещания быть в будущем более сдержанной, более нежной, менее своевольной, тратить меньше денег и сразу все ему рассказывать. Договор заключили и подписали поцелуем на белом лбу Эмилии; он отвел ее в угол гостиной, посадил себе на колени, положил карточку под два своих пальца, скрывая ее, открывая букву за буквой имя Лонгвиля и очень настойчиво отказывался открывать все остальное. Это событие вернуло чувству мадмуазель де Фонтень чрезвычайную интенсивность. В течение большей половины ночи она развернула перед собой самую блестящую картину мечтаний, питавших ее надежды. Наконец, благодаря этому случаю, о котором она так часто молила, она увидела теперь совсем другие вещи, а прежнее было химерой, воображаемым богатством золотившей будущую супружескую жизнь. Как все молодые люди, игнорирующие опасность любви и брака, она страстно увлекалась обманчивой внешней оболочкой брака и любви. Можно ли было сказать, что чувство зародилось, как зарождаются почти все причуды юности, нежные и жестокие ошибки, в которых с таким роковым влиянием на их существование упражняются молодые девушки, достаточно неопытные, для того чтобы полагаться только на себя, заботясь о грядущем счастье? На следующий день, как только Эмилия проснулась, ее дядя побежал в Шеврёз. Увидев прекрасный особняк молодого человека, вчера почувствовавшего себя оскорбленным, дядя отправился к тому, чтобы выразить теплую ласку дворянина старых времен.
– Эх, мой милый мосье, кто бы сказал, что я устрою ссору в возрасте семидесяти трех лет с сыном или с внуком одного из лучших моих друзей? Я вице-адмирал, мосье. Вы могли бы сказать, что меня смущает участие в дуэли так же мало, как выкуривание сигары. В мое время два молодых человека не могли стать близкими людьми, если не увидели крови друг друга. Но, брюхо лани! Вчера, будучи моряком, я залил рома до краев, на меня нашло. Я привык, скорее, получить сто резких отказов от Лонгвиля, чем причинить малейшую боль его семье.
Какую бы холодность ни пытался показать маркиз графу Кергаруэту, он не мог долгое время таить искреннюю доброту своих манер, ему оставалось только пожать графу руку.
– Вы собирались отправиться верхом, – сказал граф, – не смущайтесь. Но, по крайней мере, если у вас нет никаких планов, приезжайте ко мне, и я устрою для вас обед в павильоне Плана. Мой племянник, граф де Фонтень, человек известный. Я собираюсь компенсировать мою резкость знакомством с пятью самыми красивыми женщинами Парижа. Ну, ну! Молодой человек, лоб ваш наморщился. Я люблю молодых людей, и я люблю видеть их счастливыми. Их счастье напоминает мне о прекрасных годах моей юности и о приключениях, присутствовавших в нашей жизни не меньше дуэлей. Мы были веселы тогда! Сегодня вы рассудительны и беспокоитесь обо всем, как если бы не было ни пятнадцатого, ни шестнадцатого веков.
– Но, мосье, разве мы не правы? Семнадцатый век дал нам только религиозную свободу Европы. Девятнадцатый век дал нам поли…
– Ах, не будем говорить о политике. Я ультра-гововотяп, как видите. Я не мешаю молодым людям быть революционерами, при условии, что они предоставят королю свободу рассеять собрания.
Спустя несколько шагов, когда граф и его молодой товарищ находились среди деревьев, моряк заметил достаточно тонкую березку, привязал свою лошадь, взял один из своих пистолетов и с пятнадцати шагов попал в середину дерева.
– Вы видите, мой милый, что я не боюсь дуэлей, – с комической серьезностью сказал граф, посмотрев на мосье Лонгвиля.
– Я не больше, – ответил последний, зарядил свой пистолет и выстрелил в ту же точку, которую сделала в дереве пуля графа, разместив выстрел рядом с целью.
– Вот что такое хорошо обученный молодой человек, – с энтузиазмом воскликнул моряк.
В течение прогулки, которую он сделал с тем, на кого смотрел уже как на племянника, граф нашел тысячу возможностей поговорить о разных пустяках, что показало совершенную осведомленность Лонгвиля, соответствие коду благородного человека.
– Имеете ли вы долговые обязательства? – спросил граф у своего нового друга после всех вопросов.
– Нет, мосье, – ответил тот.
– Как? Вы платите все, в полном объеме?
– Точно так, мосье, – в противном случае, мы потеряем весь кредит и уровень оценок.
– Но, по крайней мере, у вас больше одной любовницы? Ах, вы покраснели, мой друг! Нравы меняются. Юность испорчена идеями юридического порядка, кантиантства и свободы.
У вас нет ни Гимара, ни Дюте, ни кредиторов, вы не знаете геральдики; но, мой юный друг, вы не ученик! Знаете, тот, кто не совершает безумств весной, делает их зимой. Если в семьдесят лет у меня восемьдесят тысяч ливров дохода, это оттого что в тридцать лет я съел капитал… С моей женой, со всей честью. Тем не менее, ваши недостатки не мешают мне пригласить вас в Плана. Подумайте, что вы обещали мне приехать, и я буду ждать вас.
– Какой особенный старичок! – сказал себе юный Лонгвиль. – Он крепкий и сильный. Хотя он хочет казаться порядочным человеком, я не буду этим гордиться.
Назавтра, в четыре часа, когда компания была разбросана в гостиных и биллиардных, слуга доложил о новом госте особняка, мосье де Лонгвиле. На имя избранника старого графа Кергаруэта все, до игрока, собиравшегося пропустить мяч, сбежались, чтобы наблюдать присутствие духа в мадмуазель де Фонтень, чтобы судить о человеческом фениксе, заслужившем похвального отзыва в ущерб соперникам. Действия молодого человека были элегантны, манеры просты, формы благородны; нежный голос и тембр, вибрировавший по струнам сердца, принесли мосье Лонгвилю благоволение всей семьи. Он не казался чужаком в роскоши пышной обстановки генерала. Хотя беседовал он как светский человек, каждый мог легко догадаться, что он получил самое блестящее образование, что его знания солидны и обширны. Он хорошо находил собственное слово в дискуссии, довольно легко возбуждая в старом моряке желание говорить на морские темы, и одна из женщин обратила внимание, что он кажется выходцем из Политехнической школы.
– Я полагаю, сударыня, – отвечал Лонгвиль, что на Политехническую школу можно смотреть как на славное название, куда почетно войти.
Несмотря на все настояние, которое ему делали, он вежливо, но твердо отказывался, в ответ на упорное желание задержать его на обед, прервал наблюдения дам, сказав, что является Гиппократом для юной сестры, чье хрупкое здоровье требует большой заботы.
– Мосье, без сомнения, врач? – спросила с иронией невестка Эмилии.
– Мосье окончил Политехническую школу, – с добротой сказала мадмуазель де Фонтень, чье лицо ожило более богатыми оттенками в тот момент, когда она поняла, что юная девушка, увиденная ею на балу, это сестра мосье де Лонгвиля.
– Но, моя милая, можно быть врачом и представителем Политехнической школы, не так ли, мосье?
– Ничего нет невозможного, мадам, – ответил молодой человек.
Все глаза устремились на Эмилию, смотревшую на соблазнительного незнакомца с особенно беспокойным любопытством. Она вздохнула свободнее, когда он не без улыбки добавил:
– Не имею чести быть врачом, мадам, я даже отказался от поступления на службу мостов и дорог, чтобы сохранить мою независимость.
– Вы правильно сделали, – сказал граф. – Но как вы относитесь к назначению быть врачом? – добавил благородный бретонец. – Ах, мой юный друг, для такого человека, как вы…
– Мосье граф, я бесконечно уважаю все профессии, имеющие полезную цель.
– Э-э! Мы согласны: вы уважаете эти профессии, а я представляю, как молодой человек уважает богатую вдову.
Визит мосье де Лонгвиля не был ни слишком долог, ни слишком короток. Он ушел, когда заметил, что вовсю идет дождь и что к нему пробудилось всеобщее любопытство.
– Это проныра, – сказал граф, возвращаясь после того, как проводил гостя.
Одна мадмуазель де Фонтень была заинтригована этим визитом, она надела довольно изысканный наряд, чтобы обратить на себя внимание молодого человека. Но она немного огорчилась, увидев, что он не обращает на нее внимания. Семья была достаточно удивлена молчанием, в которое укрылась Эмилия. По обыкновению Эмилия распустила для нового знакомого свою остроумную болтовню, неисчерпаемое красноречие взглядов и манер. Или мелодичный голос молодого человека привлек ее своими очаровательными особенностями, или она всерьез влюбилась; это чувство управляло ею и меняло ее, поддержание разговора потеряло всякую ненатуральность. Став простой и естественной, она, без сомнения, должна была казаться более прекрасной. Некоторые сестры и старая дама, подруга семьи, увидели в ее поведении изысканность кокетства. Они предположили, что, посчитав молодого человека достойным себя, Эмилия, может быть, намеревалась показать некоторые свои преимущества не сразу, чтобы ослепить его вдруг в момент, когда она ему понравится. Всем членам семьи было забавно узнать, что капризная девушка думает о незнакомце; но, когда во время обеда каждый наделял Лонгвиля новыми качествами, претендуя на единственность открытия, мадмуазель де Фонтень какое-то время оставалась молчалива. Легкий сарказм ее дяди пробудил ее от апатии; в своей достаточно насмешливой манере она сказала, что это небесное совершенство, должно быть, скрывает большой изъян, и она одна будет осторожно по первому взгляду судить о человеке, который кажется таким дельным. Она добавила, что те, кто нравятся всем, не приносят удовольствия никому; самая ужасная из всех ошибок – не иметь их. Как все молодые влюбленные девушки, она лелеяла надежду, что сможет спрятать свое чувство в глубине сердца, обманув окружавших его Аргусов; но спустя две недели не было ни одного из членов многочисленной семьи, кто не был бы посвящен в этот маленький домашний секрет. Во время третьего визита мосье де Лонгвиля Эмилия поверила, что с ним возможно многое. Это открытие доставило ей такое опьяняющее удовольствие, что она удивилась, что еще может рассуждать. Было в этом что-то мучительное для ее гордости. Привыкшая быть центром света, она была вынуждена признать силу, влекущую ее за пределы ее существа. Она пыталась возмутиться, но не могла угнаться за своим сердцем, соблазнившимся образом молодого человека. Потом сразу пришло беспокойство. На самом деле, два качества мосье Лонгвиля, очень противоположные общему любопытству к нему и любопытству мадмуазель де Фонтень, были в нем: сдержанность и неожиданная скромность. Он никогда не говорил ни о себе и о своих занятиях, ни о своей семье. Тонкости, которые Эмилия сеяла в разговоре, и ловушки, расставленные ею, чтобы вырвать у молодого человека информацию о нем самом, он разгадывал с умелостью дипломата, желавшего скрыть тайны. Если она говорила о живописи, мосье Лонгвиль отвечал, как знаток. Занималась ли она музыкой, молодой человек доказывал, что он достаточно силен за фортепиано. Как-то вечером он очаровал всю компанию, в одном из дуэтов Чимарозы слившись голосом с Эмилией; но, когда попытались узнать, художник ли он, он отшутился с такой грацией, что не позволил женщинам упражняться в искусстве догадок о чувствах, в возможности открыть, к какой социальной сфере он принадлежит. С какой смелостью дядя Эмилии зацепил якорь этого корабля, с такой же гибкостью Лонгвиль ускользал, чтобы сохранить очарование тайны; настолько легко ему было оставаться прекрасным незнакомцем в особняке Плана, насколько любопытство не выходило здесь за рамки вежливости. Эмилия, измученная этой сдержанностью, надеялась получить тайные сведения от сестры, а не от брата. Поддерживаемая своим дядей, рассуждавшим об этом маневре так же, как о корабле, она попыталась вывести на сцену еще один молчаливый персонаж, Клару Лонгвиль. Общество павильона скоро высказало свое самое огромное удовольствие – узнать эту прекрасную особу, которая могла бы обеспечить ему некоторое развлечение. Бал был предложен и принят без церемоний. Дамы не полностью отчаялись поговорить с юной девушкой шестнадцати лет.
Несмотря на маленькие нюансы, сотворенные намеками и любопытством, живой свет пронизывал душу мадмуазель де Фонтень, которая восхитительно наслаждалась очарованием существования, связанного с другим, а не с собой. Она начала постигать социальные связи. Или счастье делает нас лучше, или она была слишком занята, чтобы мучить других, мадмуазель де Фонтень становилась менее колкой, более терпеливой, более нежной. Перемены ее характера очаровали удивленную семью. Может быть, после всего ее эгоизм метафоризировался в любовь? Ожидать появления ее робкого и тайного обожателя было ее глубокой радостью. Ни единого страстного слова не было произнесено между ними, она сама знала, что любима; и с каким искусством наслаждалась она, заставляя незнакомца развертывать перед ней сокровища образованности, которые он ей разнообразно демонстрировал! Она заметила, что за ней тоже заботливо наблюдают, и она пыталась победить все ошибки, которые вырастило в ней ее образование. Не было ли это первой хвалой, возвращающей любовь, и жестоким упреком, что эта любовь адресована себе самой? Она хотела нравиться, она очаровывала; она любила, она заставляла боготворить себя. Ее семья знала, что она хранима своей гордостью, и давала ей достаточно свободы, чтобы она могла наслаждаться этими маленькими детскими удовольствиями, которые вносили такое очарование и неистовство в первую любовь. Несколько раз молодой человек и мадмуазель де Фонтень прогуливались одни в аллее того парка, где природа была похожа на женщину, едущую на бал. Несколько раз они беседовали вдвоем без цели и дела, чьи фразы были пусты чувствами, скрывавшими еще более глубокие чувства. Часто вместе они восхищались заходом солнца и богатством цветов. Они собирали маргаритки, чтобы срезать листья, и пели дуэтом самые страстные страницы, найденные в нотах Перголези и Россини, как верные посредники, выражая их тайны.
Настал день бала. Клара Лонгвиль и ее брат, которых слуги настойчиво украшали благородной частицей де, казались героями. В первый раз в своей жизни мадмуазель де Фонтень с удовольствием смотрела на триумф юной девушки. Она искренне выказывала Кларе изящные ласки и заботу, какие в ходу между женщинами, только чтобы возбудить ревность мужчин. Но Эмилия имела цель, она хотела узнать тайны. Сдержанность мадмуазель Лонгвиль была, по крайней мере, равна сдержанности ее брата; по девичьим качествам, она проявила больше тонкости и ума, чем он, так как у нее даже мысли не было что-то скрывать; она умела вести беседы на странные темы, касавшиеся материальных интересов; и на все она набрасывала такое очарование, что мадмуазель де Фонтень почувствовала что-то вроде зависти и назвала ее сиреной. Хотя у Эмилии появился замысел, как заставить Клару заговорить, это сделала Клара, которая стала расспрашивать Эмилию; та хотела судить ее, но была судима ею. Эмилия часто злилась, позволяя своему характеру проявиться в ответах, которые из нее ловко вытягивала Клара, чья скромность и чистота отчуждали обвинения в вероломстве. Настал момент, когда мадмуазель де Фонтень казалась разозленной на то, что, провоцируемая Кларой, неосторожно напала на простолюдинов.
– Мадмуазель, – сказало ей очаровательное существо, – я слышала о вас от Максимилиана, у меня возникло живое желание узнать вас из-за привязанности к нему, но хочу спросить, хотите ли вы полюбить?
– Моя дорогая Клара, я боялась вызвать ваше недовольство, когда говорила о тех, кто неблагороден.
– О! Уверяю вас! Сегодня это разновидность спора без объекта. Что касается меня, они меня не достигают: я за пределами вопроса, – ответила Клара.
Несмотря на честолюбие этого ответа, мадмуазель де Фонтень почувствовала глубокую радость; потому что, как все страстные люди, она объяснялась, как объясняются оракулы, с чувством, которое согласно желанию, и вернулась к танцу более радостная, чем когда смотрела на Лонгвиля, чей облик, чья элегантность даже превосходили, может быть, воображаемый тип. Она почувствовала большую удовлетворенность, мечтая, что он благороден; его черные глаза мерцали, она танцевала с таким удовольствием, которое находим от присутствия того, кого любим. Никогда двое возлюбленных не слышали друг друга лучше, чем в этот момент. Несколько раз они чувствовали, как края их пальцев дрожат и трепещут, когда они сливались благодаря правилам контрданса.
Посреди деревенских удовольствий и праздников красивая пара достигла начала осени, позволив себе нежно отдаться потоку чувств, самых милых в жизни, усиливавшихся от тысячи маленьких случаев, которые каждый может вообразить; любовь в каких-то вопросах оказывалась схожей. И один, и другая, они изучали себя настолько, насколько могут изучать себя те, кто любят.
– Наконец, ни один любовный роман никогда так быстро не склонялся к браку, как этот, – проговорил старый дядя, следивший за молодыми, как натуралист, разглядывающий насекомое в микроскоп.
Это слово испугало мосье и мадам де Фонтень. Старый Вандеец перестал быть таким безразличным к браку своей дочери, каким он обещал быть ранее. Он искал в Париже информацию и не находил ее. Он беспокоился относительно этой тайны и еще не знал, каким будет результат этого беспокойства, он просил парижского управляющего провести расследование, касавшееся семьи Лонгвиль, он считал, что должен предупредить свою дочь о необходимости осторожного поведения. С притворным послушанием, полным иронии, Эмилия приняла отцовские слова.
– По крайней мере, дорогая Эмилия, если вы любите его, не признавайтесь ему.
– Отец, правда, что я люблю его, но я подожду, чтобы сказать ему, что вы мне это позволяете.
– Однако, Эмилия, подумайте, что вы не знаете еще его семью и его положение.
– Но, если я не знаю, я очень хочу знать. И, мой отец, вы желаете увидеть меня замужем, вы мне дали свободу сделать выбор, мой сделан безвозвратно, чего же больше?
– Нужно знать, мое дорогое дитя, выбрала ли ты сына пэра Франции, – иронически ответил почтенный господин.
Эмилия на мгновение замолчала. Она подняла голову, посмотрела на отца и с беспокойством сказала ему:
– Неужели семья Лонгвиль…
– Умерший старый герцог Роштейн-Лимбург погиб на эшафоте в 1793 году. Он был последним отростком последней младшей ветви.
– Но, мой отец, есть много хороших домов, произошедших от бастардов. История Франции изобилует принцами, которые поставили решетку на свой щит.
– Твои мысли очень изменчивы, – сказал, улыбаясь, пожилой джентльмен.
Назавтра был последний день, который семья де Фонтень должна была провести в павильоне Плана. Эмилию сильно беспокоило мнение отца, она с живым нетерпением ждала часа, в который обычно приезжал юный Лонгвиль, и, наконец, потребовала от него объяснений. Она вышла после обеда и пошла прогуляться одна по парку в направлении рощи тайн, где, она знала, нетерпеливый молодой человек уже искал ее; пока она спешила в рощу, она раздумывала, каким образом лучше всего застигнуть его, не компрометируя себя, узнать важную тайну: вещь, достаточно сложная! До этого момента никакое прямое признание не утверждало, какое чувство объединяет ее с этим незнакомцем. Как у Максимилиана, у нее было тайное наслаждение, нежность первой любви; но была и гордость и его, и ее, и боязнь признаться в том, что каждый из них любит.
Максимилиан Лонгвиль, в ком Клара вдохновила достаточно глубокие подозрения, находился попеременно охваченным неистовой страстью молодого человека и умеренным желанием узнать и проверить женщину, которой он хотел вверить свое счастье. Его любовь не помешала ему признаться Эмилии, что предрассудки испортили ее юный характер; но он желал знать, любит ли она, перед тем как сражаться с ее недостатками, так как он не хотел больше рисковать судьбой своей любви, как любовью жизни. Но он постоянно хранил молчание об этих взглядах, манерах, малейших опровергающих действиях. С другой стороны, природная гордость молодой девушки, превратившаяся у мадмуазель де Фонтень в глупость тщеславия, данное ей рождением и ее красотою, мешала ему сделать предложение, просить о котором убеждала его растущая страсть. Так двое влюбленных инстинктивно понимали ситуацию без объяснения их тайных мотивов. Бывают моменты жизни, когда неясность радует юные души. Они оба слишком долго молчали, вместо того чтобы поговорить; им обоим казалась жестокой игра их ожиданий. Один хотел узнать, любит ли он усилием, стоившим признания его гордой возлюбленной; другая надеялась вдруг сокрушить слишком почтительное молчание.
Сидя на деревенской скамье, Эмилия думала о событиях, происходивших в течение трех месяцев, полных очарования. Подозрения отца были последними страхами, которые могли дойти до него. Она отдала дань справедливости двумя или тремя такими мыслями неопытной юной девушки, казавшейся ей победительницей, перед тем как она согласилась с собой в невозможности ее заблуждения. В течение всего сезона она не смогла заметить в Максимилиане ни одного жеста и ни одного слова, показывавших его происхождение или общественные занятия. Больше того, его манера спорить раскрывала человека, занятого высокими интересами страны. Впрочем, как говорила она себе, чиновный человек, финансист или коммерсант не имели бы возможности оставаться за городом целый сезон, чтобы посреди полей и лесов заниматься ухаживанием, так свободно тратя время, как аристократ, перед которым – вся не занятая заботами жизнь. Она бросалась в круг размышлений, более интересных для нее, чем предварительные мысли, когда легкий шорох листвы объявил ей о появлении Максимилиана, с восхищением смотрящего на нее.
– Знаете ли вы, что очень нехорошо заставать врасплох юных девушек? – сказала ему она, улыбнувшись.
– Особенно когда они заняты их тайнами, – тонко ответил он.
– Почему бы мне не иметь моих? У вас есть ваши!
– Однако вы и в самом деле думаете о ваших тайнах? – спросил он, смеясь.
– Нет, я думаю о ваших. Мои я знаю.
– Ну, – нежно воскликнул молодой человек, схватив за руку мадмуазель де Фонтень и положив ее руку под свою, – может быть, мои секреты ваши, а ваши – мои?
После того как они сделали несколько шагов, оказавшись под массивом деревьев, цвет заката красно-коричневым облаком покрыл их обоих. Это естественное волшебство внесло отпечаток торжественности в момент объяснения. Живое и свободное поведение молодого человека и, главным образом, кипящее душевное волнение, мгновенный трепет которого передавался рукам девушки, бросили Эмилию в состояние экзальтации, настолько пронизывающей, что она волновалась даже от самых простых и невинных вещей. Сдержанность, в какой жили молодые девушки большого света, давала невероятную вспышку силе их чувств, и это была одна из самых больших опасностей, в которой они могли оказаться, встретив страстного возлюбленного. Никогда глаза Эмилии и Максимилиана не говорили таких вещей, каких мы не смеем назвать. Во власти этого опьянения они легко забыли маленькие положения гордости и холодные соображения недоверия. Сначала влюбленные не могли выразить себя иначе, чем пожатьем рук, служивших переводчиками их радостных мыслей.
– Мосье, я вам хочу задать вопрос, – после долгого молчания сказала Эмилия дрожащим и взволнованным голосом, когда они сделали несколько шагов. – Но ради бога поймите, что этот вопрос для меня что-то вроде заказа в той достаточно странной ситуации, в которой я нахожусь по отношению к моей семье.
Ужасная для Эмилии пауза наступила на этой фразе; она произнесла ее, почти заикаясь. В течение мгновений, пока длилось молчание, гордая молодая девушка не осмеливалась поднять пылающий взгляд на того, кого она любила, так как у нее было тайное предчувствие неблагородства следующих ее слов:
– Вы аристократ?
Когда эти последние слова были произнесены, ей захотелось оказаться на дне озера.
– Мадмуазель, – сказал Лонгвиль, чье изменившееся лицо контрастировало со строгим почтением. – Я обещаю ответить на этот вопрос без уверток, если вы искренне ответите на то, что я хочу вам сказать.
Он выпустил руку молодой девушки; она почувствовала, что совсем одна в жизни, и он сказал ей:
– Вы стремитесь узнать о моем рождении?
Она остановилась неподвижная, холодная и молчаливая.
– Мадмуазель, – снова сказал Максимилиан. – Мы не пойдем дальше, если мы не понимаем друг друга. – Я люблю вас, – добавил он глубоким и нежным голосом. – Хорошо! – продолжил он радостно, услышав счастливое восклицание, которое не могла сдержать юная девушка, – почему вы спрашиваете меня, благороден ли я?
«Говорил бы он так, если бы не был благороден?» – подумала Эмилия про себя, в глубине своего сердца. Она грациозно подняла голову, как бы черпая новую жизнь во взгляде молодого человека, и протянула ему руку, как будто для заключения нового союза.
– Вы считаете, что я очень дорожу почестями? – спросила она с изящным лукавством.
– У меня нет титулов, которые я мог бы предложить моей жене, – ответил он наполовину весело, наполовину серьезно. – Но, если я буду брать жену из высоких сфер, из тех, кого отцовские доходы приучили к роскоши и к удовольствиям изобилия, я знаю, что этот выбор будет меня обязывать. Любовь дает все, – добавил он с веселостью, – но только влюбленным. Что касается супругов, им нужно немного больше, чем небесный купол и луговой ковер.
«Он богат, – подумала она. – Что касается титулов, он меня проверяет, может быть. Скажу ему, что я была увлечена знатностью и не хотела выходить замуж ни за кого, кроме как за пэра Франции».
