Сказка на ночь
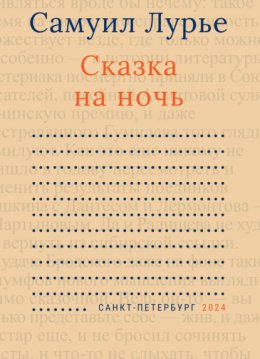
© С. А. Лурье (наследники), 2024
© П. П. Лосев, обложка, 2024
© Издательство «Симпозиум», 2024
Несут паруса – плывет судно; нет их – стало, и кончено
В жизни художника бывает минута, когда, случайно сцепившись, разные впечатления дают вспышку, освещающую смыслом весь мир. Этот момент прозрения, призвания, эта первоначальная интуиция или воспоминание о ней становится иногда содержанием творчества и целью пути. Снова и снова набирает художник знакомую комбинацию обстоятельств, наполнявших ту минуту, пытаясь повторить ее и рассказать о ней.
Живописец Федор Васильев жил недолго (1850–1873), не успел выпутаться из одиночества и денежных затруднений. Никто не знает, когда и как этот юный родственник Шишкина разработал в прозаичной суете шестидесятых годов, в разночинных окрестностях Петербурга (не на почтамте же, где отрочество провел!) такой необычный взгляд на природу.
Картины Васильева – и те три или четыре, которые прославились и стали открытками, и несколько десятков этюдов, отбывающих вечность в различных запасниках, – все они хотят передать этот взгляд, сочетая одни и те же, особо важные для автора мотивы.
Во-первых, атмосферный сдвиг. Названия заплывают водой: «Перед дождем», «После дождя», «После проливного дождя», «Оттепель». Перемена в природе означается не рассветом и не закатом и вообще зависит не от хода времени, а от уровня осадков.
Природа как бы на грани обморока: обмякла, запрокинулась, и с нее сходит выражение устойчивой погоды: небо стекает на землю, облака и деревья волнуются, свет встречает неожиданные преграды и отражается в случайных поверхностях.
Другой мотив – пересечение путей, перекресток. Взгляд оскользается по тропкам и проселкам, уклоняющимся в разные стороны по низменной пересеченной местности: кочки, пригорки, распадки, ложбинки, ручьи.
Все естественные водоразделы сбегаются к центру картины, как бы сверху вниз, а поверхность земли всползает наверх, к линии горизонта. Возникает чувство бесконечной протяженности, к тому же труднопроходимой: вязкая почва, слякоть.
И тут же, одновременно, – второй акт, встречное движение. Земля уходит от нас вверх и вдаль, а небо, наоборот, карабкается на передний план, и, скажем, кучевое облако под верхним краем рамы выглядит таким же близким и подробным, как мокрая трава в его тени – над нижним краем. Получается, что пространство стремится сомкнуться, принять вид какой-то громадной сферы, центр которой обозначается человеческой фигуркой.
Куда бы и как бы фигурка ни спешила, она остается в глубине влажной, кипящей холодными брызгами, сверкающей природы. Фигурка похожа на движущийся по фразе восклицательный знак.
Перебирая по слогам эту фразу, в которой глаголы освещения управляют падежами кустов и туч, мы проникаемся звучащим в ней унылым ликованием.
Причем почти убеждены, что это сам ландшафт переживает миг душевного потрясения, – мы просто подглядели, – а художника словно и нет, ушел на цыпочках…
Еще один заветный сюжет Васильева – низинная вода: лужа, пруд, а лучше всего – болото, таинственно-сосредоточенное око земли.
«О болото! болото! Если бы Вы знали, как болезненно сжимается сердце от тяжкого предчувствия!» – в 1872 году пишет Крамскому Васильев, уже загнанный чахоткой в Ялту. Нет, не что умрет через год – не это он предчувствует, – а что медицина приговорит его пожизненно к сухому воздуху – вот на что жалуется он: «Неужели не удастся мне опять дышать этим привольем, этой живительной силой просыпающегося над дымящейся водой утра? Ведь у меня возьмут все, все, если возьмут это. Ведь я как художник потеряю больше половины. Но довольно. Ей-ей, навертываются слезы».
Его личная жизнь ускользнула от мемуаристов, а может статься, и не было ее. Живопись он любил больше жизни, а природу – еще сильнее, чем живопись.
«Я, видите ли, ужасно мучаюсь, глядя на свои картины. До такой степени они мне не нравятся, что я просто в ужас прихожу».
Васильеву не хватило биографического времени, чтобы полностью перевести в искусство тот духовный опыт, которым он обладал.
Который приобрел чуть ли не в одну минуту. В одну какую-то минуту жизни.
Превратившуюся в несколько картин. В несколько дюжин этюдов, эскизов.
Сквозь толщу растрескавшейся, пожухлой краски мерцает романтическая субстанция. Васильев сорвал с пейзажа прозрачную пленку равнодушной красы. Разглядел в мокрой зелени, в бурой грязи – черты страдания и восторга. До него это было только в поэзии: у Лермонтова, у Тютчева.
«Русская школа потеряла в нем гениального художника», – припечатал Крамской.
Но самому-то Федору Александровичу казалось, что не сделано ничего.
«Если я не сойду с ума раньше, чем сделаюсь художником, – хорошо; не успею – и рассуждать об этом нечего. Будет то, что должно быть», – пишет он за полгода до смерти. И прибавляет: «Что такое художник, что такое человек, что такое жизнь? Несут паруса – плывет судно; нет их – стало, и кончено. Чего тут еще?!»
Твердая рука, чистое сердце, искренний ум, несчастливая звезда.
Ватсон и Надсон
Мария Валентиновна была урожденная Де Роберти де Кастро де ла Серда. Дочь испанского аристократа, неизвестно как сделавшегося малороссийским помещиком.
Семнадцати лет, в 1865 году, окончила Смольный институт. На выпускном акте получила брошь с вензелем императрицы – и читала собственного сочинения французские стихи. M-lle Де-Роберти (фамилия свернулась, как веер) заинтересовала Александра II: он долго и ласково с нею говорил.
И много еще лет она попадалась ему на глаза: в аллеях Летнего сада, где государь прогуливался каждое утро. Она кланялась, он с улыбкой отвечал, а иногда и останавливался – сказать шутливый комплимент.
Днем же и вечером она занималась самообразованием (английский язык, немецкий, итальянский, испанский, португальский), но главное – общественной работой.
Старший брат, застрявший за границей (как окончил Александровский лицей, так сразу и покатил по университетам: Гейдельберг, Йена, Париж, далее везде), писал всякое разное научно-популярное – и присылал Марии Валентиновне, чтобы отнесла в такую-то передовую редакцию или в другую. Она постепенно перезнакомилась в литературе со всеми. Стала своим человеком в самой порядочной тогдашней газете – в «Санкт-Петербургских ведомостях». Там работали отчаянные журналисты – Корш, Ватсон, Суворин, Буренин. Там – под маркой Литературного фонда – ежедневно осуществлялась практика малых дел. Сборник ли составить в пользу голодающих, петицию ли против какой-нибудь очередной репрессии, да и просто денег собрать: скажем, неимущему – на стипендию, сосланному – на дорогу.
И вот оказалось, что Мария Валентиновна словно создана для всей этой тревожной суеты. Ездить к разным сановникам – простаивать часами в коридорах учреждений, дожидаясь приема, просить, чтобы такое-то мероприятие дозволили, а такому-то человеку смягчили участь.
Она никогда не сомневалась в успехе своего ходатайства, – и, как правило, ей действительно шли навстречу. «Ее убежденность в том, что просящему надо дать, как-то сообщалась тем, кого она просила», – с некоторым недоумением замечает один современник – и признается, что сам-то он поначалу считал, что у Марии Валентиновны «дефект чувства реальности».
