Великий Сибирский Ледяной поход
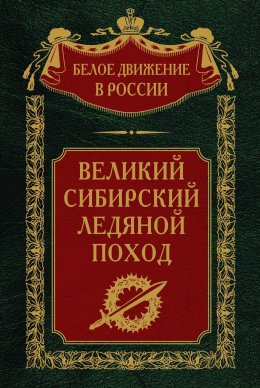
© С.В. Волков, состав, предисловие, комментарии, 2024
© Художественное оформление серии, «Центрполиграф», 2024
© «Центрполиграф», 2024
Предисловие
Двадцать второй том серии «Белое движение в России» посвящен одной из наиболее трагических страниц истории Гражданской войны в Сибири – Великому Сибирскому Ледяному походу. Хронологически он служит продолжением девятнадцатого тома, повествующего о Белой борьбе на Востоке России под руководством адмирала А.В. Колчака, и охватывает время от оставления Омска и начала Великого Сибирского Ледяного похода до оставления белыми Забайкалья, то есть с середины ноября 1919-го до осени 1920 г.
Собственно Великий Сибирский Ледяной поход – под этим названием вошло в историю трагическое отступление белых армий Восточного фронта – продолжался три месяца: с середины ноября 1919 г., когда был оставлен Омск, по середину февраля 1920 г., когда остатки войск перешли через Байкал и пришли в район Читы, в расположение войск атамана Г.М. Семенова. Поход этот, проходивший в неимоверно тяжелых условиях, получил свое название по аналогии с легендарным 1-м Кубанским походом Добровольческой армии зимой – весной 1918 г.; характерно, что и знак, учрежденный для его участников, представлял собой точную копию знака Ледяного похода (с тем отличием, что меч поперек тернового венца был золотого цвета).
В декабре 1919 г. 1-я армия Восточного фронта, отведенная ранее в тыл для охраны Транссибирской магистрали, после ряда мятежей разложилась и перестала существовать (ее остатки в 500–600 человек были присоединены ко 2-й армии), а частям 2-й и 3-й армий пришлось совершить тяжелейший поход вдоль Сибирской железной дороги в Забайкалье (части 2-й армии в основном двигались севернее, а 3-й – южнее линии железной дороги). Во главе войск находились генерал К.В. Сахаров, а с 9 декабря 1919 г. и до своей смерти в конце января 1920 г. – генерал В.О. Каппель.
Сибирский Ледяной поход сопровождался большими потерями. Уже во второй половине ноября во многих частях они достигли от трети до двух третей боевого состава, на полк часто оставалось по 150–200 боеспособных людей. Особенно тяжелым был переход через Щегловскую тайгу, которая поистине стала кладбищем 3-й армии. Помимо преследующих армию красных частей и партизан, голодных и страдающих от мороза людей постигла эпидемия тифа, которым переболело абсолютное большинство участников похода (из-за сильных холодов процент смертных случаев был, правда, ниже обычного). Перед Щегловской тайгой в войсках 2-й и 3-й армий числилось 100–120 тысяч человек (по другим мнениям – около 150) и, по приблизительным подсчетам, столько же беженцев. После Красноярска, где вследствие мятежа в тылу армию постигла катастрофа, на восток шло уже только примерно 25 тысяч человек, из которых не более 5–6 тысяч бойцов. Известно, что через госпитали в Верхнеудинске и Чите за февраль – март прошло около 11 тысяч тифозных.
По приходе в Забайкалье главнокомандующим и главой правительства (после смерти адмирала Колчака, выданного чехами и расстрелянного большевиками в Иркутске 7 февраля 1920 г.) стал генерал Г.М. Семенов, а армия (которой после смерти генерала Каппеля последовательно командовали генералы С.Н. Войцеховский, Н.А. Лохвицкий и Г.А. Вержбицкий) была сведена в три корпуса: 1-й (из Забайкальских войск Семенова), 2-й (Сибирские, Уфимские и Егерские части) и 3-й (Волжские, Ижевские и Воткинские части). При этом прежние корпуса сводились в дивизии, а дивизии в полки. В Чите армия имела 40 тысяч человек при 10 тысячах бойцов (войска Семенова в Забайкалье в январе – феврале 1920 г. насчитывали 11–16 тысяч человек), в мае в ней насчитывалось до 45 тысяч человек, из которых в полевых частях трех корпусов 20 тысяч. В ноябре 1920 г. армия была вытеснена из Забайкалья и перебазировалась в Приморье.
Оренбургские и уральские казачьи части отступали отдельно от основных сил Восточного фронта, и участь их была не менее трагичной. В конце 1919 г. при отходе Уральской армии на юг некоторые части совершенно прекратили свое существование, полностью погибнув от потерь на фронте и тифа. За два месяца похода Уральской армии из 12–15 тысяч до форта Александровского в начале 1920 г. дошло менее 3 тысяч, где более 1600 попало в плен и лишь менее 200 человек добрались до Ирана.
В настоящем издании собраны воспоминания об отходе белых формирований Восточного фронта, в том числе оренбургского и уральского казачества. В разное время они были опубликованы в русской эмигрантской печати. В России эти воспоминания, за небольшим исключением, никогда не публиковались.
Содержание тома разбито на два раздела. В 1-м разделе публикуются воспоминания участников отступления вдоль Транссибирской магистрали, во 2-м – материалы о судьбе казачьих частей, отходивших отдельно от основных сил по другим направлениям, а также воспоминания о событиях во Владивостоке в период конца 1919-го – начала 1920 г.
В большинстве случаев публикации приводятся полностью (некоторые сокращения сделаны только за счет невоенной тематики). Авторские примечания помещены (в скобках) в основной текст. Везде сохранялся стиль оригиналов, исправлялись только очевидные ошибки и опечатки. Возможны разночтения в фамилиях участников событий и географических названиях; их правильное написание – в комментариях.
ВЕЛИКИЙ СИБИРСКИЙ ЛЕДЯНОЙ ПОХОД
Раздел 1
К. Сахаров[1]
Ледяной Cибирский поход[2]
Фактически армия теперь сошла на задачу прикрытия эвакуации – сплошной ленты поездов, вывозящих на восток раненых и больных, семьи офицеров и солдат, а также те запасы, военные и продовольственные, которые удавалось погрузить.
Армия свелась, в сущности, к целому ряду небольших отрядов, которые все еще были в порядке и в управлении, так как состояли они из отборного, лучшего в мире элемента. Сохранилась организация. Но дух сильно упал. До того, что проявлялись даже случаи невыполнения боевого приказа. На этой почве командующий 2-й армией[3]генерал Войцеховский[4]принужден был лично застрелить из револьвера командира корпуса генерала Гривина[5], который наотрез отказался подчиниться боевому приказу задержать корпус и дать красным отпор, а заявил, что он поведет свои полки прямо в Иркутск, к месту их первоначального формирования; на предложение Войцеховского сдать командование корпусом Гривин ответил также отказом.
По пути от Омска до Татарска была сделана социалистами попытка крушения поезда с золотом, но охрана оказалась надежной и не дала злоумышленникам расхитить государственную казну. Министр путей сообщения Устругов[6]руководил эвакуацией, находясь все время на самых тяжелых участках. Главная трудность заключалась в том, что не хватало на все эшелоны паровозов. Поезда простаивали по нескольку суток на небольших станциях и разъездах, среди безлюдной сибирской степи, занесенной снегом. Без воды, без пищи и без топлива, зачастую замерзая.
С каждым днем положение ухудшалось, так как число эвакуируемых эшелонов постепенно все возрастало; вскоре железнодорожный вопрос принял размеры катастрофы. Дело в том, что чехословаков, это главное воинство интервенции в Сибири, охватила паника, и они произвели в тылу страшное дело.
Расквартированы чехи были так: первая дивизия на участке Иркутск – Красноярск, вторая дивизия – в Томске, в третья занимала Красноярск и города западнее его, до Новониколаевска. 5-я польская дивизия имела главную квартиру в Новониколаевске и располагалась на юг до Барнуала и Бийска. Поляки, благодаря своему доблестному начальнику дивизии полковнику Румше[7](бывшему русскому офицеру), решили драться против большевиков совместно с нашей армией и просили вывезти по железной дороге только их госпитали, семьи и имущество («интендантура»). Совсем иначе повели себя знаменитые чехословацкие легионы. Как испуганное стадо, при первых известиях о неудачах на фронте бросились они на восток, чтобы удрать туда под прикрытием Русской армии. Разнузданные солдаты их, доведенные чешским комитетом и представителями Антанты почти до степени большевизма, силой отбирали паровозы у всех нечешских эшелонов; не останавливались ни перед чем.
В силу этого наиболее трудным участком железной дороги сделался узел станции Тайга, так как здесь выходила на магистраль Томская ветка, по которой теперь двигалась самая худшая из трех чешских дивизий – вторая. Ни один поезд не мог пройти восточнее станции Тайга; на восток же от нее двигались бесконечной лентой чешские эшелоны, увозящие не только откормленных на русских хлебах наших же военнопленных, но и награбленное ими, под покровительством Антанты, русское добро. Число чешских эшелонов было непомерно велико – ведь на 50 тысяч чехов, как уже упоминалось выше, было захвачено ими более 20 тысяч русских вагонов.
Западнее станции Тайга образовалась железнодорожная пробка, которая с каждым днем увеличивалась. В то же время Красная армия, подбодренная успехами, продолжала наступление, а наши войска, сильно поредевшие и утомленные, не могли остановить большевиков. Отход Белой армии продолжался в среднем по десять верст в сутки.
Из эшелонов, стоявших западнее Новониколаевска, раздавались мольбы, а затем понеслись вопли о помощи, о присылке паровозов. Помимо риска попасть в лапы красных, вставала и угроза смерти от мороза и голода. Завывала свирепая сибирская пурга, усиливая и без того крепкий мороз. На маленьких разъездах и на перегонах между станциями стояли десятки эшелонов с ранеными и больными, с женщинами, детьми и стариками. И не могли двинуть их вперед, не было даже возможности подать им хотя бы продовольствие и топливо. Положение становилось поистине трагическим: тысячи страдальцев русских, обреченных на смерть, – а с другой стороны десятки тысяч здоровых, откормленных чехов, стремящихся ценою жизни русских спасти свою шкуру.
Командир Чешского корпуса Ян Сыровой[8]уехал в Красноярск, их главнокомандующий, глава французской миссии генерал-лейтенант Жанен сидел уже в Иркутске; на все телеграммы с требованием прекратить преступные безобразия чешского воинства оба они отвечали, что бессильны остановить «стихийное» движение. Вскоре Ян Сыровой принял вдобавок недопустимо наглый тон в его ответах, взваливая всю вину на русское правительство и командование, обвиняя их в «реакционности и недемократичности».
В эти дни ноября 1919 года наступило самое тяжелое время для русских людей и армии; все ее усилия и подвиги за весну, лето и осень 1919 года были сведены преступлениями тыла на нет. Заколебались уже и самые основания здания, именовавшегося Омским правительством. Выступила наружу тайная, темная сила, начали выходить из подполья деятели социалистического заговора. Сняли маски и те из них, которые до сей поры прикидывались друзьями России. Среди последних оказались, кроме руководителей чехословацкого воинства, также в большинстве и представители наших «союзников». К концу ноября все это объединилось к востоку от Красноярска, образовало свой центр в Иркутске и начало переходить к открытым враждебным действиям, ожидая лишь удобного момента, чтобы ударить сзади и раздавить Белое освободительное движение, совместно с большевиками, с их Красной армией, наступавшей с запада.
В это время Верховный Правитель и штаб находились в Новониколаевске. Был намечен следующий план действий: армия будет медленно и планомерно, прикрывая эвакуацию, отходить в треугольник Томск – Тайга – Новониколаевск, где к середине декабря должны были сосредоточиться резервы; отсюда наша армия перейдет в наступление, чтобы сильным ударом отбросить силы большевиков на юг, отрезая их от железной дороги. В то же время предполагалось произвести основательную чистку тыла: секретными приказами был намечен одновременный арест и предание военно-полевому суду всех руководителей заговора в тылу, всех партийных эсеров в Томске, Красноярске, Иркутске и Владивостоке. Были приняты резкие меры к привлечению всех здоровых офицеров и солдат в строй, для усиления фронта, а также для создания в тылу надежных воинских частей.
Чехам и их главарю Сыровому было заявлено, что если они не перестанут мешаться в русские дела и своевольничать, то русское командование готово идти на все, включительно до применения вооруженной силы. Одновременно командующему Забайкальским военным округом генералу атаману Семенову[9]был послан шифрованной телеграммой приказ занять все тоннели на Кругобайкальской железной дороге; а в случае если чехи не изменят своего беспардонного отношения, не прекратят безобразий, будут также нагло рваться на восток и поддерживать эсеров, то приказывалось один из этих тоннелей взорвать. На такую крайнюю меру Верховный главнокомандующий пошел потому, что чаша терпения переполнилась: чехословацкие полки, пуская в ход оружие, продолжали отнимать все паровозы, задерживали все поезда; в своем стремлении удрать к Тихому океану они оставляли на страшные муки и смерть тысячи русских раненых, больных, женщин и детей. А Жанен и Ян Сыровой занимались легким уговариванием этого бесславного воинства развращенных, откормленных чешских легионеров и на все требования русских властей отвечали уклончивыми канцелярскими отписками.
Следующим важным мероприятием было возложение охраны на местах и мобилизационных функций на само население, главным образом на крестьянство, под руководством и наблюдением военных властей. Выяснилось совершенно определенно, что крестьяне Сибири, в большинстве своем, искренне желают оказать Верховному Правителю всякую поддержку, что они стоят непримиримо против большевиков и других социалистов, стремятся только к одному: не пустить к себе красных, уничтожить все шайки внутри областей, а затем вернуться к прежней русской спокойной жизни.
Но теперь, когда силой непреодолимой логики событий подошли к правильному и единственному решению, обнаружилось, что слишком много было потеряно времени, – еще раз и так полно подтвердилась истина, что «потеря времени смерти невозвратной подобна есть». Будь все эти меры проведены тремя-четырьмя месяцами раньше, когда мы были сильны на фронте, а вся вражеская нечисть не успела еще опериться и не сплотилась, – нам удалось бы сравнительно легко ликвидировать ее, русское национальное дело было бы спасено. К концу же ноября мы имели против себя уже окрепшую вражескую организацию, упорство и уверенность руководителей эсеровско-союзнического комплота. Они сумели всюду втереться сами или впустить своих агентов, которых в то неустановившееся время они вербовали всюду.
Но несмотря на это, Белой Русской национальной армии было бы вполне по силам справиться со стоявшей перед нею задачей, если бы эсеровская измена не свила гнезда и внутри нее. Дело началось с Гайды[10]; социалисты-революционеры сумели обойти его, окружив тонкой интригой и обработав грубой лестью; они проникли в штаб Сибирской армии[11], а оттуда в ее корпуса и дивизии. К несчастью, генерал Дитерихс[12], ставший во главе Сибирской армии, когда Гайда был выгнан, видимо, не понял всей опасности, не принял мер к искоренению заразы. А зараза эта по мере отступления развивалась все больше и охватывала не столько войсковые массы 1-й армии[13], сколько верхи ее командования, причем и сам командующий этой армией, генерал А. Пепеляев[14], попался в сети и тайно состоял в партии. Все назначения на командные должности были проведены им так, что ответственные, руководящие посты получали только свои люди. Паутина плелась очень хитро, осторожно и почти неуловимо для постороннего глаза; пускались в ход самый беззастенчивый обман и ложные уверения. Так, А. Пепеляев, говоря с глазу на глаз со своими начальниками, уверял их дрожащим голосом, что сам он по своим убеждениям монархист.
Вторично главнокомандующий генерал Дитерихс не понял всей опасности или недооценил ее, когда он отдал приказ о вывозе 1-й Сибирской армии в тыл. Этим передавалась в руки эсеров русская вооруженная сила, в тылу нашей героической армии укреплялась вражеская цитадель.
Характерен из того времени и нравов такой эпизод. В Новониколаевск, при выводе 1-й Сибирской армии в тыл, была назначена гарнизоном Средне-сибирская дивизия, во главе которой Пепеляев только что перед тем поставил молодого, очень храброго, но совершенно сбитого с толку и втянутого в политику двадцатишестилетнего полковника Ивакина[15]. Когда я потребовал его к себе для доклада о состоянии дивизии, оказалось, что полковника в городе нет, еще не приехал. Через два дня – тоже нет; наконец, после третьего приказа является, делает доклад, а затем просит разрешения говорить откровенно.
– В чем дело?
– Я оттого запоздал, Ваше Превосходительство, что в пути ко мне приехали земские деятели, привезли штатское платье и убеждали спасаться – будто Вы меня арестовать собираетесь…
– За что?
– Да они толком не объяснили, а много говорили, то Вы недовольны 1-й Сибирской армией за то, что она эсерам сочувствует.
– А разве правда, что в Вашей армии есть сочувствие эсерам?
– Так точно, иначе быть не может; наша армия Сибирская, а вся Сибирь – эсеры, – бойко, не задумываясь отрапортовал этот полу-мальчик, начальник дивизии.
У меня в вагоне сидели мой помощник генерал Иванов-Ринов[16]и начальник штаба, которые не могли удержаться от смеха – до того наивно и ребячески бессмысленно было заявление Ивакина. Рассмеялся и сам автор этого политического афоризма.
После разъяснения полковнику Ивакину всей преступности этой игры, того, для какой цели пускают социалисты такие провокационные выдумки, что они хотят сделать и их, офицеров, своими соучастниками в работе по разрушению и гибели России, – он уехал, дав слово, что больше никаких штатских в дивизию не пустит и все разговоры о политике прекратит. Этот молодцеватый и храбрый русский офицер произвел впечатление полной искренности; казалось, что он ясно понял теперь ту бездну, куда влекли его политиканы – враги России, понял, раскаялся и даже, видимо, возмутился их низкими интригами.
На другой день Верховный Правитель после оперативного доклада сказал мне недовольным голосом, что через приближенных людей до него дошли слухи, будто полковник Ивакин собирается в одну из ближайших ночей арестовать его и меня. Контрразведка штаба проверила настроение частей Средне-сибирской дивизии, которое оказалось нормальным, здоровым от какой-либо эсеровщины; я доложил это адмиралу, как и мой разговор с Ивакиным. Видимо, была пущена в ход обычная для социалистов двойная игра: старались обе стороны убедить в опасности ареста – для каждой, чтобы вызвать его со стороны старшего начальника и иметь предлог для выступления войсковых частей. Не надо забывать, что в то время настроение всюду было сильно повышенное – результат всех пережитых потрясений и неудач. Адмирал потребовал к себе полковника Ивакина, около часу говорил с ним и лично выяснил вздорность всей этой истории. Но, как показало дальнейшее, слухи все же имели основание, – работа и подготовка в этом направлении велись.
Очень жаль, что приходится останавливаться на ничтожных сравнительно обстоятельствах, происходивших на фоне тогдашнего титанического потрясения Восточной России. Но освещение этих фактов необходимо, ибо они устанавливают связь всего дальнейшего с теми основными положениями, которые были высказаны об эсеровско-чешском заговоре против Белой армии. Эти эпизоды и личности, проявлявшиеся осенью 1919 года, доказывали правильность диагноза болезни тыла, подтверждали выводы и укрепляли еще больше решимость в проведении мер по ликвидации гнезд заговорщиков. Русское национальное дело, Русская армия и будущность нашего народа требовали быстрых и решительных мер. Бесконечно грустно, что слишком поздно взялись за их проведение.
На фронте усталые, измученные, одетые в рубищах полки новых крестоносцев, сражавшиеся второй год за Русь и Крест Господень против интернационала и его пентаграммы, красной звезды. Тысячи верст боевого похода закалили части и сделали их стальными; бесконечные сражения, бои и стычки выработали в офицерах и солдатах величайшую выносливость, выковали храбрость.
Армия отступала, но она уже накопила опять в себе силы для нового перехода в наступление, для нового рассчитанного прыжка тигра. Весьма возможно, что на этот раз уже окончательного, победного. А по всему огромному дикому пространству Сибири, по вековой тайге ее, по диким горным хребтам, по беспредельным степям и лесам, вплоть до самого Тихого океана, шел в то же время сполох, скрытый еще, но не тайный уже; вышедшие из подполья темные силы, слуги той же пентаграммы, готовили сзади предательский удар. Этот удар мы заметили, разгадали вражеские козни, и было еще время отразить его, а затем уничтожить с корнем гадину измены и предательства.
Ряд мер, о которых сказано выше, проводился срочно, в энергичной, напряженной работе. Дело начинало налаживаться, а вместе росла и уверенность, что мы переборем трудности, выполним план, спасем Русское дело. Несмотря на то что положение было крайне критическое и так угрожающе выглядели признаки этого сполоха, выходы имелись. А главное, было много истинных сынов России, объединенных общим страстным желанием спасти Родину; и на их стороне были и симпатии, и силы масс народных. Была армия, сильная духом и не малая числом, имелось оружие и боевые припасы, да к тому же в русских руках были остатки накопленного веками государственного достояния, значительный золотой запас. Вперед можно было смотреть бодро.
– Выгребем! – говорили часто мои помощники, когда совместно вырабатывали и проводили меры по ликвидации измены в тылу.
Теперь зимой, в конце ноября, настало время, когда на фоне сибирской жизни ярко выступили те пятна, зашевелились те злые гнезда эсеровщины, которые подготовлялись весной и летом и были скрыты почти ото всех глаз. Как волшебные тени, появились они вдруг, сразу. Сначала Владивосток, Иркутск, затем Красноярск и Томск. И то, что многим представлялось весной далекой злой опасностью, почти как несуществующий кошмар, стало выявляться наяву, вставать кровавым призраком новой гражданской войны в тылу. Откуда был дан сигнал к восстаниям, пока покрыто неизвестностью. Но видимо, из Иркутска, где к этому времени сосредоточилось все тыловое: совет министров, все иностранные миссии Антанты, политиканы чехословацкого национального комитета и их высшее командование, а также масса дельцов разных политических толков, от кадет и левее.
Первое восстание разразилось во Владивостоке. Гайда, герой былых побед и новых интриг, живший в отдельном вагоне, сформировал штаб, собрал банды чехов и русских портовых рабочих и 17 ноября поднял бунт, открытое вооруженное выступление[17]. Сам Гайда появился в генеральской шинели, без погон, призывая всех к оружию за новый лозунг: «Довольно гражданской войны. Хотим мира!» Старое испытанное средство социалистов, примененное ими еще в 1917 году, перед позорным Брест-Литовским миром.
Но на другой же день около Гайды появились «товарищи», его оттерли на второй план, как лишь нужную им на время куклу; были выкинуты лозунги: «Вся власть Советам. Да здравствует Российская социалистическая, федеративная, советская республика!» На третий день бунт был усмирен учебной инструкторской ротой, прибывшей с Русского острова; банды рассеяны, а Гайда с его штабом арестован. Да и не представлялось трудным подавить это восстание, так как оно не встретило ни у кого поддержки, кроме чешского штаба да Владивостокской американской миссии; народные массы Владивостока были поголовно против бунтовщиков.
Адмирал Колчак послал телеграмму-приказ: судить всех изменников военно-полевым судом, причем в случае присуждения кого-либо из них к каторжным работам Верховный Правитель в этой же телеграмме повышал наказание всем – до расстрела. К сожалению, командовавший тогда Приморским округом генерал Розанов[18]проявил излишнюю, непонятную мягкость, приказа не исполнил и донес, что еще до получения телеграммы он должен был передать Гайду и других с ним арестованных чехам, вследствие требования союзных миссий.
Одновременно с Владивостоком зашевелился Иркутск. Там образовалась новая городская дума, в состав которой вошло на три четверти «избранного племени» – все махровые партийные работники. На первом же заседании этот вновь испеченный синедрион, вместо того чтобы заниматься городскими делами, потребовал смены министров, назначения ответственного кабинета, и заговорили о том же, что и Владивосток, – о прекращении Гражданской войны.
Но после подавления Владивостокского восстания иркутские дельцы стихли, снова спрятались в подполье. Командовавшему войсками генералу Артемьеву был послан приказ арестовать и предать военно-полевому суду всех эсеров и меньшевиков, членов этой «городской думы». Неизвестно по какой-то причине и этот приказ не был выполнен; впоследствии генерал Артемьев[19]доносил, что преступники попрятались, а производить массовые обыски и аресты помешали опять-таки «союзные» миссии и чехи.
Совет министров проявил не только полную растерянность и бездеятельность, но во главе с социалистом Вологодским[20], этим «vieux drapeau», готов был чуть ли не подчиниться Иркутской городской думе. Верховный Правитель тогда решил сменить Вологодского и назначил премьер-министром Пепеляева (Виктора)[21], брата генерала, командовавшего 1-й Сибирской армией. В связи с этими событиями и другими признаками созревшей в тылу измены было собрано в Новониколаевске, в вагоне адмирала, несколько совещаний. Искали лучшего плана, наиболее выполнимого и обеспеченного решения. Выхода намечалось два.
Первый – выполнение намеченной военной операции в районе Томск – Новониколаевск, предоставление чехословакам убраться из Сибири при условии фактического невмешательства в русские дела и сдачи русского казенного имущества, полное использование для этого Забайкалья и сил атамана Семенова при поддержке японцев; намеченная отправка золотого запаса в Читу под надежную охрану; затем планомерное, систематическое уничтожение эсеровской измены и подготовка в глубине Сибири сил для новой борьбы весной.
Второй – предоставить всю Сибирь самой себе: пусть испытает большевизм, переболеет им; пусть все «союзники» с их войсками, нашими бывшими военнопленными, тоже попробуют прелестей большевизма и уберутся из Сибири. Верховный Правитель с армией уходит из Новониколавска на юг, на Барнаул – Бийск, в богатый Алтайский край, где соединяется с отрядами атаманов Дутова[22]и Анненкова[23]и, базируясь на Китай и Монголию, выжидает следующей весны – для продолжения борьбы, для ее победного конца.
Адмирал Колчак отверг второй план совершенно и остановился на первом; но он категорически отказался отправить золото в Читу. Сказалась отрыжка прошлой ссоры, проявилось недоверие. Было принято решение, что адмирал, а с ним и золотой запас останутся непосредственно при армии, не отделяясь от нее далеко. К несчастью, и это решение не было выдержано до конца, что и привело, как будет видно ниже, к самой трагической развязке.
Для более правильного и успешного проведения принятого плана, ввиду полной нежизненности бюрократической машины так называемых министерств, был обнародован Верховным Правителем указ, которым выше совета министров ставилось Верховное совещание, составленное под председательством Верховного Правителя из главнокомандующего, его помощников и трех министров – премьера, внутренних дел и финансов. Этим актом министерства должны были свестись на простые исполнительные канцелярии, причем предполагалось сильно сократить их штаты.
Все это время я со своим штабом был занят разработкой и подготовкой новой операции, причем сосредоточение и выполнение ее было намечено на середину декабря. Чтобы легче парализовать политические интриги генерала Пепеляева и его ближайших помощников, был заготовлен приказ о превращении 1-й Сибирской армии в неотдельный корпус со включением его во 2-ю армию генерала Войцеховского. Придя к этим решениям и начав их осуществление, Верховный Правитель отдал приказание переместить его эшелоны и мой штаб в Красноярск.
8 декабря вечером поезд моего штаба после долгих задержек пришел на станцию Тайга, где с утра уже находились все пять литерных эшелонов Верховного Правителя. У семафора стоял броневой поезд 1-й Сибирской армии, к самой станции была стянута егерская бригада этой же армии, личный конвой генерала Пепеляева, и одна батарея. В вагоне адмирала находились целый день оба брата Пепеляевы – генерал, приехавший из Томска, и премьер-министр – из Иркутска.
Когда я пришел к Верховному Правителю с докладом всех подготовленных распоряжений по выполнению принятого плана, то нашел его крайне подавленным. Пепеляевы сидели за столом по сторонам адмирала. Это были два крепко сшитых, но плохо скроенных, плотных сибиряка; лица у обоих выражали смущение, глаза опущены вниз, – сразу почувствовалось, что перед моим приходом велись какие-то неприятные разговоры. Поздоровавшись, я попросил адмирала разрешения сделать доклад без посторонних; Пепеляевы насупились еще больше, но сразу же ушли. Верховный Правитель внимательно, как всегда, выслушал доклад о всех принятых мерах и начал подписывать заготовленные приказы и телеграммы; последним был приказ о реорганизации 1-й Сибирской армии в неотдельный корпус.
Адмирал поморщился и начал уговаривать меня отложить эту меру, так как она может-де вызвать большое неудовольствие, даже волнения, а то и открытое выступление.
– Вот, – добавил он, – и то мне Пепеляевы уж говорили, что Сибирская армия в сильнейшей ажитации и они не могут гарантировать, что меня и Вас не арестуют.
– Какая же это армия и какой же это командующий генерал, если он мог дойти до мысли говорить даже так и допустил до такого состояния свою армию. Тем более необходимо сократить его. И лучший путь превратить в неотдельный корпус и подчинить Войцеховскому.
Верховный Правитель не соглашался. Тогда я поставил вопрос иначе и спросил, находит ли он возможным так ограничивать права главнокомандующего, не лишает ли он этим меня возможности осуществить тот план, который мною составлен, а адмиралом одобрен.
– А я не могу допустить генерала, который хотя и в скрытой форме, но грозит арестом Верховному Правителю и главнокомандующему, который развратил вверенные ему войска, – докладывал я. – Иначе я не могу оставаться главнокомандующим.
Все это сильно меня переволновало, что, очевидно, было очень заметно, так как адмирал Колчак стал очень мягко уговаривать пойти на компромисс; здесь он, между прочим, сказал, что оба Пепеляева и так уже выставляли ему требование сменить меня, а назначить главнокомандующим опять генерала Дитерихса.
Я считал совершенно ненормальным и вредным подобное положение и доложил окончательно, что компромисса быть не может.
– Хорошо, – согласился адмирал, – только я предварительно до утверждения этого приказа хочу обсудить его с Пепеляевым. Это мое условие.
Через несколько минут оба брата были позваны адъютантом, и две массивные фигуры вошли, тяжело ступая, в салон-вагон. Приказ о переформировании 1-й Сибирской армии в неотдельный корпус произвел ошеломляющее впечатление. Сначала Пепеляевы, видимо, растерялись, но затем генерал оправился и заговорил повышенным, срывающимся в тонкий крик голосом:
– Это невозможно, моя армия этого не допустит…
– Позвольте, – перебил я, – какая же это, с позволения сказать, армия, если она способна подумать о неисполнении приказа. То Вы докладывали, что Ваша армия взбунтуется, если ее заставят драться под Омском, теперь – новое дело.
– Думайте, что говорите, генерал Пепеляев, – обратился к нему резким тоном, перебив меня, адмирал. – Я призвал Вас, чтобы объявить этот приказ и заранее устранить все недоговоренное, – главнокомандующий считает, что эта перемена вызывается жизненными требованиями, необходима для успеха плана, и без этого не может нести ответственности. Я нахожу, что он прав.
Министр Пепеляев сидел, навалившись своей тучной фигурой на стол, насупившись, тяжело дышал, с легким даже сопением, и нервно перебирал короткими пальцами пухлых рук. Сквозь стекла очков просвечивали его мутные маленькие глаза, без яркого блеска, без выражения ясной мысли; за этой мутью чувствовалось, что глубоко в мозгу сидит какая-то задняя мысль, засела так, что ее не вышибить ничем – ни доводами, ни логикой, ни самой силой жизни. После некоторого молчания министр Пепеляев начал говорить медленно и тягуче, словно тяжело ворочая языком. Сущность его запутанной речи сводилась к тому, что он считает совершенно недопустимым такое отношение к 1-й Сибирской армии, что и так слишком много забрал власти главнокомандующий, что общественность вся недовольна за ее гонение…
– Так точно, – пробасил А. Пепеляев, генерал, – и моя армия считает, что главнокомандующий идет против общественности и преследует ее…
– Что Вы подразумеваете под общественностью? – спросил я его.
– Ну вот, хотя бы земство, кооперативы, Закупсбыт, Центросоюз, да и другие.
– То есть Вы хотите сказать – эсеровские организации. Да, я считаю их вредными, врагами русского дела.
– Позвольте, это подлежит ведению министра внутренних дел, – обратился ко мне, глядя поверх очков, министр. – Разрешите, Ваше Высокопревосходительство, снова выразить мне, – заговорил он, грузно повернувшись на стуле к Верховному Правителю, – то, что уже докладывал: вся общественность требует ухода с поста генерала Сахарова и замены его снова генералом Дитерихсом, а я, как Ваш министр-председатель, поддерживаю это.
– Что Вы скажете на это? – тихо спросил меня адмирал.
Я ответил, что не могу позволить, чтобы кто-либо, даже премьер-министр, вмешивался в дела армии, что недопустима сама мысль о каких-либо давлениях со стороны так называемой общественности; вопрос же назначения главнокомандующего – дело исключительно Верховного Правителя, его выбора и доверия.
– Тогда, Ваше Высокопревосходительство, освободите меня от обязанности министра-председателя. Я не могу оставаться при этих условиях, – тяжело, с расстановкой, но резко проговорил старший Пепеляев.
Верховный Правитель вспыхнул. Готова была произойти одна из тех гневных сцен, когда голос его гремел, усиливаясь до крика, и раздражение переходило границы; в такие минуты министры его не знали, куда деваться, и делались маленькими, маленькими, как провинившиеся школьники. Но через мгновение адмирал переборол себя. Лицо потемнело, потухли глаза, и он устало опустился на спинку дивана. Прошло несколько минут тягостного молчания, после которого Верховный Правитель отпустил нас всех.
– Идите, господа, – сказал он утомленным и тихим голосом, – я подумаю и приму решение. Ваше Превосходительство, – обратился он, некоторой даже лаской смягчив голос, – этот приказ подождите отдавать, о переформировании 1-й Сибирской армии, а остальные можно выпустить.
Через несколько часов было получено известие о вооруженном выступлении частей Сибирской армии в Новониколаевске. Там собралось губернское земское собрание фабрикации периода керенщины, состоявшее поэтому тоже из эсеров; вызвали они полковника Ивакина и совместно с ним выпустили воззвание о переходе полноты всей государственной власти к земству и о необходимости кончить Гражданскую войну. Ивакин, не объяснив дела полкам, вывел их на улицу и отправился на вокзал арестовывать командующего 2-й армией генерала Войцеховского. Оцепили его поезд и готовились произвести самый арест, но в это время к станции подошел, узнав о беспорядках, полк 5-й польской дивизии под командой ее начальника полковника Румши и предъявил требование прекратить эту авантюру, под угрозой открытия огня. Тогда Ивакин положил оружие, сдался. Офицеры и солдаты его полков, как оказалось, действительно не знали, на какое дело их ведет Ивакин; большинство из них думало, что он действует по приказу Верховного Правителя. Полковник Ивакин был арестован и предан военно-полевому суду.
На станции Тайга шли почти всю ночь переговоры из-за этого инцидента. Генералом Пепеляевым была выдвинута снова угроза бунта его армии, если Ивакин не будет освобожден, причем весь этот новониколаевский случай выставлялся им как самочинное действие войск. Через день полковник Ивакин пытался бежать из-под караула и был убит часовым. Ни одна часть 1-й Сибирской армии и не подумала выступать.
Адмирал Колчак обратился по прямому проводу к генералу Дитерихсу с предложением снова принять пост главнокомандующего. Ночью же Верховный Правитель передал мне, что Дитерихс поставил какие-то невозможные условия, почему он не находит допустимым дальнейшие разговоры с ним. Затем той же ночью эшелоны Верховного Правителя были переведены на следующую станцию, чтобы не загромождать, как было сказано, путей станции Тайга. Наутро был назначен отход и моего поезда.
9 декабря (по старому стилю 26 ноября), как раз в праздник ордена Святого великомученика Георгия, который Императорская Россия привыкла так чтить и отмечать в этот день славу своей армии, я был арестован Пепеляевыми на станции Тайга. Дело произошло так. Утром я приказал двигать поезд на следующую станцию, чтобы там выяснить окончательно все вопросы, потому что оставлять дальше армию в таком неопределенном состоянии было бы преступно. Мне доложили, что расчищают пути, отчего и произошла задержка, но что в 9 часов поезд отправится. Вместо этого около 9 часов утра ко мне в вагон вошел мой адъютант поручик Юхновский и доложил, что генерал Пепеляев просит разрешения прийти ко мне. Я передал, что буду ожидать 15 минут.
А через 10 минут были приведены егеря 1-й Сибирской армии, и мой поезд оказался окруженным густой цепью пепеляевских солдат с пулеметами, полк стоял в резерве у станции, там же выкатили на позицию батарею. Егеря моего конвоя и казаки, которых всех вместе в поезде было около полутораста человек, приготовились встретить пепеляевцев ручными гранатами и огнем, но комендант поезда лично предупредил новое кровопролитие, которое было бы очень тяжело по своим последствиям для армии и сыграло бы только на руку врагам России.
В вагон, где я находился, вошли три ближайших к Пепеляеву офицера, всклокоченные фигуры, так похожие на героев Февральской революции, с вытащенными револьверами, и один из них, насколько помню полковник Жданов, заявил, что по приказанию премьер-министра Пепеляева я арестован.
– Прежде всего, потрудитесь спрятать револьверы, так как ни бежать, ни вести с Вами боя я не собираюсь.
Пепеляевские офицеры выполнили приказание, молча и несколько удивленно переглядываясь между собой.
– А теперь я сам пойду разговаривать с премьер-министром в сопровождении моего помощника генерала Иванова-Ринова и адъютанта. Вы можете также идти, если хотите, сзади.
Когда я вышел из вагона, чтобы объясниться с министром, и проходил мимо оригинальной воинской охраны, арестовывавшей своего главнокомандующего, то все солдаты и офицеры вытягивались и брали под козырек. Отмечаю этот факт как доказывающий, что воинские части здесь были просто игрушкой в руках политиканствующих генерала и его брата-министра, а последние выполняли волю скрытого центра. Для меня было ясно уже и тогда, что я арестован по приказу эсеров.
Оба брата Пепеляевы сидели мрачно в грязном салон-вагоне командующего 1-й Сибирской армией, на столе, без скатерти, валялись окурки, был разлит чай, рассыпаны обгрызки хлеба и ветчины; генерал сидел развалясь, без пояса, в рубахе с расстегнутым воротом и также с взлохмаченной шевелюрой. И грязь и небрежность в одежде и позе – все было декорацией для большей демократичности.
Объяснение носило полукомический характер. Министр заявил мне, что для блага дела он решил меня арестовать, чтобы отделить от Верховного Правителя, «за то, что Вы имеете на него большое влияние», – докончил он; брат его, командующий армией, откровенно признался, что я виноват в оскорблении 1-й Сибирской армии, которую считал хуже других.
– А кроме того, Ваше Превосходительство, Вы хороший и храбрый генерал, это все признают, но Вы стоите за старый режим и… очень строгий. Нам такого не надо, – добавил этот парень-генерал.
– Кому это нам?
– Да вот офицерам… А впрочем, больше толковать нечего, – грубо басил он дальше, – арест уже сделан.
– Да. Сила на Вашей стороне, но Вы поймите, что Вы совершаете преступление, арестовывая главнокомандующего, оставляя армию без управления.
– Вы уже не главнокомандующий. Адмирал согласился просить еще раз генерала Дитерихса, а временно приедет и вступит в должность генерал Каппель[24].
Сначала Пепеляевы хотели везти меня в Томск, в свою штаб-квартиру, но потом оставили на станции Тайга, под самым строгим наблюдением, которое продолжалось до самого приезда генерала Каппеля, до вечера следующего дня.
Для него все происшедшее явилось полной неожиданностью. Каппель начал сейчас же переговоры с Пепеляевыми, затем по прямому проводу с Верховным Правителем, прилагая все усилия, чтобы разъяснить запутавшееся положение. Первая просьба генерала Каппеля к адмиралу Колчаку была – оставить все без ломки, по-прежнему: меня главнокомандующим, а ему вернуться на свой пост в 3-ю армию. Я просил настойчиво и определенно вернуть меня на чисто строевую должность к моим войскам, также в 3-ю армию. Адмирал в это время был уже в Красноярске, откуда, за расстоянием, все переговоры сильно затруднялись и заняли несколько дней. А в это время армия оставалась без управления, у заговорщиков оказались развязанными руки и эсеровский план взрыва в тылу, сорванный было нами вовремя, стал снова проводиться ими в жизнь.
Как скоро стало известно, Верховный Правитель пошел на уступки братьям Пепеляевым и обратился к генералу Дитерихсу с предложением вступить снова в главнокомандование Восточным фронтом; и получил ответ по прямому проводу, что Дитерихс согласен на одном только условии, чтобы адмирал Колчак выехал немедленно из пределов Сибири за границу. Это вызвало страшное возмущение адмирала, да и Пепеляевы, сконфуженные таким афронтом, более не настаивали. Но начатая ими по скрытой указке социалистов-революционеров гнусная интрига стала разворачиваться с быстротой и силой, остановить которые было уже невозможно.
В Красноярске стоял 1-й Сибирский корпус[25]под командой генерала Зиневича[26], который все время действовал по директивам и приказам своего командующего, генерала А. Пепеляева. Зиневич, выждав время, когда пять литерных поездов адмирала проехали на восток, за Красноярск, оторвались от действующей армии, произвел предательское выступление. Он послал, как это повелось у социалистов с первых дней несчастия русского народа – революции, – «всем, всем, всем…» телеграмму с явным вызовом; там Зиневич писал, что он, сам сын «рабочего и крестьянина» (тогда это осталось не выясненным, как этот почтенный деятель мог быть одновременно сыном двух папаш), «понял, что адмирал Колчак и его правительство идут путем контрреволюции и черной реакции». Поэтому Зиневич обращается к «гражданской совести» адмирала Колчака, «убеждает его отказаться от власти и передать ее народным избранникам – членам учредительного собрания и самоуправлений городских и земских» (нового послереволюционного выбора, то есть тем же эсерам). В подкрепление своего убеждения генерал Зиневич заявил, в той же прокламации, что он отныне порывает присягу и более не подчиняется Верховному Правителю. Этой изменой командира корпуса, генерала Зиневича, Верховный Правитель совершенно отрывался от армии, был лишен возможности опереться на нее и оказывался почти беззащитным среди всех враждебных сил. С другой стороны, и действующая армия ставилась Красноярским мятежом в невозможно тяжелое положение, теряя связь с базой и всеми органами снабжения.
Что это было – бесконечная ли глупость с позывом к бонапартизму или предательство, продажное действо. Видимо, и то и другое понемногу, – у Пепеляева бонапартизм, у Зиневича глупость, смешанная с предательством. Вскоре обнаружилось, что за спиной Зиневича стояла шайка социалистов-революционеров с Колосовым во главе.
Предательство, подготовленное эсерами, этим отребьем человеческого рода, созрело, иудино дело было совершено. В двадцатых числах декабря наша героическая армия готовилась дать генеральное сражение силам красных, чтобы остановить их наступление, прикрыть Центральную и Восточную Сибирь и получить возможность там за зиму провести все кардинальные перемены и подготовку для новой борьбы. В условиях суровой зимы двигались наши войска, делая перегруппировки, чтобы образовать ударные группы и совершить марш-маневры с обходом обоих флангов наседавших большевиков.
Северная группа должна была произвести удар примерно из района Томск – Мариинск, и для нее предназначалась 1-я Сибирская армия генерала Пепеляева, части которой должны были сосредоточиться из Красноярска и Томска. Но вместо этого сам Пепеляев и его ближайшие помощники теперь уже всецело отдались в руки социалистов-революционеров. В Красноярске, благодаря выступлению генерала Зиневича, началось брожение. А отсюда разложение перекинулось в Томск, главную квартиру 1-й Сибирской армии.
Гнезда в тылу, где зараза тлела месяцами, скрываясь под личиной покорности и даже содружества на общей почве ненависти к большевикам, зашевелились вовсю; вылезли из подполья эсеры и меньшевики, всюду устраивали открытые собрания, объявляли о переходе власти снова «в руки народа». Чехи, эти полки разъевшихся вооруженных до зубов тунеядцев, подавляли в тылу своей численностью, и они отдали свои штыки в распоряжение и на поддержку социалистов; боевая армия находилась далеко, да и была занята своим делом, держала боевой фронт и все время вела оборонительные бои, чтобы дать возможность вытянуть на восток все эшелоны. В тылу же не было сил, чтобы справиться с чехами, так как главная часть находившихся там русских войск, выведенные в глубокий резерв части армии генерала Пепеляева, была вовлечена, против их желания, в гнусное дело политического и военного предательства. Чтобы поколебать их ряды, кроме выступлений в Новониколаевске и на станции Тайга, был брошен испытанный уже в 1917 году Лениным и Бронштейном клич: «Довольно войны!» Этот клич, как по команде, раздался из социалистического лагеря одновременно во Владивостоке, Иркутске, Красноярке и Томске. Вот где был истинно поцелуй Иуды: социалисты, зажегшие пожар гражданской войны, кричали теперь об ужасах ее, о морях братской крови, о необходимости немедленного прекращения; кричали для того, чтобы предать Белую армию, а с нею и всю Россию на новое, долгое и бесконечное мучение, на новое крестное распятие.
Тыл забурлил. Наполненный до насыщения разнузданными и развращенными чехословацкими «легионерами», сбитый с толку преступной пропагандой социалистов, не получающий, вследствие разрухи министерских аппаратов, правильного освещения событий, тыл считал, что все дело борьбы против красных потеряно, пропало; это впечатление усиливалось еще и тем, как поспешно неслись на восток в своих отличных поездах «иностранцы-союзники». И английский генерал Нокс со своим большим штатом офицеров, и предатель Жанен, глава французской миссии, главнокомандующий русскими военнопленными, американцы, и разных стран, наций и наречий высокие комиссары при российском правительстве, железнодорожные и другие комиссии – все рвалось на восток, к Тихому океану. Их поезда проскакивали через массу чехословацкого воинства, которое ехало туда же, на восток, руководимое одним животным желанием: спасти от опасности свои разжиревшие от сытого безделья тела и вывезти награбленное в России добро!
Но и всего этого оказалось мало. Это было лишь начало выполнения проводимого социалистами плана; руководителям интернационала нужно было покончить с Белой армией и ее вождем, Верховным Правителем. Когда пять литерных эшелонов, один из которых был полон золотом, подошли к Нижнеудинску, они оказались окруженными чешскими ротами и пулеметами. Небольшой конвой адмирала приготовился к бою. Но Верховный Правитель запретил предпринимать что-либо до окончания переговоров. Он хотел лично говорить с французским генералом Жаненом.
Напрасно добивались этого рыцаря современной Франции к прямому проводу весь вечер и всю ночь; ему было некогда, он стремился из Иркутска дальше на восток. Но, без сомнения, причина этого наглого отказа была другая: все эти радетели русского счастья считали теперь свою роль оконченной, игру доведенной до конца; они, тайно поддерживавшие все время социалистов, теперь вошли с ними в самое тесное содружество и помогали им уже в открытую, чтобы разыграть последний акт драмы – предательство армии и ее вождя.
Представитель Великобритании генерал Нокс со своими помощниками был уже в это время во Владивостоке. Жанен спешил за ним и, рассыпаясь в учтивостях, послал ряд телеграмм, что он умоляет адмирала Колчака – для его же благополучия – подчиниться неизбежности и отдаться под охрану чехов; иначе он, Жанен, ни за что не отвечает. Как последний аргумент в телеграмме Жанена была приведена тонкая и лживая мысль-обещание: адмирал Колчак будет охраняться чехами под гарантией пяти великих держав. В знак чего на окна вагона – единственного, куда был переведен адмирал с его ближайшей свитой, – Жанен приказал навесить флаги великобританский, японский, американский, чешский (?!) и французский. Конвой Верховного Правителя был распущен. Охрану несли теперь чехи. Но, понятно, это была не почетная охрана вождя, а унизительный караул пленника.
Боевая армия находилась теперь еще дальше, корпуса ее только были направлены к занятому мятежниками Красноярску, никаких определенных известий о том, в каком состоянии армия, каких она сил, что делает, не было; кажется, руководители тылового интернационала, представители Антанты и заправилы-социалисты считали, что армии уже не существует. В тылу, в Иркутске и Владивостоке, эсеры, вновь выползшие теперь из подполья, как крысы из нор, захватили власть в свои руки.
Только в Забайкалье была сохранена русская национальная сила. Но когда атаман Семенов двинул свои части на запад, чтобы занять Иркутск и выгнать оттуда захватчиков власти – эсеров, то в тыл русским войскам выступили чехословаки, поддержанные 30-м американским полком, и разоружили Семеновские отряды. Вследствие этого части Иркутского гарнизона, оставшиеся верными до конца, не могли одни справиться с чехами и большевиками; под командой генерала Сычева[27]они отступили в Забайкалье, когда выяснилось, что оттуда помощь прийти не может.
Поезд с вагоном адмирала Колчака и золотой эшелон медленно подвигались на восток. На станции Черемхово, где большие каменноугольные копи, была сделана первая попытка овладеть обеими этими ценностями. Чешскому коменданту удалось уладить инцидент, пойдя на компромисс и допустив к участию в охране Красную армию из рабочих. Когда подъезжали к Иркутску, тот же чешский комендант предупредил некоторых офицеров из свиты адмирала, чтоб они уходили, так как дело безнадежно. По словам сопровождавших адмирала лиц, чувствовалось, что нависло что-то страшное, молчаливое и темное, как гнусное преступление. Верховный Правитель, увидав на путях японский эшелон, послал туда с запиской своего адъютанта, старшего лейтенанта Трубчанинова[28], но чехи задержали его и вернули в вагон.
Японцы не предпринимали ничего, так как верили, – это я слышал спустя полгода в Японии, – заявлению французского генерала Жане-на, что охрана чехов надежная и адмирал Колчак будет в безопасности вывезен на восток.
Поезд с адмиралом был поставлен в Иркутске на задний тупик, и в вагон к Верховному Правителю вошел чех-комендант.
– Приготовьтесь. Сейчас Вы, господин адмирал, будете переданы местным русским властям, – отрапортовал он.
– Почему?
– Местные русские власти ставят выдачу Вас условием пропуска всех чешских эшелонов за Иркутск. Я получил приказ от нашего главнокомандующего генерала Сырового.
– Но как же, мне генерал Жанен гарантировал безопасность. А эти флаги?! – показал адмирал Колчак на молча и убого висевшие флаги – великобританский, японский, американский, чешский и французский.
Чех-комендант потупил глаза и молча в ответ развел руками.
– Значит, союзники меня предали! – вырвалось у адмирала.
Через минуту в вагон вошли представители социалистической думы Иркутска, в сопровождении конвоя из своих революционных войск. Верховный Правитель был им передан чехами; в сопровождении нескольких адъютантов адмирала Колчака повели пешком через Ангару в городскую тюрьму. С ним же вели туда и премьер-министра В. Пепеляева, который так все время ратовал за эту общественность и своими руками рубил дерево, на котором сидел.
Узнав об аресте Верховного Правителя, правильнее о предательстве, японское командование, располагавшее в Иркутске всего лишь несколькими ротами, обратилось с протестом и предъявило требование об освобождении адмирала Колчака. Но их голос остался одиноким – ни Великобритания, ни Соединенные Штаты, ни Италия их не поддержали; силы японцев здесь были слишком малы, и они, не получив удовлетворения, ушли из Иркутска.
Социалистическая дума города Иркутска торжественно объявила, что она берет на себя всю полноту государственной Российской власти и назначает чрезвычайную следственную комиссию для расследования преступлений Верховного Правителя адмирала Колчака и его премьер-министра В. Пепеляева, виновных «в преследовании демократии и в потоках пролитой крови». В то же время, опасаясь Русской армии, эта кучка инородцев-интернационалистов начала спешно фабриковать свою революционную армию. Во главе был поставлен штабс-капитан Калашников, партийный эсер, бывший долго в штабе Сибирской армии Гайды. Товарищ Калашников поспешил отдать ряд громких приказов об отмене погон, титулования, о введении обращения «гражданин полковник, гражданин капитан…» и начал собирать силы, чтобы ударить с востока по нашей боевой армии.
От задуманного плана дать большевистской армии генеральное сражение на линии Томск – Тайга пришлось отказаться, так как 1-я Сибирская армия Пепеляева почти целиком снималась со счета. Части ее, находившиеся в Томске, теперь с приближением красных выступили против белых в открытую по приказу своих новых вождей с лозунгом: «Долой междоусобную войну!» Новыми вождями явились те же подпольные комитеты эсеров с присоединившимися к ним старшими офицерами сорта А. Пепеляева, генерала Зиневича, полковника Ивакина. Строевое офицерство и солдаты в большинстве были обмануты и шли за новым лозунгом, потому что не видели другого выхода. Но те части 1-й Сибирской армии, которые присоединились к боевому фронту, вошли в него в районе Барнаул – Новониколаевск, остались до конца верными долгу.
Когда фронт нашей армии приблизился к Томску, то там произошло вооруженное выступление частей 1-й Сибирской армии с арестом и убийством лучших офицеров, с передачей на сторону красных. Сам командарм (как его называли) Пепеляев принужден был одиночным порядком в троечных санях скрытно пробираться из Томска на восток.
В то же время в Красноярске его достойный помощник, командир 1-го Сибирского корпуса генерал Зиневич, все атаковал по прямому проводу штаб главнокомандующего, добиваясь определенного ответа, какого курса будет держаться армия и согласна ли она подчиниться новой власти, присоединиться к ним для прекращения войны. Под конец Зиневич в компании со своим политическим руководителем эсером Колосовым взяли угрожающий тон, заявляя, что если Белая армия не присоединится к ним, то весь Красноярский гарнизон выступит против нее с оружием в руках и не пропустит на восток.
Прямого ответа Зиневичу не давали, чтобы выиграть время. В то же время спешно стягивали к Красноярску части 2-й и 3-й[29]армий, имея целью с боем занять город и рассеять бунтовщиков. Части наши двигались ускоренными маршами через первую густую тайгу Сибири, по непролазным, глубоким снегам, совершая труднейшие в военной истории марши, теряя много конского состава и оставляя ежедневно часть обоза и артиллерии. От какой-либо обороны и задержки большевистской Красной армии, наступавшей с запада по пятам за нами, пришлось отказаться совершенно. Необходимо было спешить вовсю к Красноярску: там силы бунтовщиков увеличивались с каждым днем; были получены сведения, что и Щетинкин с одиннадцатью полками спускается вниз по Енисею из Минусинска, на поддержку Зиневичу.
В это время генерал Зиневич начал уже переговоры с большевистской Красной армией, через голову боевого фронта, использовав один неиспорченный железнодорожный провод. Зиневич вел переговоры с командиром бригады 35-й советской дивизии Грязновым, предлагая последнему свою помощь против Белой армии. Большевик, как и всегда, оказался цельнее эсера; всякое сотрудничество он отверг и потребовал сдачи оружия при подходе Советской армии к Красноярску. Тогда генерал Зиневич стал выговаривать «почетные» условия сдачи.
Особенно трудно было двигаться 3-й армии, которая имела район к югу от железнодорожной магистрали с крайне скудными дорогами, по местности гористой и сплошь заросшей девственной тайгой. По той же причине была потеряна связь со штабом 3-й армии.
Штаб главнокомандующего выжидал приближения корпусов в своем эшелоне, медленно продвигаясь на восток, простаивая по нескольку суток на каждой большой станции. В Ачинске на второй день нашего пребывания, около полудня, как раз когда к вокзалу подошел поезд одной из частей 1-й Сибирской армии, раздался около штабного эшелона оглушительный взрыв.
Был ясный морозный день. Солнце бросало с нежно-голубого холодного неба свой золотой свет, как гордую улыбку – без тепла. Мороз доходил до остервенения. По обе стороны яркого солнца стояли два радужных столба, поднимаясь высоко в небо и растворяясь там в вечном эфире. Я вернулся из городка Ачинска, куда ездил купить кошеву для предстоящего похода-присоединения к 3-й армии. Только вошел в свой вагон, не успел еще снять полушубок, как раздался страшный по силе звука удар. Задрожал и закачался вагон, из окон посыпались разбитые стекла.
Схватив винтовку, которая всегда висела над моей койкой, я выбежал из вагона. На платформе у вокзала было смятение. Ничком лежало несколько убитых, и их теплые тела еще содрогались последними конвульсиями. Бежали женщины с окровавленными лицами и руками; солдаты пронесли раненого, в котором я узнал моего кучера, только что вернувшегося со мной. В середине штабного эшелона горели вагоны, бросая вверх огромные, жадные языки ярко-красного пламени.
Кровь и огонь… Вот провел офицер маленького прелестного ребенка с залитым кровью личиком и огромными глазами с застывшим в них выражением ужаса; мальчик послушно шел и только повторял:
– Мама, ма-ама… Хочу к маме…
Выйдя из вагона, я встретился с генералами Каппелем и Ивановым-Риновым; вместе направились к горящим вагонам. Надо было распоряжаться, чтобы спасти всех, кого можно, и не дать распространиться огню.
Число жертв было очень велико. Убитые, покалеченные, жестоко израненные; у одной девушки, сестры офицера, выжгло взрывом оба глаза и изуродовало лицо, несколько солдат также лишились зрения; многим поотрывало руки и поломало ноги. Кому это было нужно? Полз слух, что сейчас же вслед за взрывом последует атака красных, что взрыв, как подготовка к ней, произведен социалистами… Были высланы патрули и дозоры, вызвана из города воинская часть. Закипела работа по приостановке и очистке пожарища.
Кто сделал, на ком вина, что за причина? Все эти вопросы не удалось выяснить точно. Упорно держался слух, что злодеяние, – погибло и пострадало несколько сот человек, – что взрыв был произведен эсеровской боевой ячейкой. Возможно, – недаром эти приверженцы новой религии ненависти, социализма, своим знаменем взяли ярко-красный цвет, цвет страдания, разрушения и смуты. Кровь и огонь…
Через два дня, взяв всех раненых, наш эшелон двинулся дальше и вечером 3 января 1920 года подошел на станцию Минино, последняя остановка перед Красноярском. Здесь мы узнали, что в городе произошло «углубление» новой революции, что фактическими господами сделались большевики, что печальный герой генерал Зиневич, «сын рабочего и крестьянина», арестован и посажен в тюрьму. Чем-то не угодил!
Было решено брать Красноярск с боем, на следующий день с утра. Действиями должен был руководить командующий 2-й армией генерал Войцеховский. Сначала все шло успешно. Наши части повели наступление на железнодорожную станцию, ворвались в нее, но вдруг неожиданно появился броневой поезд с красным флагом. Наши передовые роты повернули и начали отходить. Это подбодрило красных, которые перешли в контратаку. Наступление не удалось и было отложено.
На следующий день подтягивались новые части 2-й армии; удалось войти в связь и с 3-й армией, выход которой к Красноярску ожидался через сутки. Штаб главнокомандующего решил выйти из поезда, перейти из вагонов на сани. Жалко, что это было сделано так поздно. Во-первых, такой переход никогда не удается гладко сразу, всегда требуется три-четыре дня, чтобы все утряслось, чтобы заполнить все недочеты, во-вторых, служба связи и штабная ведется из походной колонны совершенно иначе, к чему надо также приспособиться, в-третьих, необходимо время, чтобы втянуть силы людей и особенно лошадей. Разместившись на санях, неумело, еще не по-походному, с массой лишних вещей, под охраной Екатеринбургской учебной инструкторской школы полковника Ярцова[30], – двинулся штаб главнокомандующего походным порядком. К вечеру пришли и остановились на ночлег в деревне Минино, северо-западнее города Красноярска.
Ночью в эту же деревню приехал генерал Войцеховский; составили военный совет. В результате мнение командующего 2-й армией восторжествовало, и генерал Каппель отдал приказ армиям двигаться дальше на восток в обход Красноярска; города решили не брать, так как гарнизон его усилился, подошел со своими полками с юга Щетинкин. Виделась такая угроза: если новая попытка взять Красноярск не увенчается успехом, белые войска попадут в положение безвыходное, между наседавшими с запада красными и бандами Красноярска. Решено было обходить город с севера.
6 января на рассвете наша небольшая колонна начала вытягиваться на дорогу, которая ведет из Минина на село Есаульское, переправу через Енисей. Дело в том, что, хотя стояла зима, все же необходимо было двигаться только на переправы: на север от Красноярска по обоим берегам реки тянутся высокие горы, несколькими грядами идут они, представляя серьезные преграды; часто попадаются между ними глубокие овраги; берега Енисея также очень крутые и обрывистые, в большинстве недоступные коннице и обозам.
В морозном тумане зимнего утра медленно подвигались длинные вереницы саней. Долгие, почти бесконечные остановки – в одну колонну вливались новые подходящие обозы. Теперь вместе с штабом шли части 2-го Уфимского корпуса, 4-я и 8-я стрелковые дивизии и 2-я кавалерийская.
Дорога чем дальше, тем делалась все труднее. Лошадям тяжело было ступать и тащить сани по размолотому, перемешанному с землей, сухому снегу. Частые, неопределенные по времени остановки утомляли еще больше. Сознание у людей как-то притуплялось и от мороза, и от этих остановок, от полной неопределенности впереди… и от неуклюжих сибирских зимних одежд, в которых человек представляет собой беспомощный обрубок.
Туманное предрассветное утро перешло незаметно в серый зимний день. Около десяти часов снова остановка. По колонне передается приказание обозу остановиться на привал, а школе Ярцова и 4-й дивизии идти вперед. Оказалось, что все дороги к северу от Красноярска были заняты сильными отрядами красных. Завязались бои. Выбили наши красных из одной деревни, в это время начинается пулеметный обстрел со следующей гряды гор. Надвигались в то же время и отряды противника с запада. Большевистская артиллерия, выдвинутая от Красноярска, начала обстреливать наши колонны с юга. Враг оказался всюду, каждая дорога была преграждена в нескольких местах. Шел не бой, не правильное сражение, как это бывало на фронте, а какая-то сумбурная сумятица, – противник был всюду, появлялся в самых неожиданных местах.
Армия, представлявшая огромные санные обозы, – так как пехота вся к этому времени ехала в санях, – заметалась. Тучи саней неслись с гор обратно на запад, попадали здесь под обстрел большевиков и поворачивали снова, кто на север, кто на восток, кто на юг, к Красноярску. Большевики и мятежные войска из Красноярска высылали к нашим колоннам делегатов с предложением класть оружие, так как «гражданская война-де кончена». Нашлись среди белых легкомысленные части, которые поверили этому, не сообразили, почему же сами красные не кладут оружия… и сдались. Тогда комиссары стали высылать навстречу нашим новым колоннам этих сдавшихся белых солдат; толпами выходили они с криком:
– Война кончена, нет больше нашей армии! Кладите оружие!
Многие клали. Два Оренбургских казачьих полка сдали винтовки, пулеметы, шашки и пики; после этого вышел комиссар к безоружным полкам с такими словами:
– Ну а теперь можете убираться за Байкал, к Семенову, – нам не нужно таких нагаечников…
Зачесали казаки в затылках; их манила другая перспектива – вернуться в свои станицы, к своим семьям, хозяйству, двинуться из Красноярска на запад. Пришлось же снова поворачивать на восток. И опять обманутые социалистами, шли казаки дальше тысячи верст на своих маштачках, безоружные. Но далеко не все попадались на удочку. Многие части дрались. Целый день продолжались бессистемные беспорядочные стычки вокруг Красноярска. Дробь пулеметной и ружейной стрельбы трещала во всех направлениях. На пространстве десятков верст творилось нечто невообразимое, небывалое в военной истории.
Предпоследним актом мировой драмы предательства национальной России был Красноярский бой, разыгравшийся 6 января 1920 года, как раз в русский сочельник, накануне праздника рождения Бога-Искупителя. Но вместо радостного гимна славословия раздавались теперь ругательства, хула, крики убиваемых и стоны раненых. До поздней ночи. Белая армия потеряла все свои обозы, артиллерию и более 60 тысяч убитыми, ранеными и пленными. Казалось, что цель объединенного интернационала достигнута, Русская национальная армия перестала существовать. Так казалось к вечеру этого дня и тем немногим из нас, которые пробились из окружения, когда разрозненные небольшие колонны стягивались к замерзшему дикому Енисею и становились на ночлег.
После кошмарно-тревожной ночи, закончившей Красноярскую трагедию, наступило славное зимнее утро, одно из тех, что бывают только в России на Святках. Чистый прозрачный свежий воздух. Белый снег блестит серебром и алмазами; нога утопает слегка в его упругой массе и при каждом шаге хрустит мелодичным волнующим звуком. С голубого неба лились потоки ярких, ослепляющих солнечных лучей, их тепло смягчало и без того некрепкий мороз, который только слегка щипал за щеки и бодряще прохватывал все тело. Офицеры и солдаты спозаранок, еще до свету, выбегали из жарко натопленных изб на улицу, чтобы подбросить лошадям сена или зайти к соседям узнать что-либо новое.
Было 7 января 1920 года – 25 декабря старого русского стиля, торжественные праздники Христова Рождества. Колокола высокой каменной церкви, белой с зеленым куполом, пели торжественным перезвоном на все село Есаульское, расходясь звучными волнами далеко, за Енисей, сзывая православных на общую молитву. И тянулись вереницы крестьян с серьезными бородатыми лицами, шли группы улыбающихся молодиц, разрумяненных морозом, блестящих улыбками и ласковыми глазами, проносились ватаги мальчишек, тащивших салазки и с громким смехом и криком перебрасывавшихся снежками. На всех лицах лежала обычная печать того спокойствия и умиротворения, какое столетиями испытывали русские люди в этот великий праздник Славы в вышних Богу и мира на земле…
И только небольшие кучки офицеров и солдат, толпившиеся около избы, на церковной площади и по берегу Енисея, не участвовали в общей тихой радости. Они стояли, такие свои, близкие и в то же время отчужденные, ушедшие далеко от обычной жизни, оторванные от нее. У всех на лицах выражение неземной усталости, которая проглядывает во всем: из голоса, из улыбки, из каждого движения; работает все время и пробегает тенями по лицам напряженная мысль, к ней примешались недоумение и постоянное ожидание опасности. В то утро в селе Есаульском было две России: одна – старая, кондовая, спокойная, величавая Русь, другая – усталая, измученная, воюющая Россия, пытавшаяся быть новой, а теперь всеми силами жаждавшая старого счастья, спокойствия и мирного труда. Шесть лет воевали они, эти люди, и конца не видно было впереди…
То там, то тут слышатся разговоры; сообщаются новости, со вновь подходящими делятся сведениями за вчерашний тяжелый день.
– Все наши, кто вышли из боя, повернули теперь на север, прямо вдоль Енисея…
– Куда же они идут?
– Да куда? Прямо на север, чтобы хоть в тундрах укрыться и перезимовать, до весны…
– А много вышло-то вчера из боя?
– Почти половина полегла… – слышится унылый ответ.
Как игла впивается свежая новость, жужжит, как несносная комариная песнь.
– На запад не пройти – все дороги и все станции заняты красными.
– Генерал Войцеховский снялся сегодня рано утром с тремя полками из Есаульского и тоже пошел на север. Говорили, что если можно будет, то потом на Ангару выйдут.
– Надо и нам за ними идти.
– Не иначе как тоже на север…
Раздавались торопливые, опасливые заключения немногих, наиболее нервных и потрясенных вчерашним Красноярским боем. Масса же стояла молча, и только все озабоченнее и сумрачнее выглядели лица.
В стороне, около сельской школы, на бревнах сидела кучка старших офицеров, обсуждая те же вопросы и по карте намечая путь. Только что подошел еще один небольшой отряд, егеря полковника Глудкина[31]с генералом Д.А. Лебедевым[32]во главе. Они пробились у Красноярска одни из последних и принесли нам последние сведения о красных; объяснялось, почему те не наседают теперь:
– Занялись грабежом огромных обозов, отбитых вчера. Почти все красные теперь в Красноярске. Дальше на восток если и есть большевики, то отдельные небольшие банды. Надо быстрее, не теряя времени, двигаться форсированными маршами – тогда пройдем.
Риск некоторый был. Но где его тогда не было?! Путь на север по Енисею лежал местами по ледяной пустыне, без признаков жилья на протяжениях в 80—100 верст; затем, даже при условии выхода потом на восток по реке Кан или по Ангаре, снова вышли бы на ту же опасность, пожалуй еще большую, так как это северное направление сильно удлиняло весь путь и вызывало большую потерю времени. Поэтому решено было двигаться на восток, придерживаясь в общем линии железной дороги.
– Запрягать, седла-а-ай, – раздались, звонко перекликаясь по улицам большого села, команды.
Люди встряхнулись и живо, с прибаутками кинулись по дворам. Через несколько минут выступили передовые дозоры, за ними небольшой авангард, и скоро весь отряд в составе немногим более тысячи людей вытянулся по зимней проселочной дороге. Проводники из местных крестьян обещали провести нас кратчайшим путем, в обход занятых красными деревень, на главный тракт. Времени терять было нельзя, поэтому шли почти без привалов, со скоростью, какую допускали наши не вполне отдохнувшие кони.
Небольшой отряд, состоявший на одну треть из конницы и на две трети из пехоты и пулеметчиков на санях, бодро продвигался вперед. Настроение было такое же, вероятно, какое бывает у людей, только что спасшихся от кораблекрушения. Разразилась катастрофа, пронеслась буря, сокрушительный, уничтожающий все ураган. И вот заброшенные в волне клокочущей стихии, они случайно лишь, потому что не потеряли сознания и способности рассуждать, ухватились за обломки, связали из них плот. Внизу ревет бездонная пучина, воет ураган, темно на горизонте; и плот, маленький и несчастный, носится, бьется, трепещет, но все-таки плывет, управляемый слабой рукой человека. Куда они плывут и зачем? Туда, к темному горизонту, где не видно ничего, но где все же есть надежда найти землю; плывут затем, чтобы не опустить руки, чтобы бороться до конца со стихией и, может быть, победить ее взбунтовавшуюся силу. Главные чувства, которые испытывают люди в такие минуты, – врожденная радость и жажда жизни, безотчетная гордость сознания сил, надежда на успех, вера в победу…
Дорога шла по реке Есауловке, горный поток, бегущий между отвесных скал. Гигантскими стенами возвышаются они, то голые и гладкие, точно отшлифованные, то отходящие уступами вглубь и покрытые столетним лесом. Кедры, пихты, лиственницы и сосны громоздятся в полном беспорядке, окруженные густой девственной зарослью. Стремнина горной речонки до того быстра, что местами не замерзает даже в самые трескучие морозы; сани проваливались и скрипели полозьями по каменному дну. Изредка дорога уходила на берег, на узкую полоску его, под самые скалы. Часа через три попалось небольшое жилье сибирской семьи лесного промышленника, охотника. От двора отходит в лес небольшая, слабо наезженная проселочная дорога в соседнее село. Вышел из избушки лесовик. Мрачное, но не хмурое лицо здорового красно-бурого цвета, острые глаза, смотревшие с добродушным участием на обступивших его егерей и стрелков, широкие угловатые жесты и грубый голос с растяжкой на букву «о». Лесовик объяснил, что рано утром он вернулся из села, куда с вечера прибыла банда красных, человек в триста. Ждали еще.
Выслав в направлении на село, занятое большевиками, боковой авангард от конных егерей, отряд продолжал движение по реке. Горы и лесная чаща еще более дикие, путь еще труднее. В одном месте скалы сошлись вплотную: чтобы выйти на дорогу, пришлось свернуть в лес и пробираться между гигантами деревьями. Вдруг новое препятствие – обрыв в несколько десятков саженей перед выходом снова в ущелье реки. Остановка, долгий затор и острожный спуск саней, поодиночке, на руках.
В это время со стороны бокового авангарда послышалась, так привычная за последние годы, дробь ружейных выстрелов. Несколько пулеметных строчек. Выслали подкрепление и дозор на карьере узнать, в чем дело. Оказалось, что по дороге из села наступала колонна красных, которая после короткого боя с нашим авангардом отступила. Стрельба прекратилась, смолкли выстрелы, будившие эхо векового сибирского леса.
Короткий декабрьский день кончался; быстро катилось по синему небу большое красное солнце, а с другой стороны, из-за гор, между кедрами поднималась чистая серебряная луна. Еще прекраснее и сказочнее стала дикая природа – высокие, громоздящиеся друг на друга, как замки великанов, горы, темные глубокие ущелья и зубчатые стены лесов.
Зажглись на небе рождественские звезды. Отряд наш шел уже более десяти часов. Без остановок, без отдыха, без пищи. Наконец, только к полночи, горы стали уходить в сторону, дорога делалась легче, мы приближались к тракту.
Вернулись передовые дозоры и доложили, что в ближайшем селе большевиков нет, квартиры отведены. Остановились на ночлег. Спали вповалку, не раздеваясь, тяжелым сном уставших сверх меры людей, но чутким от сознания опасности, – спали с винтовками в руках. Несколько раз поднималась тревога. Раздавались одиночные выстрелы, раз разгорелась стрельба. Банды красных подходили к селу и тревожили всю ночь отдых отряда.
Рано, еще не заалелся край востока, все были на ногах, слышалась возня сборов в поход, раздавались в темноте отрывистые, охрипшие от сна и мороза голоса. Наскоро поев, выступили дальше. Теперь мы шли уже по Сибирскому тракту. Старая, много видевшая дорога, широкая, сажень в восемь, с мостами, с разработанными спусками и подъемами; бежит эта дорога на тысячи верст то степью бесконечной, то дремучими густыми лесами, то поднимаясь в дикие горы, рассекая каменные твердыни их.
По Сибирскому тракту чаще попадались большие села, где наш отряд мог делать и привалы, и иметь ночлег под крышей. Но последнее становилось труднее с каждым днем, так как здесь, по тракту, тянулись отдельные сани, небольшие партии и отряды, проскочившие через Красноярск раньше рокового сочельника; все они шли впереди нашего отряда, и ежедневно мы догоняли все новых и новых. Квартирьерам, которые высылались всегда на рысях вперед, приходилось иметь массу затруднений, иногда чуть не стычек, чтобы найти, занять и отстоять достаточное количество изб для своей части.
Через три дня мы вышли на железную дорогу у станции Клюквенная. До сих пор кругом нас были полные потемки, в них прорезывались слабыми отдельными проблесками-зигзагами кое-какие слухи, отрывочные сведения от местных жителей. Что творится в Иркутске и Владивостоке, каково положение в Забайкалье, где и сколько находится наших русских воинских частей, что делают союзники и их войска? Какого пункта достигла наступающая советская Красная армия? Все эти вопросы до сих пор были полны неизвестностью.
На станции Клюквенная мы нашли довольно много своих – воинские части и учреждения, которые прошли восточнее Красноярска раньше; там же стояло несколько чешских эшелонов и была польская миссия. Здесь царила полная растерянность вследствие той же неясности, запутанности в обстановке. Питались и здесь, главное, слухами. Чехи встречали наших очень недружелюбно, так что на вокзал пришлось поставить от егерей вооруженный караул, чтобы обеспечить нашу безопасность, так как были попытки со стороны чехов обезоружить нескольких одиночных офицеров.
Вся железная дорога оказалась во власти чехов, нечего было и думать получить хотя бы один поезд для наших раненых и больных. Это можно было сделать только силой оружия. Как раз в эти дни на станции Клюквенная шел спор между чешским командованием и 5-й польской дивизией; братья-чехи категорически отказывались пропустить на восток даже санитарный польский поезд с женщинами и детьми.
На следующее утро наш отряд, увеличившийся в численности от присоединившихся новых частей, выступил дальше на восток. Целью движения был Иркутск, где, по сбивчивым данным, велся бой между частями атамана Семенова и местными красноармейцами. Стремление было – как можно скорее пройти туда, полнее собрать наши разрозненные силы и соединиться с Верховным Правителем, о предательском аресте которого мы тогда еще не знали. На станции Клюквенная стало известно, что трактом, немного впереди нас, идут части из состава 2-й армии под начальством генерала Вержбицкого[33], миновавшие Красноярск без боя за два дня перед главными силами белых армий; шли также из-под Красноярска два полка енисейских казаков.
Движение по тракту стало теперь гораздо труднее: каждой колонне, всякому отрядику хотелось проскочить вперед, никто не стремился добровольно изобразить арьергард и нести его тяжелую службу. Населенные пункты во время ночлега были переполнены сверх меры, причем опять-таки, благодаря расстройству управления, происходило занятие квартир чисто захватным правом, чуть не доводя дело до схваток.
На следующий день к вечеру наш отряд подошел к большому сибирскому селу Рыбному; на несколько верст растянулось оно по обе стороны тракта; две церкви, несколько каменных двухэтажных зданий. Оказалось, что в этом же селе ночуют и отряды генерала Вержбицкого, который вздумал было приказать егерям нашего отряда перейти в другой район. Те взялись за винтовки и пулеметы, и только путем переговоров с Вержбицким и отмены его требования удалось устранить готовое вспыхнуть столкновение.
Село Рыбное поразило всех нас своим богатством. Ведь это был январь месяц 1920 года, то есть пять с половиной лет прошло с начала войны, и почти три года Россия билась в конвульсиях своей смертельной революционной болезни. И вот – в каждой избе Рыбного были огромные, неисчерпаемые запасы всякой провизии, именно неисчерпаемые, так как не только всего было вдоволь для самих жителей Рыбного, но сердобольные хозяйки всю ночь пекли нашим офицерам и егерям хлебы, жарили, варили и продавали нам запасы на дорогу. В каждом дворе было по нескольку десятков гусей, индеек, кур, всюду коровы и телята. Была даже такая роскошь, как варенье.
Отношение сибиряков-староселов к нашим отступающим отрядам было самое дружественное; все эти русские крестьяне настроены очень патриархально, привыкли веками, от поколения к поколению, к своему укладу жизни, к прочно сложившемуся порядку, понятиям и традициям. Они религиозны, умели уважать и слушаться начальство, свято чтили Царя. И теперь еще во многих избах оставались на стенах портреты покойного Государя Николая Александровича, Императоров Александра III и Александра II, от отцов и дедов. Революция, как зловонный ветер в чистое место, ворвалась в их жизнь со стороны, чужая, непонятная и враждебная им. В нас они видели своих, таких же противников революции, контрреволюционеров. И относились как к своим.
После Рыбного мы свернули немного на юг, чтобы там пересечь речку Кан. По всем собранным сведениям, в городе Канске, лежавшем в месте, где железная дорога сходится с трактом, собрались большие силы красных; брать Канск в лоб для нашего небольшого, бедного патронами отряда было непростительной роскошью, бессмысленным риском, – на винтовку было всего от 20 до 30 патронов и больше никаких запасов.
Через день подошли поздно вечером к огромному селу со странным названием Голопуповка (Верхне-Аманатское тож). Несколько длинных параллельных улиц, правильно пересекающихся под прямыми углами, число дворов свыше 4 тысяч. Вот где будет просторный ночлег, – думал каждый из нас. Но не тут-то было. Вся Голопуповка оказалась набитой войсками, улицы были запружены распряженными обозами, во многих местах горели костры, облепленные группами солдат. Это грелись те, кому не хватило места в избах. Наш отряд долго бродил в поисках, где бы остановиться, обогреться и поесть. Наконец с большим трудом кое-как разместились, прямо втиснулись на окраине села в курных избенках. Зато все были внутренне довольны, что снова собираются мало-помалу русские белые части; через несколько дней мы будем представлять значительную силу, организованную армию.
Но не успели разложиться на ночлег, как в нашу избу вошли три офицера из состава частей, пришедших в Голопуповку накануне.
– Как хорошо, что Вы приехали, Ваше Превосходительство, – заявили они после первых приветствий, – а то здесь творится что-то невообразимое.
– В чем дело?
– Все деревни по реке оказались занятыми красными отрядами, высланными из Канска, где сосредоточились большие их силы; революционный большевистский штаб прислал письменное требование о сдаче оружия.
– Сегодня выслали разведку на реку Кан. Разъезды наткнулись на красных. Попробовали взять одну деревню с боем, потеряли убитыми нескольких драгун и отошли, – рапортовал другой офицер.
– Что же думают делать? Кто старший начальник в деревне?
– Ничего нельзя разобрать, Ваше Превосходительство, – мы оттого к Вам и пришли. Какой-то Совдеп идет. Собирались два раза на совещание начальников, – каждый свое тянет: кто в Монголию уходит, на юг, а некоторые – так даже большевикам сдаваться предлагают.
Несмотря на поздний час, я с генералом Лебедевым влезли опять в сани и принялись лично объезжать старших начальников всех частей, сосредоточившихся в Голопуповке. Некоторых приходилось поднимать с постели, других заставали на ногах, в сборах к вступлению. Действительно, растерянность была полная. Картина, нарисованная офицерами, оказалась бледнее действительности.
Часть начальников отрядов, – а здесь было много мелких частей, остатков от кадровых тыловых полков, – во главе с начальником 1-й кавалерийской дивизии генерал-лейтенантом Миловичем[34], смотрели уныло и безнадежно. Решили идти в Канск сдаваться красным – обещана-де всем полная безопасность.
– А что же делать, – апатично добавил генерал Милович, – патронов мало, а дальше за Каном, – даже если и пробьемся, – еще целый ряд таких же, коли не худших затруднений.
В других местах почти та же безнадежность и неуверенность, но меньше апатии. Там решили повернуть из Голопуповки на юг и через горы уйти в Монголию.
– Да ведь это, господа, безумие! Посмотрите на карту: двести пятьдесят верст идти без жилья по горам, да и затем только редкие маленькие кочевья монголов. Ведь вы всех погубите!
– Как-нибудь выйдем… А что же иначе делать? – спросил полковник Оренбургского войска Энборисов.
– Пробиваться силой, с боем, на восток.
– Нет, уж довольно. Теперь нас не заставишь больше, Ваше Превосходительство, – нервно произнес другой из монгольцев, офицер с русой бородкой, длинными волосами и всем обличьем интеллигента третьего сословия. – Теперь сами решили искать спасения.
Мы вернулись усталые только под самое утро домой, в свою избу; после небольшого совещания решено было отдать приказ, где я, как старший, объединял все части под своим командованием, распределял их на три колонны и в 9 часов утра приказывал выступить из Голопуповки на восток. Приказ заканчивался кратким напоминанием о воинском долге, о действительном значении для нас большевиков, а также указанием сборного пункта, порядка выступления и места явки всех начальников для получения боевых задач.
Окончив приказ и разослав его с ординарцами во все части и отряды, я прилег отдохнуть. В маленькой тесной избе вповалку спали офицеры и солдаты; здесь же прикорнула и большая семья хозяина избы, качалась на круглой пружине зыбка с грудным младенцем, который поминутно просыпался и пищал от непривычной шумной ночи. В комнате трудно было дышать, тяжелый кислый запах мешал заснуть. Я надел полушубок и вышел на улицу. Темная ночь, зимняя, глубокая, без просвета и без звезд, окутала землю. Улицы тонули в тумане, сквозь который мутными пятнами кое-где просвечивали костры. Часовые у ворот и дозорные нервно окликали каждую тень.
Темно было в деревне; тяжело и смутно было на душе у каждого из пяти-шести тысяч русских, занесенных сюда, в эту никому до сих пор не известную Голопуповку. Шестой год скитаний – сколько принесено за это время жертв для счастья родной страны. Личное счастье, семья, здоровье, кровь и самая жизнь. И за все это – очутиться загнанными где-то в глуши Сибири, в этой деревне с таким странным названием, как красному зверю в садке. Мрачным казалось настоящее, беспросветно тяжелым, обидным – прошедшие пять лет. А там впереди за деревней, на востоке, еще темнее. Там полная неизвестность, может быть, западня, а – кто знает – может быть, и конец страданиям – смерть безызвестная, мучительная, с издевательствами. Все представлялось неопределенным и зловещим. Ясно было одно – необходимо до конца быть твердым, сохранить бодрость в себе и в других.
Что-то скажет завтрашний решительный день?
С раннего утра все улицы Голопуповки пришли в движение; вытягивались запряженные санные обозы, стояли правильными рядами небольшие конные отряды, пехота шагала около саней, пулеметчики тщательно укутывали свои пулеметы, чтобы не застыли. Зимнее солнце поднималось тусклое и красное из ночных туманов, густых и белых, как паровозный пар. Вверху голубело небо. Воздух был свежий, бодрящий, наполненный крепким сибирским озоном. Настроение в отряде и даже обозах было приподнятое и как будто довольное. Не замечалось и следа вчерашней растерянности.
Один за другим являлись в избу, где расположился мой маленький штаб, начальники и старшие офицеры, чтобы получить боевую задачу и дать точные сведения о состоянии частей, о числе бойцов, количестве оружия и патронов. Последнее было всего хуже, – бедность в патронах была крайняя – в некоторых отрядах было на винтовку всего по 15 штук.
Наш отряд, состоявший вначале только из кучки в несколько сот офицеров и добровольцев, вышедших из-под Красноярска, да присоединившихся в Есаульском егерей, теперь увеличился до нескольких тысяч бойцов. Вошли почти все, сосредоточившиеся в селе. 1-я кавалерийская дивизия почти в полном составе не разделяла взглядов генерала Миловича и вошла в армию как одна из лучших боевых частей (под командой полковника Семчевского[35]). Из всех частей были составлены две боевые колонны, одна для удара с фронта, вторая обходная, а все обозы и мало боеспособные части вошли в третью колонну, которая должна была следовать по дороге за первой, в виде резерва.
Мороз за ночь покрепчал и здорово кусал щеки; пальцы коченели так, что больно было держать повод. День предстоял трудный: на таком морозе, после 15-верстного перехода, было тяжело вести наступательный бой. Объяснив начальникам боевой приказ, раздав задачи, я объехал войска и начал пропускать их у выхода из села. Несмотря на самые фантастические костюмы, на самый пестрый и разношерстный вид, чувствовалось сразу, что это были отборные, испытанные люди, стойкие бойцы. Красно-бронзовые от мороза и зимнего загара лица, заиндевелые от инея, точно седые, усы и бороды, из-под нависших также белых, густых бровей всюду смотрят глаза упорным, твердым взглядом – в нем воля и готовность идти до конца.
Колонны направились из села Голопуповка к реке Кан. Медленно, со скоростью не более двух верст в час, совершалось движение – вследствие трудных, ненаезженных дорог, также и из-за того, что передовые части и разъезды шли крайне осторожно, нащупывая противника. Около трех часов дня первая колонна завязала бой; красные, имея все преимущества – и командующий правый берег реки, и богатство в патронах и артиллерии, и, наконец, возможность держать резервы в избах, отогревать их там, – оказывали нам серьезное сопротивление; все первые атаки были отбиты; наши потери убитыми и ранеными росли. Надо было торопиться с маневром, который был рассчитан на то, чтобы глубоким обходом крайнего левого фланга большевиков прорваться через Кан и ударить оттуда им в тыл. Я со штабом от первой колонны поехал вдоль левого берега Кана ко второй, обходной.
Темнело. Местность западного берега реки идет равниной с ложбинами и обрывами, с низким кустарником, засыпанным тогда на полтора-два аршина снегом. С реки и из оврагов поднимался густой зимний туман и медленно, упорно обволакивал всю равнину. Несколько наших троек и десятка два всадников продвигались в этом тумане почти наугад, без дороги. Целина, глубокий снег и темнота все гуще. Справа редкие звуки выстрелов, слева глубокая, зловещая тишина. Вот в тумане начинают светиться, как мутные пятна масляных фонарей, далекие костры. Все ближе и ближе. Различаем уже группы людей, громаду обоза и массу лошадей.
– Какая часть? Кто такие?
– Сибирские казаки-и-и, – слышится в ответ разрозненный крик с разных мест.
– А вы кто такие? – спохватился чей-то голос.
– Командующий армией.
Останавливаюсь. Подходят ко мне полковники Глебов[36]и Катана-ев[37]. Расспрашиваю, в чем дело, почему стоят здесь. Оказывается, что это все, что поднялось с Иртыша, из Сибирского, Ермака Тимофеевича, казачьего войска; поднялось и пошло на восток, не желая подчиниться интернационалу, власти Лейбы Бронштейна. Здесь и войсковое правительство, и воинские части, разрозненные сотни нескольких боевых полков, и семьи, старики, женщины, дети, и больные, и раненые, и войсковая казна. Толпа номадов, точно перенесшаяся за тысячи лет, из великого переселения народов. Больше обозов, чем войска. Но все же бригада набралась и под командой полковника Глебова двинулась на поддержку первой колонны.
Через час примерно я нагнал обходившие части, которые наступали под командой генерал-майора Д.А. Лебедева.
– Как обстоит дело?
– Наш авангард внезапно атаковал красных, те бежали. Деревня занята нашими уже на восточном берегу.
– Сейчас же усильте авангард и направьте его вниз по реке, в тыл большевикам. В первой колонне вышла заминка.
Маневр удался вполне. Красные, только почувствовав наш нажим в тыл, дрогнули, началась паника, и они, бросая оружие, бежали по направлению к городу Канску. Наши войска, наступавшие в лоб, воспользовались этим, дружно ударили, и уже к 10 часам вечера все наши части были на восточном берегу реки. Захватили много оружия, патронов, взяли несколько пулеметов. Но пленных не было. Неистовство стрелков и казаков было беспредельно. Воткинцы из отряда генерала Вержбицкого, который наступал севернее моей первой колонны, ворвались в одну деревню и истребили в этой атаке несколько сот большевиков, трупы которых лежали потом кучами по берегу реки, как тихие безмолвные свидетели ужаса Гражданской войны.
Ночь после боев принесла войскам отдых, перерыв в опасности, спокойный ночлег. Характерная подробность. В занятых боем деревнях мы нашли такой обильный ужин, как будто нас ждали радушные хозяева. В каждой избе варилось мясо или свинина, а то даже и птица – куры, гуси, индейки, – жирные наваристые русские щи, пироги, ватрушки и сибирская брага. И всего в изобилии.
– Что, вы нас поджидали, что ли? – добродушно спрашивали хозяек стрелки, уплетая после голодного и холодного боевого дня так, что трещало за ушами.
– Нет, родимые, – с наивной откровенностью отвечали те, – не жда-а-ли. Вишь, понаехали к нам комиссары с приказом, чтобы варить, печь и жарить, что их войска много придет, что белых будут бить тута. Ну значит, по приказу мы и исполняли.
– Так вы для красных все это наготовили? – следовал грозный, в шутку, вопрос.
– А мы, батюшка, не знаем; нам все равно, что красный, что белый. Нам неизвестно…
После Кана мы шли несколько дней без препятствий. Прорыв линии большевиков и разгром, нанесенный им, нагнал такого страха, что дальше банды их бежали при одном нашем приближении. Мы двигались все время южнее железной дороги, опять оторванные от всего мира, в полной неизвестности, что творилось на западе и востоке, что ждало нас у Иркутска, куда мы так спешили, надеясь соединиться со своими.
Глухие места! Поистине, медвежьи углы. Села разбросаны на большом расстоянии одно от другого, разделенные вековым дремучим лесом, сибирской тайгой, по которой ни прохода, ни проезда, особенно в зимнюю пору. Между многими селами совершенно не было дорог.
– Мы туда не ездим, нам без надобности, – отвечали обыкновенно крестьяне на наши расспросы, – вот к железной дороге, к станции приходится ездить, там есть дорога хорошая.
– Да ты пойми, мы не о том спрашиваем, войску надо не к железной дороге, а вот в это село, – добивались мы нужной дороги прямо на восток, – как туда проехать?
Мужики, даже местные старожилы, так называемые чалдоны, становились в тупик и в лучшем случае заявляли:
– Летом, мол, еще можно проехать вдоль речки, а зимою, слыхать, никогда и не ездили туда.
Приходилось сильно забирать на север, затем снова спускаться на юг; чтобы пройти расстояние в сорок верст, иногда делали восемьдесят и тратили два дня. К железной дороге и к тракту выходить мы не хотели, так как там было очень тяжело с фуражом. При ежедневном движении, при полном напряжении сил лошадей, этих наших верных друзей, было совершенно необходимо давать им хотя бы по десять фунтов овса в день. На тракте, в торговых селах, найти его могли только самые передовые отряды, идущим сзади не оставалось ничего. Плохо было и с сеном. К тому же как раз на этом участке были села, сожженные за время пресловутой охраны железной дороги. Через одни такие руины мы прошли на третий день после Красноярска. Огромное село, когда-то богатое, дышавшее довольством, полное своей, русской незлобивой жизни, представляло теперь пустырь, на котором тянулись на версты кучи обуглившихся развалин изб. Кое-где высились уцелевшие дома; там ютилось теперь по нескольку семейств напуганных и озлобленных крестьян. Да белая церковь стояла одиноко и сиротливо… Печальные следы подвигов защитников прав «русской демократии»!
Некоторые лошади нашего отряда прошли уже не одну тысячу верст, и теперь, вследствие беспрерывной работы и бескормицы, начали терять силы, выбывать из строя. Идет из последних сил и вдруг остановится среди дороги, и никакими усилиями не сдвинешь ее с места. А кругом глухая угрюмая тайга, занесенная снегом, трещит сибирский мороз, и чуть не по пятам за нами крадутся большевики. Что делать?
Нет-нет да и натыкаешься на такую картину. Стоят в стороне от дороги сани, выпряженная лошадь бессильно, с какой-то эпической покорностью, опустила голову, согнула устало ноги; рядом хлопочут около нее два-три человека, наши офицеры и солдаты, пробуют пробудить в животном энергию, или так, просто сидят безнадежно на санях и ждут своей участи, помощи или чуда. Но надо сказать, что никого у нас не бросали, не оставляли товарища в трудную минуту. Таких злосчастных седоков, владельцев отслужившей вчистую лошади, забирали и распределяли с их незатейливым грузом по другим саням.
С каждым днем все больше и больше лошадей выбивалось из сил, оставалось навечно в тайге. Весь путь был уставлен, как вехами, этими животными. Проезжает обоз, мелкой, ровной рысью проходит вереница конного отряда, – иначе как гуськом нельзя было проехать по узким таежным дорогам, – оборачиваются мимоходом люди и грустным, тяжелым взглядом окидывают эту картину, которая так часто повторялась в дни Ледяного Сибирского похода.
Между столетними деревьями по колено в снегу стоит понуро лошадь. Почти без движения. Иной раз заботливый, благодарный хозяин набросает перед ней в снегу ворох сена. Не смотрит на него благородное животное. Безучастно и нехотя ухватило оно клок сена и стоит не жуя, провожая унылыми глазами проезжавшие без конца мимо сани. И во всей позе животного видна такая смертельная усталость, такой бесконечный и безвозвратный расход сил.
Стоит животное долго, упорно, затем ложится в снег, и кончена лошадиная жизнь. Вся тайга на тысячи верст была усеяна трупами таких лошадей, верно отслуживших свою службу. С каждой из них была связана молчаливая, тихая, но великая драма человеческой жизни. Сколько печальных мыслей, горьких чувств, сколько безысходного мужского горя и женских слез клубилось около каждой из этих тысяч павших лошадей. Не сосчитать, не представить и не понять…
В нашем отряде десятки лошадей ежедневно выбывали из строя. Положение создавалось трудное, почти страшное. Мы не имели права оставить никого из своих, все мы были связаны узами большими, чем дружба и братство. При каждом отряде ехали немногие семьи офицеров и добровольцев, мы везли всех своих раненых и больных; пока можно было, размещали по другим саням, но всему есть предел. Стало настоятельной необходимостью находить замену ослабевшим и павшим лошадям, искать ремонт у местного населения. Обменивали плохих лошадей у крестьян; пока были деньги, доплачивали, а затем поневоле перешли к тяжелым реквизициям.
Это было действительно тяжело, но неизбежно и неустранимо, как сама судьба. Крестьяне, особенно староселы-сибиряки, понимали, сочувствовали нам и не раз в откровенном разговоре высказывали это, а иной раз даже сами предлагали лошадей.
Приходилось поневоле установить реквизиции, кроме лошадей и фуража, также на хлеб и на теплую одежду. Если бы не было реквизиций под расписку старшего начальника и только с его разрешения, то офицерам и солдатам пришлось бы просто-напросто отбирать: не умирать же им было от голода, не оставаться же в дикой тайге на верную смерть от мороза.
– Ты, парень, – утешали солдаты сибиряка-таежника, – дома ведь не замерзнешь, да и лошадь вот мы оставляем тебе, она не гляди, что слабая, она лучше твоей. Ты ее подкорми, так к весне она тебе так заслужит, не в пример против твоей.
И таежник, хотя и скрепя сердце, кивал головой и сам становился рядом помогать запрячь свою лошадь в сани белого воина. Ведь что это было: столкнулись в необычных революционных условиях два русских крестьянина – один с Волги или с Уральских гор, другой рожденный в холодной, беспредельной Сибири; несмотря на это, они были так близки, так родственны друг другу, как могут быть только близки сыновья одного народа, выросшие в одинаковых жизненных условиях, имеющие одну общую, присущую всем чисто русским людям душу.
Трудно было и с ночлегами. Иной раз на сотни верст в тайге не встретишь ничего, кроме новоселов, с маленькими избами, с плохими дворами, почти без хозяйственных построек, – беднота. А все люди отряда, проделав за день сорок – пятьдесят верст похода, изголодались, смерзли, застыли – кровь, казалось, замерзает в жилах. Всем надо дать место под кровом, в теплой избе. Втискивались в маленькие комнатушки почти вплотную – все вместе, от генерала до рядового стрелка. Но на всех не хватало помещений. Разводили костры на улице и по дворам; около огней окоченевшие люди проводили длинную зимнюю ночь, чтобы утром двигаться дальше на восток.
Число больных все увеличивалось. Тиф и простуда косили людей. Не редкость было встретить розвальни, на которых пластом лежали три-четыре человеческих тела, завернутые чем только можно и, как мешки, привязанные толстыми веревками к саням. Возница, офицер или стрелок, только изредка оборачивается, чтобы посмотреть, не развязались ли веревки, цел ли его безгласный живой груз. На каждой остановке подходили к ним друзья и несколько сестер милосердия, этих скромных больших героинь отряда, и заботливо распутывали больных, давали пить лекарство, кормили, поправляли и заворачивали снова. В долгий путь!
Не обходилось, естественно, без ссор из-за ночлегов. Квартирьеры что-нибудь напутали или несправедливо распределили избы; то опоздал кто-нибудь. Ездят пять-шесть саней по селу в темноте, скрипят полозья по белому снегу, стучат в каждое светящееся оконце – напрасно ищут пристанища: все переполнено до отказа. В таких случаях приходилось еще уплотнять и назначать таких несчастных, безприкровных на целый район какой-либо части; только по строгому приказу впихивали тогда в полную избу к двадцати – тридцати человекам еще одного, двух.
Много неприятностей было с отдельными самостоятельными отрядами. После Голопуповки, когда мы прорвали Кан, никто, понятно, в Монголию не пошел; выждав время и результаты, все, перед тем будировавшие, двинулись вслед за нашим отрядом. Кроме них, появлялись еще и другие части, выныривали совершенно неожиданно откуда-то с боковых дорог. Благодаря постоянному движению, не было возможности привести все в порядок, установить какое-либо подобие организации; да и совершенно естественно, что внутри среди таких отбившихся отрядов накопилась значительная доля деморализованного элемента, не желавшего подчиняться стеснительным подчас приказам. С такими отрядиками было всего больше неприятностей и возни из-за ночлегов.
Кем-то из предприимчивых начальников одного из этих летучих отрядов был изобретен не лишенный остроумия способ добычи квартир. Движение наше происходило с частыми встречами и стычками с бандами красных, а при малейшей задержке нас нагоняли с запада авангарды Советской армии; естественно, от всего этого нервность в людях сильно повысилась. Вот на этом-то и построили все расчеты наши изобретатели.
Только расположились люди отряда на ночлег или привал, уплотнились выше меры, задали коням корму, поставили самовары. Впереди ночь отдыха. Вдруг с запада, откуда пришли, из тайги, раздается трескотня ружейных выстрелов, пулемет выпускает несколько строчек. Сейчас же высылаются дозоры, разведка – и в то же время торопливо запрягается обоз. Все тяжелое, небоеспособное снимается и, несмотря на усталость, плетется дальше на восток до следующего селения. Через час-полтора возвращается наша разведка.
– Никаких красных нет. Летучий отряд стрелял в двух верстах от нашего бивака.
– Что за причина?
– Говорят, что прочищали стволы, – ухмыляются наши разведчики, – пробовали пулеметы, не замерзли ли…
Через три дня после Канского прорыва наша колонна снова поднялась на север к железной дороге, там переночевали, прошли немного по тракту и спустились опять на юг. Здесь совершенно неожиданно встретились с частями генералов Каппеля и Войцеховского, ушедших после Красноярска вниз по Енисею. Радость была полная – нашли друг друга люди, считавшиеся потерянными навсегда.
Эти отряды перенесли тяжелых невзгод много больше нас. Движение их по Енисею на север, а особенно от впадения в него Кана по этой реке на восток, было неимоверно трудно и полно таких лишений, что даже главнокомандующий генерал Каппель отморозил себе обе ноги. Кан в своем нижнем течении бежит сдавленный высокими скалистыми горами, стремнина реки здесь не везде замерзла, несмотря на трещавший тогда сорокаградусный мороз. Генерал Каппель провалился с санями в одну из полыней, промочил ноги, а ехать до ближайшего селения нужно было еще очень далеко и долго – переход в тот день выдался в 90 верст. В результате обе ноги оказались отмороженными. Сколько было среди них таких страдальцев, сколько было погибших – никто не знал и не узнает никогда.
С генералами Каппелем и Войцеховским шли части, прорвавшиеся из Красноярского разгрома в сочельник; за Есаульской их нагнали еще ижевцы и уральцы из состава 3-й армии, двигавшейся сзади и обошедшей Красноярск на следующий день после катастрофы.
Теперь если подсчитать все, что шло в колоннах генералов Вержбицкого, Каппеля, Войцеховского и моей, то можно было составить силу тысяч в тридцать бойцов, не считая бродивших отдельных летучих отрядов, до сих пор никому не подчинявшихся. Необходимо было возможно скорее провести организацию, свести все отряды в полки и дивизии, наладить службу связи и правильность походного движения; равно назревала крайняя необходимость упорядочить вопросы снабжения, добыть фураж, хлеб и патроны – с железной дороги, установить случаи и однообразную форму законных реквизиций. Не менее существенно и важно было поставить себе точную, по возможности, определенную и выполнимую цель. До сих пор все шли просто на восток – после разгрома, после крушения всех прежних усилий; до сих пор перед нами не было выбора задачи, потому что не было сил выполнить их; представлялось необходимым как можно скорее пройти тысячи верст угрюмой холодной тайги, чтобы скорее соединиться с русскими национальными войсками Забайкалья.
Теперь же, когда наши отряды составили внушительную силу сами по себе, стало возможным и нужным решить, как мы пойдем дальше. Надо было разобраться и уяснить себе ту общую обстановку и все ее частности, какая сложилась в Иркутском районе, в Забайкалье и на Дальнем Востоке; до сих пор мы шли в совершенных потемках, верных сведений не имели; большинство же слухов было явно провокационного характера, выпускаемых из враждебных социалистических или чешских кругов. Усиленно поддерживалась версия, что войска атамана Семенова разбиты, сам он бежал в Монголию, все города до Тихого океана в руках советской власти. Цель была – поколебать наши ряды, убить дух, погасить веру в возможность дальнейшей борьбы.
Было решено дойти скорее до города Нижнеудинска и там собрать совещание из старших войсковых начальников, на котором выяснить все вопросы и принять правильные решения. Социалисты, считавшие, что они покончили с Белым движением, что армии под Красноярском были уничтожены, встревожились не на шутку, когда до них стали доходить вести о движении на восток массы отдельных отрядов. Но они успокаивали и себя, и свои красные банды тем, что «идут безоружные, разрозненные группы и отдельные офицеры, которых уничтожить, – как писали иркутские заправилы, – не трудно». Попробовали на Кане – обожглись. Теперь к Нижнеудинску были стянуты большие силы, причем красное командование решило дать нам отпор у села Ук, верстах в пятнадцати западнее города.
Колонна генерала Вержбицкого, имея в авангарде Воткинскую дивизию[38](сестру Ижевской[39], составленную сплошь из рабочих Воткинских заводов), лихой штыковой атакой обратила красных в бегство; наши полки ворвались в Нижнеудинск на плечах большевиков, которые понесли в этом бою очень большие потери.
От захваченных пленных, из местных прокламаций, приказов, из иркутских газет, частью и от чехов, эшелоны которых были на станциях западнее и восточнее Нижнеудинска, обстановка начала понемногу вырисовываться. Атаман Семенов крепко держал Забайкалье; в Приморье шла неразбериха, но «союзные» части еще оставались там; Иркутск в руках у социалистов, причем фактически там распоряжаются большевики-коммунисты; бывший сотрудник Гайды, эсер, штабс-капитан Калашников был назначен главковерхом, он-то и руководил теперь действиями красных банд для уничтожения «остатков белогвардейщины». Адмирал Колчак заключен в иркутской тюрьме; социалисты спешно вели следствие, собирали против Верховного Правителя обвинительный материал. Золотой запас стоит в вагонах на путях станции Иркутск и охраняется Красной армией. Чехословацкие войска решили соблюдать «вооруженный нейтралитет», чтобы сохранить для себя железную дорогу. В этом им помогали все союзники России, объявившие полосу русской железной дороги нейтральной!
Вот те данные, которые выяснились перед военным совещанием, собранным генералом Каппелем в Нижнеудинске 23 января 1920 года. На нем был принят такой план: двигаться дальше двумя колоннами-армиями на Иркутск, стремиться подойти к нему возможно скорее, чтобы по возможности внезапно завладеть городом, освободить Верховного Правителя, всех с ним арестованных, отнять золотой запас; затем, установив соединение с Забайкальем, пополнить и снабдить наши части в Иркутске, наладить службу тыла и занять западнее Иркутска боевой фронт. Все войска, шедшие от Нижнеудинска далее на восток, сводились в две колонны-армии: 2-я, северная, генерала Войцеховского и 3-я, южная, под моим командованием. Главнокомандование оставалось в руках генерала Каппеля, который со своим штабом двигался при северной колонне.
После Нижнеудинска движение начало принимать все более правильный вид, был внесен порядок, приводилось в ясность точное число бойцов, всех следующих с армией людей; старались поднять и боеспособность частей. Результаты стали сказываться с первых же дней.
К этому времени чрезмерно усилился новый наш враг – разыгрались вовсю эпидемии. Тиф, сыпной и возвратный, буквально косил людей; ежедневно заболевали десятки, выздоровление же шло крайне медленно. Иногда выздоровевший от сыпного тифа тотчас заболевал возвратным. Докторов было очень мало, по одному – по два на дивизию, да и те скоро выбыли из строя, также заболели тифом. Трудно представить себе ту массу насекомых, которые набирались в одежде и белье за долгие переходы и на скученных ночлегах. Не было сил остановить на походе заразу: все мы помещались на ночлегах и привалах вместе, об изоляции нечего было и думать. Да и в голову не приходило принимать какие-либо меры предосторожности. Это не была апатия, а покорность судьбе, привычка не бояться опасности, примирение с необходимостью.
На ночлеге для моего штаба отводят дом сельского священника. Входим, а стоявшие там перед нами садятся в сани, чтобы после дневного отдыха продолжать путь до следующей деревни. Старика генерала Ямшинецкого, начальника Самарской дивизии, два офицера сводят с крыльца под руки; узнаю, что он пятый день болен. Предлагаю генералу остаться переночевать у меня.
– Благодарю, но уж разрешите не отделяться от своей части, – слабым, тихим голосом говорит он.
– Плохо чувствуете себя? Что с Вами?
– Да все жар сильный и голова болит. На морозе легче.
– Ну, поезжайте с Богом!
Священник и матушка хлопотливо и радушно принимали нас; ужин, огромный медный начищенный самовар и даже каким-то способом сохранившаяся бутылка вина. За столом, как и всюду, разговоры на больные и близкие для нас темы – о разрухе, о русском несчастье.
– Скажите, батюшка, как настроение крестьян? Чего они хотят?
Священник помолчал минуту и затем ответил:
– По правде скажу, что наши крестьяне так устали, что хотят только спокойствия, да чтобы крепкая власть была, а то много уж больно сброда всякого развелось за последние годы. Вот, перед вашим приходом комиссары были здесь, все убежали теперь; так они запугивали наших мужиков: белые, говорят, придут, все грабят, насилуют, а чуть что не по ним – убьют. Мы все, прямо скажу, страшно боялись вас. А на деле увидали после первой же вашей партии, что наши это, настоящие русские господа офицеры и солдаты.
На местах была полная неосведомленность до того, что даже священник не имел никакого представления, какие цели преследовал адмирал Колчак, что представляла из себя Белая армия, чего она добивается.
– Крестьяне совсем сбиты с толку. Боятся они, боятся всего и больше молчат теперь, про себя думы хранят. Ну а только все они, кроме Царя, ничего не желают и никому не верят. Смело могу сказать, что девяносто процентов моих прихожан монархисты самой чистой воды. А до остального они равнодушны: что белые, что красные – они не понимают и не хотят никого.
Кончили ужин и долгие разговоры, в которых священник развивал и доказывал эти основные мысли. Ложимся спать. Я уже улегся в кровать, как входит из кухни адъютант, пошептавшийся там о чем-то со священником, и докладывает:
– Ваше Превосходительство, Вы лучше не спите на этой кровати: здесь отдыхал генерал Ямшинецкий, а у него сыпной тиф.
– Ну, какая разница?
И действительно – не все ли равно было спать на этой кровати или на полу рядом. И на каждой буквально остановке были так перемешаны больные и здоровые.
Через день утром выхожу садиться на лошадь, кругом идут сборы в поход; из нашей избы выводят под руки несколько слабых шатающихся фигур. В одной узнаю подполковника К., офицера с Русского острова. Узнал и он меня, смотрит с похудевшего лица огромными, какими-то туманными глазами. Здороваюсь, рука офицера горячая, как раскаленная печь.
– Что с Вами, подполковник?
– Виноват, Ваше Превосходительство, – отвечает он в полубреду, – сыпной тиф.
– Ну, поправляйтесь скорее, будьте молодцом.
– Постараюсь, Ваше Превосходительство…
С каждым днем все больше и больше больных; почти половина саней наших длинных обозов занята ими. Но, видимо, свежий воздух Сибири действовал лучше всяких лекарств: смертных случаев почти не было, все, кроме очень пожилых людей, выживали.
Движение колонн было рассчитано так, что пять дней каждая из них должна была двигаться самостоятельно, по заранее составленному маршруту; расстояние между дорогами было от 60 до 90 верст, почему поддерживать связь на походе было почти немыслимо. Единственно, к чему мы должны были стремиться, – чтобы движение совершалось точно по расчету. Тогда около станции Зима (с городком того же названия) обе армии должны были сойтись в один и тот же день, соединиться снова, чтобы наметить дальнейший план действий.
3-я армия шла южной дорогой через два-три больших старых села и несколько новых деревень, созданных главным образом переселенческим управлением, в период перед самой войной, для новоселов. И местность, и деревни, и дороги – все было еще более глухое, дикое, заброшенное, жившее своим укладом, своими местными интересами, далекое от гремевших событий, от великой русской трагедии, разыгрывавшейся тогда на необъятных пространствах Руси.
Но и здесь оказалось несколько банд, сформированных социалистами; и здесь они распустили свою вредную паутину – кооперативы работали вовсю, не столько занимаясь снабжением населения товарами, как политическими интригами. Все эти банды бежали при одном приближении армии, бежали на юг, в горы.
На третий день марша до нас дошли слухи через крестьян, что генерал Каппель умер. Он сильно страдал от невыносимой боли в отмороженных ногах, простуда все больше охватывала ослабевший организм, началось воспаление в легких. Сердце не выдержало, и 25 января ушел от жизни один из доблестнейших сынов России, генерал-лейтенант Владимир Оскарович Каппель. Всю свою душу он отдавал русскому делу, став с самого начала революции на борьбу с ее разрушительными силами. В.О. Каппель был полон веры в правду Белого движения, в жизненный инстинкт русского народа, в светлое будущее его, в возвращение на славный исторический путь. Чистый офицер, чуждый больного честолюбия, он умел привлекать к себе людей и среди подчиненных пользовался прямо легендарным обаянием. Смерть его среди войск, на посту, при исполнении тяжелого долга, обязанности вывести офицеров и солдат из бесконечно тяжелого положения, – эта смерть окружила личность вождя ореолом светлого почитания. И без всякого сговора, как дань высокому подвигу, стали называться все наши войска «каппелевцами»; так окрестили нас местные крестьяне, так пробовали ругать нас социалисты, так с гордостью называли себя наши офицеры и нижние чины.
Я получил уведомление о смерти генерала Каппеля от Войцеховского на четвертый день пути; одновременно он сообщил мне, что, по смерти В.О. Каппеля, он вступил в главнокомандование белыми войсками.
2-я армия двигалась по Московскому главному тракту, вдоль железной дороги, по которой бесконечной вереницей тянулись поезда чехословацкого воинства. Странная и постыдная картина: в великодержавной стране по русской железной дороге ехали со всеми удобствами наши военнопленные, везли десятки тысяч наших русских лошадей, полные вагоны-цейхгаузы с русской одеждой, мукой, овсом, чаем, сахаром и пр., с ценным награбленным имуществом. А в то же время остатки Русской армии в неимоверных лишениях шли, ободранные, голодные, шли тысячи верст среди трескучих сибирских морозов, ломая небывалый в истории поход. И не имея у себя дома ни одного поезда, ни одного вагона, даже для своих раненых и больных!
Чехи продавали нашим частям продукты и фураж, но требовали расплаты золотом или серебром. Предлагали они нам купить и лошадей, но по ценам в несколько тысяч рублей за каждую. Были, понятно, и среди этих «легионеров» люди, не потерявшие совести и чести, но, к несчастью, таких было слишком немного, почему они и не имели почти никакого влияния. Чех-доктор, лечивший генерала Каппеля, уговаривал его перейти в чешский эшелон и ехать в теплом вагоне, но тот наотрез отказался – не было никакой гарантии, что те из них, которые предали адмирала Колчака и сотни русских офицеров, остановятся перед предательством и на этот раз.
Некоторые более слабые физически офицеры, много стариков и женщин ехали в поездах, занятых чехами. И мы знаем, в каких ужасных условиях они все были. Вечные угрозы выдачи большевикам, самое грубое обращение, требование исполнять все тяжелые, черные работы и кидание из милости, пренебрежительно, объедков. Пожилых людей, русских генералов, чехи-солдаты заставляли чистить своих лошадей, выносить помои, убирать вагоны, таскать дрова – за корку хлеба и остаток пустых щей. Разжиревшие военнопленные ехали в поездах, везли вагоны награбленного добра, измываясь над русскими людьми! Ни в одной стране, ни у одного народа было бы немыслимо даже что-нибудь близкое этому безобразно-гнусному явлению. Только наша русская дряблость да муть, поднявшаяся после революции, вызвали к жизни эту позорную страницу в Сибири.
Социалисты, захватившие теперь власть, напрягали все усилия, чтобы рассеять и уничтожить нашу армию. Из Иркутска были высланы к станции Зима красные части – около 10 тысяч бойцов при пяти орудиях и даже с двумя аэропланами; главковерх штабс-капитан Калашников выехал сюда же, чтобы лично руководить действиями. Красные были в изобилии снабжены патронами и имели опять то же преимущество обороны в зимнюю стужу: они могли обогревать своих бойцов в теплых избах, в то время как наши стрелки подходили к месту боя иззябшие, продрогшие, с закоченелыми руками. Как тут стрелять и колоть!
Части 2-й армии подошли к станции Зима первыми и повели наступление с раннего утра. Около 9 часов, после упорного боя, красные отступили с передовой позиции, вынесенной западнее станции. К этому времени вышла и моя колонна; авангард быстро наступал, охватывая левый фланг большевиков. Те дрогнули и начали отступать. Главковерх Калашников со штабом уехал поездом в Иркутск; после этого, неожиданно для нас и для красных, выступил конный чешский полк, стоявший в эшелонах на станции Зима. Доблестный начальник 3-й чехословацкой дивизии майор Пржхал решил не оставаться безучастным, его честная солдатская натура заставила принять решение и взять на себя всю ответственность. Он выступил с конным полком своей дивизии и потребовал сдачи красных, гарантируя им жизнь. Большевики положили оружие и были собраны под стражей чехов в железнодорожных казармах.
Наши армии вступили в город Зиму. За помощь, оказанную нам майором Пржхалом, наши офицеры и стрелки были готовы простить все зло, сделанное легионерами и их руководителями раньше. Начали строить, с чисто славянской порывистостью, планы о дальнейших совместных действиях – операции против Советской армии. Но уже через несколько часов от Яна Сырового пришли по телеграфу и строжайший разнос майору Пржхалу, и приказание вернуть красным оружие, и требование ничего не давать белогвардейцам, не оказывать нам никакого содействия. Установившиеся было отношения между нами и чехами были сразу прерваны. Майор Пржхал, показав полученные им телеграммы, заперся в вагон, а его штаб, во исполнение приказа Сырового, захватил отбитый у большевиков денежный ящик и брошенные ими орудия; даже патроны, в которых мы испытывали самую острую нужду, выдавали нам под сурдинку, тайным образом.
Поражение у станции Зима расстроило планы большевиков. Их банды бежали на северо-восток, в направлении на город Балаганск. До самого Иркутска стала распространяться паника, причем даже такие завзятые приверженцы большевиков, как развращенные социалистами рабочие Черемховских копей, сами разоружали банды красноармейцев. Иркутские заправилы попытались взять армию с другого конца – повели переговоры с стоявшим во главе белых войск генералом Войцеховским. Для этого была использована его старая связь с Чехословацким корпусом. От имени большевиков говорили из Иркутска по прямому проводу чешский представитель Благош и американский инженер Стивенс.
Было понятно само собою, что наша армия не сдастся ни на какие условия, поэтому эти почтенные дипломаты спрашивали, на каких условиях были бы мы согласны обойти Иркутск, чтобы избежать кровопролития. Генерал Войцеховский собрал совещание старших начальников для составления ответа. Поставленные нами условия сводились в общем к следующему:
1. Немедленная передача адмирала Колчака иностранным представителям, которые должны доставить его в полной безопасности за границу.
2. Выдача российского золотого запаса.
3. Выдача армии по наличному числу комплектов теплой одежды, сапог, продовольствия и фуража.
4. Исполнение всего изложенного под ответственностью и гарантией иностранных представителей, ведших переговоры.
Но все это с той стороны были только новые вольты, продолжение той же фальшивой игры краплеными картами: большевикам нужно было выгадать время. Поэтому чех и американец начали оттягивать ответ. Штаб с Войцеховским остались еще на один день в городе Зиме – войска выступили дальше на восток. Теперь моя армия, 3-я, шла по Московскому тракту, а 2-я армия дорогой, верст на 30–40 севернее.
Получились сведения о том, что большевики в Иркутске бьют тревогу, – там шла мобилизация рабочих, усиленные формирования, ежедневная спешная эвакуация ценнейших грузов на подводах по Балаганскому тракту на север. Нашей неотложной задачей стало двигаться как можно быстрее, форсированными переходами, чтобы налететь на Иркутск врасплох.
3-я армия шла день и ночь с самыми минимальными отдыхами. В нескольких местах мы встречали высланные из Иркутска красные банды, два раза задерживались на полдня, вели бои. Немало зла и хлопот при этом причинили нам латышские поселки. Императорское Русское переселенческое управление, в заботах о всех подданных Царя, отводило в Сибири большие наделы и безземельным латышам. Здесь образовались целые колонии этой народности, богатые землей и лесом, ни в чем не нуждавшиеся. И вот характерно – в то время, когда русское крестьянство оказывало нам полное содействие, относилось сочувственно даже в дни наибольшей нашей слабости, эти колонисты-латыши организовывали банды, чтобы вести против белых партизанскую войну. Какая поразительная связь с тем явлением, что на протяжении всей грязной русской революции латыши являлись самыми ярыми углубителями ее, надежной опорой всех революционных вождей от Керенского до Бронштейна!
2-я армия встретила на своем пути более серьезное сопротивление, верстах в 70 северо-западнее Иркутска. Большевики боялись нашего движения на Балаганск, их базу, куда они вывозили все ценное; для прикрытия этого направления ими были высланы сильные части. Целый день, 6 февраля, и следующую ночь шел упорный бой во 2-й армии, причем она ввела в дело все свои силы. Моя армия также наткнулась в этот день на значительный красный авангард, но к вечеру рассеяла его и после небольшого отдыха продолжала движение, форсируя его до последнего предела. Гулко раздавались орудийные выстрелы боя 2-й армии, сначала на одной высоте с нами, затем стали отдаляться все дальше в тыл.
На следующий день после полудня авангард 3-й армии с налета занял станцию Инокентьевская, что лежит на западном берегу Ангары – против Иркутска. Движение было настолько быстро и так неожиданно было наше появление, что когда я со своим штабом въехал, одновременно с авангардом, в поселок Инокентьевский, то наткнулся на такую картину. Стоит длинный обоз. По обыкновению послал ординарца узнать, какой части.
– 107-го советского полка, – отвечали бородачи обозники, не узнав в наших закутанных в тулупы и дохи фигурах белогвардейцев, как и мы не распознали в них «большевиков».
– Для чего приехали сюда, «товарищи»? – спросил находчивый ординарец.
– За снарядами, в чихаус прислали, нас-то. А вы чьи будете?
– Штаб генерала Сахарова, командующего 3-й армией, – последовал громкий ответ.
Полная растерянность. Руки вверх и мольба о пощаде.
В то же самое время начальник разведывательного отделения штаба армии полковник Новицкий с пятью своими людьми захватил у красных два орудия, причем, обезоружив часть большевиков, остальным приказал держать караул до прихода наших.
Какие богатые склады нашли мы в Инокентьевской! Всего было полно: валенок, полушубков, сапог, сукна, хлеба, сахара, муки, фуража и даже новых седел. Только теперь встало во весь рост преступление тылового интендантства и министерства снабжения, оставивших в октябре нашу армию полуголой. Всю ночь и следующий день шла спешная раздача частям из складов всего, что хотели, – и то больше половины мы должны были оставить в Инокентьевской – не на чем было поднять; разрешили брать местным жителям.
Занятие нами Инокентьевской облегчило положение 2-й армии, которая, отбив противника на север, свернула к Московскому тракту и должна была на следующий день выйти на Иркутск. Со всех сторон подтверждалась полная растерянность большевиков. Ясно было, что при быстром проведении операции взять Иркутск не составит большого труда. Только нельзя было терять времени.
Всю ночь, не ложась спать, проработали над составлением плана операции по овладению Иркутском. К утру приказ был готов. Атака назначалась в 12 часов дня. Генерал Войцеховский, прибывший в Инокентьевскую перед рассветом, согласился со всеми соображениями, одобрил план и послал распоряжение 2-й армии согласовать свои действия – ударом на Иркутск с севера.
Утром грянул гром. Сначала был доставлен документ за подписью начальника 2-й чехословацкой дивизии полковника Крейчия, адресованный «начальнику передового отряда войск генерала Войцеховского». В нем заключался наглый ультиматум – чехи категорически требовали не занимать Глазговского предместья и не производить никаких репрессий по отношению железнодорожных служащих, иначе чехи угрожали выступить вооруженно против нас. Надо пояснить, что Глазговское предместье расположено на высотах, командующих городом; не занимая его, мы оставляли бы в руках большевиков тактический ключ всей позиции; кроме того, там могли бы сосредоточиться красные в любых силах и бить во фланг наши наступающие части. И все это проходило бы под прикрытием чешских штыков.
Вскоре затем с разных сторон – в том числе и от чехов – поступили сведения, что накануне утром Верховный Правитель адмирал А.В. Колчак был убит комиссарами во дворе иркутской тюрьмы. Это печальное известие как громом поразило всех.
Картина смерти за Россию светлого слуги ее, адмирала А.В. Колчака, рисуется так, – по рассказам и описаниям многих лиц, пробравшихся затем из Иркутска на восток. Почувствовав, что им Иркутска не отстоять, комиссары рано утром 7 февраля вывели из тюрьмы во двор Верховного Правителя и с ним министра В. Пепеляева. Последний страшно нервничал и умолял пощадить его жизнь. Адмирал хранил полное самообладание, вынул папиросу, закурил ее, отдав серебряный портсигар одному из красноармейцев сопровождавшего его конвоя. Величавое спокойствие адмирала Колчака так подействовало на красноармейцев, что они не исполняли команды комиссара и не стреляли. Тогда адмирал, отшвырнув докуренную папиросу, сам отдал приказ стрелять; по его собственной команде красноармейцы и произвели залп, прекративший жизнь одного из лучших сынов России.
Главная цель нашего быстрого движения к Иркутску – освободить адмирала – не удалась. Но тем не менее нужно было взять город, наказать убийц и искупить жертву великого человека продолжением дела, за которое он положил свою жизнь. Сведения все более подтверждали, что у большевиков дрожали поджилки и они не рассчитывали удержаться в Иркутске. Масса разведчиков и лазутчиков побывали в городе от нас, много переходило к нам и оттуда, из большевистского стана. Самое большое и неизгладимое впечатление оставили тогда два солдата-чеха, которые три дня слонялись по Иркутску, побывали во всех большевистских учреждениях с целью все разузнать. Затем эти добровольные разведчики вышли из Иркутска, пробрались на нашу сторону и явились прямо в мой штаб, требуя допуска ко мне.
Предо мною были два бравых солдата; загорелые, обветренные, добродушные лица, глаза смотрят смело и прямо, во всем облике та внешняя выправка и дисциплина, которая присуща только постоянному солдату. Чехи рассказали мне, что в Иркутске красноармейцы трусят нашей атаки и между собой поговаривают о том, что они сдались бы, если бы не боялись с одной стороны своих комиссаров, с другой – жестокой расправы белых.
– Брате-генерале, ничего не стоит взять Иркутск, ибо и их комиссары также боятся дюже. А рабочих-коммунистов всего несколько сотен, – закончил один из этих славных чехов.
Другой добавил:
– И позиции их совсем не страшны – они только местами понастроили из снегов окопы и облили их водой, чтобы лед был, но обойти везде можно. Я, брате-генерале, в Вашем штабе план всех их окопов нарисую. Мы везде были.
– Только скорее надо идти, и сразу Иркутск возьмете.
Это были последние из могикан, остатки тех братьев-чехов, воинов школы полковника Швеца, майора Пржхала; их остались единицы, которые были поглощены морем разнузданной и трусливой массы легионеров новой школы Яна Сырового и всех его политических соратников.
Мы были готовы произвести удар. Но ультиматум, предъявленный, от имени 2-й чешской дивизии, полковником Крейчием, произвел на большинство наших начальников отрицательное впечатление.
Генерал Войцеховский собрал военный совет, на котором присутствовали десять старших генералов. Разобрали все данные предстоящей операции, обстановку в случае неуспеха, почти все напирали особенно сильно на ограниченное количество патронов у наших стрелков. Только два мнения – атамана енисейских казаков генерал-майора Феофилова[40]и мое – были за немедленное наступление для овладения Иркутском; остальные высказались за уклонение от боя и обход города с юга. Войцеховский присоединился к этому решению и отдал приказ отменить наступление.
Генерал Феофилов особенно волновался; он прослужил в Иркутске долгие годы, знал каждую складку местности, каждую тропинку. А его молодцы-казаки сетью разъездов входили чуть не в самое предместье города с юга. Феофилов доказывал, что мы возьмем Иркутск без всякого риска неудачи. А так преступно было отказаться от этого и оставить у большевиков массу арестованных офицеров, весь российский государственный золотой запас и богатые военным имуществом иркутские склады.
После военного совета я проверил настроение войск моей армии; все офицеры, посланные мной, принесли самые отрадные впечатления. Части ждали боя, желали его, и почти каждый офицер и солдат мечтали войти в Иркутск. Ультиматум чехов произвел на войска иное впечатление – все страшно возмущались, накопившаяся ненависть к дармоедам, захватившим нашу железную дорогу, прорвалась наружу.
– Не посмеют чехи выступить против нас. А если и выступят, то справимся. Надо посчитаться!!
Посоветовавшись еще с генералом Феофиловым, я отправился на квартиру к Войцеховскому и уговорил его дать мне разрешение произвести налет на Иркутск с юга одними моими силами. Не сомневаясь в успехе, мне удалось убедить в том же и его. Вернувшись к себе, я только начал отдавать распоряжения для боя, как был получен письменный приказ генерала Войцеховского с новым категорическим запрещением брать Иркутск.
В 11 часов ночи было назначено выступление авангарда для обходного движения города. В Инокентьевской оставался заслон, который должен был демонстрировать подготовку нашего наступления на Иркутск и тем отвлечь внимание большевиков от наших обходящих колонн. Войска выступили сначала в южном направлении, чтобы затем свернуть на восток и через горы выйти к Байкалу.
Темная ночь. Зимняя стужа. Гудит ветер и крутит белыми снежными вихрями; от завывания бурана, от непроглядной темноты ночи делается еще тяжелее на душе. Все нервничают, все недовольны друг другом и собою. Чувствуется, что с этим отказом от овладения Иркутском рвется надежда, пропадает та светлая цель, которая вела нас тысячи верст через тайгу, снега Сибири и ее лютые морозы, через сыпной тиф и красные большевистские заставы…
Идем час, другой. Все молчат, нахохлились в этой воющей холодной зимней ночи, каждый полон своими невеселыми мыслями. Впереди, авангардом, Ижевская дивизия, затем егеря, мой небольшой штаб, генерал Войцеховский со своим штабом и дальше остальные части армии. В бездонной черной пропасти ночи не разберешь, как мы идем, – повернули раз, другой, третий – наконец и счет потеряли; не знаем, в каком направлении двигаться. Из-за темных туч и снежного буруна не видно звезд. Правильно ли идем? А! Все равно: такая безразличная усталость после всего – при авангарде проводники, авось не собьются.
Прошли лесом, где бурная ночная вьюга стала еще мрачнее и зловещее, спустились в овраг, поднялись. И перед нами замигали сотни огоньков.
Авангард остановился. Я проехал вперед узнать, в чем дело.
– Проводники сбились с дороги. Это Иркутск, – доложил мне начальник Ижевской дивизии, генерал-майор Молчанов. – Наши походные заставы подошли почти к самому предместью. Видно, здесь большевики не ждут нас!
Сама судьба стала за проведение плана генерала Феофилова и моего – захвата города внезапным налетом.
– Что это, нарочно Вы хотите настоять на своем, Ваше Превосходительство? – раздался сзади недовольный голос подошедшего к нам Войцеховского. – Ведь я приказал определенно – Иркутска не брать.
Я объяснил причину: проводник сбился с дороги, заплутался; выход к Иркутску для меня и моих подчиненных начальников – полная неожиданность. Но и большевики не ждут нас также. Надо этим воспользоваться и занять город, что теперь можно сделать почти без боя, без потерь. Но генерал Войцеховский упорно стоял на своем, не считая возможным менять налаженные и отданные им распоряжения для обходного отступательного марша; он отдал снова приказ двигать авангард на юго-восток к Байкалу. Прощай, Иркутск!..
Долго и медленно двигались мы, усталые и обозленные. Заалел восток. Раздвинулись тени. Стало светлеть. Мороз усиливался и трещал теперь вовсю, чисто по-сибирски. Утром мы вышли к деревне, уже верстах в 15 восточнее Иркутска, и здесь остановились на привал. Надо было выкормить лошадей и дать людям обогреться. Через три часа выступили дальше.
Дикой горной дорогой шли мы весь день и еще одну ночь. Казалось, конца не будет этому длинному утомительному переходу. Мороз крепчал; сильный порывистый ветер вырывался из горных ущелий с воем и визгом, забрасывая сани, людей и животных целыми ворохами снега. Не было сил, двигала всеми какая-то посторонняя автоматическая воля. На вторые сутки, перед рассветом, наша колонна дотянулась наконец к большому прибрежному селу Лиственичному.
Здесь Ангара вливается в Байкал. Несется прозрачная, как хрусталь, река. Быстрый бег и такая чистота, что видна на дне каждая галька, видны плавающие форели. В самые лютые морозы не замерзает здесь вода. Кругом нависли горы, живописными утесами громоздясь друг на друга. А вдали расстилается ровная бесконечная гладь огромного озера, таинственного, полного мистических легенд, бездонного Байкала. Снова, второй раз за этот переход, всходило солнце. Первые косые лучи его окрасили ледяную поверхность озера и дальние горы в нежные розовые тона, как цветы вишневых деревьев. Ангара стала еще красивее и бежала с немолчным рокотом, точно живая широкая голубая дорога. Усталые люди, выбившиеся из сил кони подходили к концу своего бесконечно длинного пути.
Богатое прибрежное село Лиственичное раскинулось на берегу Байкала на несколько верст. Большинство жителей рыбаки; они и теперь, в этот крепкий февральский мороз, вытаскивали свои снасти и собирались ранним утром на ловлю. Есть в селе несколько мельниц, фабрика, пароходство и судостроительные доки. Но все теперь, со времени революции, заглохло, приостановилось; жизнь тлела еще кое-как при белых, поддерживаемая надеждой на лучшее будущее. Теперь исчезла эта надежда; впереди стоял призрак смерти и разрушения; приближалась власть красных…
Лиственичное встретило наши войска радушно, тепло, но именно с этим оттенком горечи обреченных на погибель. Они все-таки ждали, что мы выбьем большевиков из Иркутска, займем город, соединимся с Забайкальем и восстановим порядок. Сквозь обычные разговоры, во взглядах, в отношениях просвечивала мысль: «Эх, отчего вы не можете защитить нас?! Да, верно, вы не можете…»
Наши части остановились в Лиственичном на продолжительный дневной отдых, чтобы подкрепить силы людей и конского состава для предстоящего на завтра перехода через Байкальское озеро. Ночевать здесь мы не могли – надо было освобождать место для идущей сюда же 2-й армии. Ее арьергарду пришлось уходить от Иркутска уже с боями, так как большевики, осмелевшие после ночного ожидания, увидевшие в нашем обходе слабость, решили преследовать, рассеять и уничтожить остатки «каппелевцев», как они писали в прокламациях и рассылали приказы по телеграфу на станции железной дороги, бывшие в их руках.
Несмотря на подход вплотную к Забайкалью, все еще обстановка там, впереди, рисовалась очень неясной: станция Мысовск по ту сторону Байкала была несколько дней тому назад в руках японцев. Как теперь, неизвестно, а было слышно, что будто большевики повели наступление, шел бой. Кто теперь там, где атаман Семенов, каковы его силы – никто в точности не знал. Лиственичное жило и питалось только слухами. Так же обстояло и с дорогой через Байкал. Раньше, в прежние годы, ездили прямо из Лиственичного или из Голоустного, верст 40–45 по льду; теперь совсем не ездят – незачем да и опасно, неравно и на большевиков наткнешься на другом берегу. Нам предстояло идти первым, нащупывая и прокладывая дорогу. К вечеру стали прибывать в Лиственичное передовые части 2-й армии. Моим войскам нужно было выступать дальше, пройти около 10 верст по льду до поселка Голоустного.
Байкальское озеро вулканического происхождения. Бездонной глубины бездна его бунтуется и клокочет иногда в самую тихую погоду; раздаются раскаты подземных громов, ворчит глухой рокот и поднимаются черные волны-валы. А зимой, когда морозы сковывают поверхность Байкала, в такие дни толстый слой льда грохочет, ломается, дает глубокие трещины, которые тянутся иной раз на многие версты. Рыбачьи села, что приютились кругом озера в диких Байкальских горах, живут в вечном страхе, поколение от поколения перенимая легенды о тайне своего «моря». Ни один настоящий, коренной байкалец не осмелится назвать его озером. Священное, таинственное море! Неизведанная, богатая и щедрая природа, но также и дикая, первобытная, полная крайностей, какие неизвестны в других странах. В Лиственичном жители нам рассказывали нескончаемые истории про трудность переезда через Байкал и в обычное-то время, когда все рыбаки выезжают на лед уже с ноября, когда шаг за шагом устанавливают и провешивают они дорогу на другой берег.
– И есть ли переезд через море, не знаем, не можем сказать, – получали мы ответ.
– Часто гремит Байкал, почти каждый день; поди широкие и глу-бо-о-окие трещины посередине. А только в точности неизвестно.
– Не иначе как в Голоустное идти вам, а оттуда, может, и найдете проводников в Мысовск, на ту сторону.
– Только и про Мысовск в точности не знаем. Были там японцы две недели тому назад; да, сказывают, большевики наступление на них сделали… Ничего в точности не известно…
Это постоянное «неизвестно» было самое неприятное, тяжелое и давило на дух, на психику людей.
Тысячи белых воинов стояли, как и раньше, весь путь от Красноярска перед полной неизвестностью. Через всю Россию прошли они; своими ногами измерили беспредельные пространства Сибири, пробились сквозь сказочные препятствия. А что дальше? Изможденные и усталые, закаленные в боях, привыкшие к опасностям, смеявшиеся над голой бесстыдной улыбкой костлявой смерти, они надеялись на заслуженный отдых, верили в возможность продолжения борьбы, в успех своего правого дела, имели впереди цель. Верили до последнего дня.
В рядах белого войска были смешаны люди самых различных слоев русской жизни: гвардейские офицеры и солдаты, кадровые офицеры армии, для которых традиции седой старины, честь мундира и слава старых простреленных знамен были дороже всего; волжские и уральские крестьяне, оставившие свои черноземные поля, чтобы бороться до победы над захватчиком и насильником, жидом-комиссаром; казаки Урала, Иртыша и Енисея, верные потомки своих предков, строивших ширь и могущество Государства Российского; рабочие Ижевских, Воткинских и других уральских заводов бросили станки свои, чтобы победить врага России; сотни молодежи из сибирских городов – кадеты, студенты, реалисты и техники – составляли отборные партизанские отряды, беспощадные к коммунистам и комиссарам, бесстрашные в боях; и много отдельных русских людей со всех концов земли нашей, тех, что не могли и не хотели примириться с властью темного преступного интернационала, тех, которые поклялись уничтожать большевиков до конца, до самого своего смертного часа. Среди них были женщины и девушки, раньше избалованные красивой, нежной русской жизнью, – теперь делившие тягости похода и боев наряду с офицером. У многих социалисты-большевики убили, замучили отца, мать, братьев, сожгли дома, разграбили имущество, надругались, растоптали все светлое. Теперь эти тысячи белых крестоносцев, напрягая остаток сил, дошли до священного Байкальского моря, достигли предела, за которым ждали отдыха, братской встречи, подмоги, опоры для дальнейшей борьбы. А вдруг это только мираж, обман доверчивого воображения?!
Люди от усталости, от измождения трудами, голодом и тифом доходили до галлюцинаций. Вот высокий, стройный полковник, в тонкой серой, солдатского сукна шинели, но в погонах и форме своего родного гвардейского полка, входит легкой походкой в комнату. Лицо как у схимника, худое, прозрачное, с огромными ввалившимися глазами, горящими упорным тусклым огнем. Бескровные губы кривятся судорогой страдания-улыбки.
– Ваше Превосходительство, позвольте доложить, – Байкал трещит. Я выступил с авангардом, но пришлось остановиться, – нет прохода, трещины, как пропасть.
– Взять сапер, досок и бревен. Строить мост. Не терять времени. Продолжайте движение – Вы задерживаете все колонны.
– Невозможно – Байкал трещит. И нет дороги…
Подхожу, беру руку полковника – она горячая, как изразец раскаленной белой гладкой печки. В глазах глубокая пропасть пережитых страданий, собрался весь ужас пройденного крестного пути. Стройное, сроднившееся со строем и войной тело тянется привычно и красиво, несмотря на то что страшный сыпной тиф проник уже в его кровь и отравил ее своим сильным ядом. Слабела воля. Падали силы. Терялся смысл борьбы, и сама жизнь, казалось, уходила…
Темная ночь окутала и горы скалистого берега, и дали Байкала, и глубокое небо без звезд. Ничего не видно – черная бездна вокруг. Двумя яркими нитками прорезывают ее два фонаря у переезда – моста, сделанного наскоро через трещину.
– Держи правее, пра-а-ве-е-ей, черт! – слышится по временам крик.
Лошади волнуются, храпят, прядут ушами и неловко дергают, чуя опасность бездонной пучины. Проходит колонна, медленно и осторожно, одни сани за другими.
Лишь к полночи добираемся до Голоустного. Маленькая прибрежная деревушка, всего несколько рыбачьих изб, больших, богатых, рубленных из столетних кедров – хоромы сибирских староселов. Останавливаемся на ночлег. Как камни, падают на лавки и на пол люди и засыпают тяжелым сном бесконечно уставшего. Только часовые стоят с винтовками у костров. Да полевые штабы составляют приказ на завтрашний переход, совещаются с проводниками, взятыми из голоустинских рыбаков.
– Господи, а в Мысовске-то, кажется, бой идет. Так и гудит артиллерийская канонада, – раздается нервный отрывистый шепот дежурного офицера, вернувшегося с улицы, с поверки постов.
Все выходят из избы, толпятся темные силуэты на берегу ледяного моря и замерли – жадно слушают, ловят далекие звуки. А там, из открытой черной пасти, несется немолчный рокот, то стихая на минуту, то усиливаясь снова, точно ворчащий звук отдаленной артиллерийской подготовки. Среди группы людей на берегу Байкала идет тихий разговор.
– Несомненно, это бой идет. Только где?
– Это не в Мысовске, Ваше Благородие; прямо вот так направление берите, туды, – машет рукой один из рыбаков Голоустного.
– Да, только что-то больно уж долго и громко шум идет, – раздается один сомневающийся голос. – Ведь у нас и на Германском фронте только в самые большие сражения так шумело. А сколько там одной тяжелой артиллерии бывало…
– Нет, это не пушки. Байкал трещит!..
– Ну вот! Спросите наших артиллеристов – всякий скажет, что это бой идет, артиллерийский. Очевидно, большевики атакуют в Мысовске семеновцев и японцев.
– Э-эх, хоть бы до завтра продержались, пока мы нашим на подмогу придем…
Разошлись, вернулись в избы, полные белогвардейцами, спавшими тяжелым глубоким сном. Заканчиваются последние распоряжения, рассылаются с ординарцами приказы. Добродушная круглолицая хозяйка избы со своими дочерьми возятся около печки и самовара, готовят на завтра подорожники. Добрые глаза их останавливаются на лицах офицеров, на спящих фигурах с выражением неподдельного участия и печали. За долгие годы войны, передумав и перечувствовав бесконечно много над ее ужасами, теперь впервые увидали эти простые люди армию, тысячи вооруженных солдат в их особом миру отношений, понятий и традиций; и над туманными грезами, над страшными легендами и сказками слегка приподнялся угол завесы…
До зари поднялись все, запряжены сани, поседланы лошади, отряд готов к выступлению, чтобы успеть засветло сделать этот переход в 40–45 верст по ледяной дороге. Предутренний холод пробирает тело, еще не отошедшее от сна. Вытягивается колонна, проходит улицей Голоустного и спускается по отлогому берегу на Байкал. Жители затерянного поселка, рыбаки с семьями, провожают и прощаются добрыми, задушевными словами, идущими от сердца пожеланиями.
Выезжают троечные сани из большого двора, где стоял штаб отряда; хозяйка суетливо бегает около, засовывая жареных кур, хлебы, пироги, рыбу. Ее младшая дочь, крепкая четырнадцатилетняя сибирячка, стоит у дверей, кутаясь в толстый платок, и переговаривается с отъезжающими, блестя чистыми, белыми зубами.
– Поедем, Сонька, со мной, – обращается один из офицеров, одетый в оленью доху, улыбаясь глазами.
– А чаго-ж, и поеду… Только куды-ы-ы с тобой ехать. Нет, не хочу.
– Почему не хочешь?
– Да большевики-то тебя забьют, а с кем я одна останусь, – жеманно отвечает Сонька при общем дружном смехе…
Но у всех остается осадок горечи от этих простых, уверенных и жалостливых слов подростка-сибирячки: большевики забьют…
Тяжело было идти по Байкалу. Только местами попадались небольшие пятна, покрытые снегом, который осел, как песок на морских дюнах, тонкими, извилистыми, волнистыми линиями. Все пространство озера было ровной ледяной пустыней. Взошедшее солнце блеском своим сверкало и переливалось на льду миллионами брильянтовых искр. Ветер, вырвавшийся из гор, несся свободно и буйно, завывая по временам и ударяя с такой силой, что валил пешехода с ног. Ехать все время в санях было невтерпеж – мороз и пронзительный ветер обращали все тело в сплошную ледышку, ныли кости, останавливалась кровь. Люди вскакивали из саней и бежали пешком рядом, чтобы отогреться. Двигались очень медленно, с остановками, так как при авангарде шел специальный отряд проводников, байкальских рыбаков, с длинными шестами, определяя прочность льда, осторожно отыскивая путь, чтобы не наткнуться на трещину.
Всего труднее было с нашими лошадьми. Кованные на обычные подковы, без шипов, они шли по ледяной дороге Байкала, скользя и спотыкаясь на каждом шагу. Бедные животные напрягали все свои силы, видно было, как при каждом шаге вздувались и дрожали мускулы ног, как напрягалась спина и сгибалась шея, чтобы сохранить равновесие. Более слабые лошади выбивались из сил и падали. Пробовали их поднять, провести несколько шагов. И людьми и животными управляли не обычные силы, а сверхъестественное напряжение воли: еще двадцать – десять верст – и все решится. И может быть, настанет заслуженный покойный отдых после многих тысяч тяжелого, полного опасностей Ледяного похода.
Февральское зимнее солнце поднялось невысоко и быстро стало спускаться по небосклону. Блестело яркими бликами необъятное ледяное пространство Байкала. По дороге попалось несколько старых трещин; на полтора аршина кристалл льда, как дивные гигантские аквамарины, а между ними черные полосы зияющей бездны бездонных вод. Кругом ровная, ровная пустыня, и лишь легкими силуэтами обрисовываются навстречу нам горы восточного берега. Мысовск!
Все меньше сил, все ближе вечер. И все больше падает на нашем пути бедных боевых слуг, наших усталых лошадей. Бредет животное по льду, ноги расползаются в стороны, не за что уцепиться стертыми подковами, не осталось сил в истощенном теле. И лошадь падает, грохается всей тяжестью. Нет больше возможности поднять ее. Быстро снимают седло или хомут, кладут на ближайшие сани… и дальше в путь. К концу дня вся дорога через Байкал чернела раздувшимися конскими трупами. Печальные вехи!
Людей двигала воля и твердость души, но шли из последних сил, изможденные, прозябшие до костей на ледяном ветру, голодные и бесприютные. Также скользили и расползались ноги, также не за что было уцепиться на скользкой дороге, также напрягалось тело – иногда равновесие терялось, падал человек. Лежит на льду, над бездонной пучиной Байкала, а мимо идут, идут свои, тянется безостановочно вереница пешеходов, саней и конных; кое-кто подойдет с участливым словом и дальше. Отлежится человек несколько минут, мысль стучит в усталой крови: «Вставай, вставай, вставай, – не то смерть, смерть, смерть…» Поднимается тяжело, точно с похмелья или после тяжелой болезни, и медленно бредет дальше. К близкой уже цели. В Мысовск…
Трудно дать настоящую картину тех дней – слишком необычна она, так угарно-устало прошли они, эти дни, и кажутся такими далекими, как кошмарный сон. Но представьте себе, заставьте себя на минуту, среди обычной вашей жизни в теплой обстановке, вообразить – тысячи верст сибирского векового простора; глухая тайга, куда не ступала нога человека, дикие горы с труднодоступными подъемами, огромные реки, скованные льдом, снег глубиной в два аршина, мороз трещит и доходит до 40 градусов по Реомюру, затерявшиеся в тайге и засыпанные снегом деревни. И представьте тысячи русских людей, идущих день за днем по этим глубоким беспредельным снегам; целые месяцы, день за днем, в обстановке жуткой по своей жесткости и лишениям. А тут еще чуть не на каждом шагу опасность братоубийственной войны. Бродячие шайки красных рассыпаны всюду, с запада преследует организованная большевистская сила, Советская армия, с востока выдвинуты сильные отряды эсеров. И полная неизвестность. Где конец? Что будет дальше?
Байкал с его ледяной дорогой – это апофеоз всего Ледяного похода. Белая армия шла через озеро-море, не зная, что ждет ее на другом берегу, ожидая там противника, жестокого и беспощадного врага Гражданской войны. Но звуки, казавшиеся накануне гулом отдаленного артиллерийского боя, были иллюзией усталого слуха, возбужденного, уже больного воображения. То гудел Байкал, трещал, раскалываясь, лед.
К Мысовску мы подошли под вечер. Маленький заштатный городок расползся своими плоскими домами и избами по невысокому берегу озера, раскинулся одной длинной широкой улицей и несколькими переулками. Жители Мысовска толпятся небольшими кучками, издали наблюдая, как, извиваясь бесконечной лентой, приближается колонна белых войск. Молча, не отрываясь смотрят они, как вступают в их городок эти люди, прошедшие через всю Сибирь. И лишь только тогда, когда вслед за авангардом появляется штабной значок, флаг наполовину русский трехцветный, наполовину белый с синим Андреевским крестом, сами собой снимаются шапки, кучки людей подходят ближе, толпятся около колонны.
– Эх, не так бы вас встречать надо, родные, – раздался голос из толпы, – да нет у нас ничего.
– Настрадались-то сколько вы.
– Сердечные. Герои!
Сейчас же нашлась масса добровольных квартирьеров, звали наперебой офицеров и солдат к себе. И через час отряды уже отдыхали в просторных теплых избах, обогревались; и снова хозяйки пекли, варили и жарили, как на праздник.
В Мысовске оказалась рота японцев, их передовой отряд; временно оставили, как нам объяснили, – если бы еще два дня не пришли белые, то японцы ушли бы на восток, в Верхнеудинск. И тогда Мысовск заняли бы большевики…
Как только наши солдаты увидали первых японцев, которые стояли на железнодорожном полотне, проходящем над озером, радостный гул пошел среди наших. Посыпались остроты, шутки, крики. Маленькие японские солдаты, зябкие и закутанные в непривычные для них меха, стояли навытяжку и отдавали честь вступавшим в Мысовск русским войскам.
Вот отделяются несколько стрелков-ижевцев и бегут к японцам, стоящим зрителями. Рукопожатия. Самураи бормочут что-то на своем непонятном языке и улыбаются узкими раскосыми глазами. Наши хлопают радостно их по плечу:
– Здорово, брат-япоша, ты теперь будешь все равно как ижевец.
– Спасибо, японец, – один ты у нас верный союзник остался.
– Будешь помогать нам большевика бить?..
– Ура!.. Банзай!
Маленькие желтые люди тоже кричат «ура» и «банзай». Сразу устанавливаются близкие, дружеские отношения. И наши солдаты уходят под руки с «япошками» по квартирам. Тепло, уютно, и появилась уверенность в завтрашнем дне, в том, что кончился тяжелый поход, оправдались частью наши надежды на возможность нового дела, продолжения борьбы за Россию.
В Забайкалье крепко держался атаман Семенов со своим корпусом. В Мысовске оказался присланный им встретить нас полковник, который, впервые за это время, сообщил действительные, правдивые и полные сведения о положении в Восточной Сибири. Узнали мы, что большевики не рискуют еще наступать на Забайкалье из Иркутска, но зато организуют банды из местных жителей, снабжая их оружием, агитаторами и инструкторами. Западная часть Забайкалья кишит такими шайками и с каждым днем все больше волнуется. Передал нам полковник, что адмирал Колчак успел перед своим арестом издать следующий указ:
4 января 1920 года, г. Нижне-Удинск.
Ввиду предрешения мною вопроса о передаче верховной всероссийской власти Главнокомандующему вооруженными силами юга России генерал-лейтенанту Деникину, впредь до получения его указаний, в целях сохранения на нашей Российской восточной окраине оплота Государственности на началах неразрывного единства со всей Россией:
1. Предоставляю Главнокомандующему вооруженными силами Дальнего Востока и Иркутского военного округа генерал-лейтенанту атаману Семенову всю полноту военной и гражданской власти на всей территории Российской восточной окраины, объединенной Российской верховной властью.
2. Поручаю генерал-лейтенанту атаману Семенову образовать органы Государственного управления в пределах распространения его полноты власти.
Верховный Правитель адмирал Колчак.
Председатель Совета министров В. Пепеляев.
Директор канцелярии Верховного Правителя
генерал-майор Мартьянов».
Узнали мы также, что японцы оказывают полную поддержку и помощь, которая еще, видимо, усилится с выходом нашей армии, – этого ждали, хотя никто не был уверен.
Скоро были получены из Читы телеграммы; атаман Семенов запрашивал о составе и силах армии и о том, какая и в чем первая неотложная нужда. Японское командование и миссия прислали горячий привет и восхищение перед подвигами Ледяного похода Русской армии.
Той же ночью мы получили несколько вагонов продовольствия и теплой одежды. Снова почувствовалась забота, прочная связь и опора, выросла еще более уверенность в том, что кончено тяжелое испытание. После одного дня отдыха, закончив эвакуацию части больных по железной дороге, двинулись дальше: 3-я армия на Верхнеудинск, 2-я – в район западнее его.
Действительно, все пространство западного Забайкалья кишело бандами; они организовывались по общей схеме, проведенной социалистами во всей Сибири, то есть с привлечением к работе органов кооперации и так называемых земств выборов 1917 года. Все распоряжения шли из Иркутска, оттуда же доставлялось оружие и патроны; военное руководство принял на себя товарищ Калашников, перешедший теперь от эсеров на службу к большевикам. Главным районом сосредоточения банд было большое село Кабанье.
Здесь и произошло первое столкновение. Передовые части 3-й армии после короткого боя выбили красных лихой конной атакой, овладели деревней и рассеяли банды. Путь был открыт. Остальные колонны прошли беспрепятственно до Верхнеудинска. Трудность движения заключалась теперь в другом. Забайкалье обычно отличается бесснежными зимами, не было исключения и в этом году; бедным нашим коням приходилось тянуть сани почти по голой земле или по рыхлому мелкому снегу, перемешанному с песком. Если бы не некоторые участки пути, когда можно было идти рекою Селенгой, по льду, лошади были бы зарезаны окончательно.
Верхнеудинск – большой город с казармами, с каменными домами, магазинами, базарами, гостиным двором, имеет богатое население в несколько тысяч человек. Белые войска были здесь встречены так тепло и искренно, к ним все проявили такую массу заботливости и даже нежности, как могут сделать это только свои близкие люди. Но была и ложка дегтя в этом сладком меду. В Верхнеудинске, как всюду по Сибири, благодаря неопределенному курсу и слабости тыловых властей, эсеровщина пустила прочные корни. Повторялась одна и та же история: все слои коренного населения страстно желали порядка, ненавидели всеми своими силами злую революцию и тосковали по прошлому величию и покою под Царской Державой, а кучка пришельцев, наглых инородцев и своих, русских предателей кричала о завоеваниях революции, о правах «демократии» и об опасности реакции.
Как и всюду, здесь они были так же трусливы и наглы. После прихода армии, которую эти иуды предали вместе с ее вождем, они притихли и попрятались. Но через несколько дней была сделана первая попытка: застрельщики направились к генералу Войцеховскому и к японскому командованию, начали разнюхивать и разведывать. И увидали, что эти, видимо не понимая ничего в происходящем, продолжают верить их высокопарным словам об каких-то их правах, как народных избранников, о пресловутой демократии и пр. После первого успеха тотчас же вылезла вся шайка и часами стала заседать в доме генерала Войцеховского. Их работа была направлена теперь на то, чтобы поссорить Войцеховского с атаманом Семеновым и внести смущение в ряды армии.
Здесь же, в Верхнеудинске, пришлось встретиться с генералом Дитерихсом. Он как-то весь сжался, похудел и смотрел в сторону пустым взглядом своих еще не так давно молодых и вечно полных жизни глаз. Не долго говорил я с ним, не находилось ни с той ни с другой стороны настоящих слов – слишком велика была пропасть с того дня в Омске, когда он передал мне, в трудную минуту, главнокомандование боевым фронтом, а сам уехал на восток. С того дня прошло всего три месяца, но по пережитому, казалось, пронеслись годы. Величайшие напряжения спасти положение, непрестанные бои, ряд предательств, катастрофа, тысячи верст Ледяного похода дикой сибирской тайги – у нас всех; постоянное воспоминание с том, что бросил армию в трудную минуту, думы тяжкие и переживания в одиночестве, здесь в тылу, за Байкалом, у него и несомненно муки совести с сознанием тяжести ответственности, которую снять может только жертва и подвиг, да исполненный до конца долг.
В Верхнеудинске стояла бригада японцев под командой генерал-майора Огаты. Во всем Забайкалье в ту пору одним из важнейших факторов являлись японцы. Их воинские части были ведь настоящей Императорской армией, такой, как наша в 1914 году. Организация и воинская дисциплина стояли так же высоко, как в обычное время; офицерский корпус и солдаты представляли отличный боевой материал, причем сила дивизии простиралась до 12–14 тысяч штыков и была достаточна для разгрома всех большевистских войск, если бы японцы решили выступить на помощь белым активно. Этого добивались от них давно и Директория, и Омское правительство, и теперь атаман Семенов; давно и напрасно, так как японцы, не говоря окончательно «нет», оттягивали время и в общем держались пассивно.
Необходимо – в целях справедливости и правды, а следовательно, и в интересах нашей Родины – сказать о том, что отношение японцев во всех случаях, кроме самого первого периода интервенции, значительно отличалось от всех остальных союзников. Только вначале, в 1918 году, японцы, и то не командование и не воинские части, а специальные миссии, стремились как можно больше и скорее набрать того, что плохо лежало; это были главным образом секретные карты и планы, делались съемки в районе Владивостокской крепости, занимались казармы в важных стратегических пунктах. Но уже с января 1919 года все это было совершенно устранено, отношения резко переменились в самую лучшую сторону. Поведение японского командования и войск стало вполне союзническим, даже рыцарственным. И они одни остались теперь в Сибири, чтобы помочь русским людям, русскому делу.
Положение их было не из легких. Как раз в те дни, в начале 1920 года, игроки мировой сцены начали перестраиваться. Слабое своей разрозненностью и расплывчатостью Белое движение отшатнуло Ллойд-Джорджа, Клемансо и Ко, успев их напугать все-таки призраком возрождения сильной национальной России. Видимо, этот испуг и был одной из причин, почему они поспешили приложить преступную руку свою к предательству и погублению белых. Эти современные руководители мировой политики, только что проклинавшие большевиков, призывавшие «всех чистых русских людей к борьбе с этим врагом не только России, но всего человечества», начали говорить о невмешательстве в русские дела; Ллойд-Джордж шел дальше и уже нащупывал почву для переговоров с советским правительством, с теми же большевиками. Под влиянием сложных и путаных причин «союзники» бросили белых и отошли от них, умыв руки.
Остались одни японцы. Они не отходили потому, что, во-первых, дух рыцарства, правила чести и верность слову живы и развиты в народе восходящего солнца значительно сильнее, чем в народах Европы, всех вместе и в каждом порознь; а во-вторых, – и это было немаловажно, – японцы опасались за Маньчжурию и Китай, где бурлили темные массы под влиянием большевистской агитации. Надо помнить, что Корея, провинция, присоединенная к империи лишь с 1911 года, представляет собой сильно взрывчатый, опасный очаг: покоренная, насильно подчиненная страна, лишенная своего национального правления, придавленная и имеющая потому много недовольных элементов.
Японские войска оставались на Дальнем Востоке и в Забайкалье, стремясь оказать нам самую полную поддержку. Но в этих своих стремлениях они наталкивались на французские и американские миссии, на своих друзей англичан. Императорскому японскому правительству приходилось сталкиваться не только с бездействием этих союзников русского народа, но и с открытым подчас противодействием; «союзники» выставляли Японии требование увести из Сибири войска и не помогать ни в коем случае колчаковцам, или, как теперь звали наши войска, «каппелевцам».
Стоявшая в Верхнеудинске бригада 5-й японской дивизии занимала казармы в самом городе. Командир бригады генерал Огата, человек недалекий и хитрый, с типичным раскосым лицом азиата, а не японца, с постоянной широкой улыбкой, выставил требования, чтобы наши части в городе не становились, указав на расширенную общесоюзническим советом нейтрализацию железной дороги. Долго спорили – мы не сдавались, Огата не хотел уступить, – наконец, пришли к соглашению: в город станут штабы с охраной, а части расположатся в военном городке в 8 верстах и в окрестных деревнях.
Там далеко было не спокойно. Красные партизаны, сорганизованные Иркутским штабом и главковерхом товарищем Калашниковым, совершали на деревни нападения, набеги, установили своеобразную блокаду, прекратив подвоз к городу крестьянами продовольствия и фуража. Приходилось снаряжать целые экспедиции, усиленные фуражировки.
Ежедневно много войск отвлекалось на службу охранения и разведки; отдых в Верхнеудинском районе получался очень куцый, а о регулярных занятиях нечего было и думать.
В самом городе охрана неслась японскими солдатами исправно и неутомимо. Ходили патрули этих маленьких людей, так непривычных к морозам, завернутых в торчащий пушистый меховой воротник, в теплых шапках, в валеных сапогах. Трудно было объясняться им со случайными прохожими по ночам на улице, с нашими патрулями, вестовыми и с лицами командного состава. Пробовали установить общий пароль, пропуск и отзыв – ничего не вышло: слишком различен и труден для каждой стороны язык другой. Выйти из затруднения помогли чувства взаимной приязни. Наши скоро подметили, что японцы с особой симпатией относятся к нашей армии, к каппелевцам. Именем погибшего героя установился сам собою и пароль.
– Капель-капель? – спрашивал ночной японский патруль встречных офицеров и солдат.
– Каппелевцы! – раздавалось в ответ.
Приятной улыбкой скалились зубы маленького желтого солдата, и вместе с морозным паром вылетала какая-то фраза, сопровождавшаяся похлопыванием по рукаву или ласковым смехом. И расходились…
Было устроено несколько официальных обедов. Японцы дали первый в нашу честь, приветствовали – как переводчик с чисто восточной пышностью перевел речь генерала Огата – героев, сделавших небывалый в мире поход через ледяное море Сибири. Затем мы ответили японцам. Неприятно было только слышать, что в речах японских представителей звучала какая-то неверная, смущавшая нас нотка о нейтралитете союзников, об их общих обязанностях перед чехословаками. Эти нотки стали проходить через все их заверения о дружбе к национальной России, о необходимости борьбы с большевиками до полной победы над ними. Японцы, как люди очень компанейские, охотно пьют и любят выпить. К концу обеда обычно чувства шире, речи смелей, особенно у молодых офицеров. Эти определенно заявили о своей готовности драться с нами вместе, плечо к плечу. Только бригадир Огата, даже и под парами, не забывал своего основного мотива, а несколько раз так договорился даже до пространного и несвязного лепета о «демократии и демократичности».
Части 3-й армии, сведенные к этому времени, по моему представлению, в отдельный корпус, были в очень тяжелом положении; более половины личного состава болело тифом, причем многие перенесли обе формы: сыпной и возвратный. Все были измучены и страшно устали от последних месяцев зимней кампании, от многих тысяч верст похода; и физические силы, и, еще более, состояние духа требовали предоставления частям продолжительного отдыха; нужно было время, чтобы переформировать части, дивизии свести в полки, уничтожить излишние штабы и учреждения, влить пополнения, вести регулярные занятия. Тогда через месяц-полтора можно было снова начать наступление на запад.
Главнокомандующий генерал-лейтенант атаман Семенов вполне оценивал эту необходимость. Через неделю им была прислана в Верхнеудинск монголо-бурятская дивизия на смену 3-го корпуса, которому было приказано двигаться походным порядком на Читу.
Несмотря на самое благожелательное отношение японского командования и их полное желание нам помочь, не могли предоставить для корпуса достаточного количества поездов. Из Верхнеудинска повезли только больных, раненых и Уфимскую дивизию, сведенную из бывшего Уфимского корпуса. Для остальных частей поезда были обещаны от Петровского Завода. Петровский Завод отстоит от Верхнеудинска верст на 140–150, на четыре перехода. Дорога предстояла крайне трудная, так как весь наш обоз, да и большинство пехоты двигались на санях. А этот район, к востоку от Верхнеудинска, отличался еще большим бесснежием; на десятки верст земля была совершенно обнажена или прикрыта слоем снега толщиною не более вершка.
Войска были распределены на три эшелона, одна группа двигалась за другой, чтобы таким путем всех обеспечить ночлегом. Местность здесь сильно пересеченная с оврагами и холмами, покрыта на три четверти густым девственным лесом; селения до крайности редки, расположены на 30–40 верст одно от другого, дорог очень мало. Впереди шли ижевцы и егеря, за ними Уральская дивизия, драгуны и волжане, в третьей группе казаки, оренбургские и енисейцы. Последние везли с собой своего маститого, смелого генерала Феофилова, который не избег общей участи и свалился в сыпном тифу.
Тяжелая дорога. Лошади, хоть и отдохнули в Верхнеудинске, с большим трудом тащат сани, скрипят, точно пробкой по стеклу, полозья, задевая землю, проходя по песку, цепляясь за камни. На подъемах из оврагов вечные заторы – приходится сани выносить на руках. Ночлеги в забайкальских деревнях с старосельческим населением, из тех же «семейных». Так прозвались издавна эти, одни из первых поселенцев угрюмого Забайкалья, староверы Петровской эпохи, которых выселяли сюда с их семьями. Истовые русские крестьяне, чуждые и враждебные не только непонятной им революции, но и всему, что пошло за ней. Повсюду чувствовалось здесь, а иногда открыто высказывалась одна общая основная мысль, причина этой враждебности: «Зачем отняли и погубили нашего Царя? Зачем разрушили нашу жизнь? Что вам еще надо?»
На этой почве разрасталось повстанческое движение, именно на этой почве контрреволюционности крестьянства. Большевики тонко использовали их, усилив свою агитацию и направив из Иркутска транспорты с оружием и патронами. Банды повстанцев группировались на юго-запад от Петровского Завода. Первой колонне было приказано атаковать их и уничтожить. Егеря и ижевцы повели бой, сильным натиском опрокинули красных и погнали их в горы. Но в этом бою был ранен в обе руки начальник первой колонны генерал-майор Молчанов[41].
Поэтому дело не удалось закончить – красных потрепали, отогнали, но не уничтожили.
Я со своим штабом шел с волжанами, в полупереходе сзади двигалась Уральская дивизия, на сутки позже шли казаки. Последний ночлег перед Петровским Заводом мы имели в большом бурятском ауле Коссоты. Среди пустынной всхолмленной местности, слегка запорошенной снегом, разбросано несколько сот мазанок и кибиток. Посередине высится капище-храм буддистов-бурят. Эти инородцы в массе своей настроены непримиримо к советской власти, к большевикам и всей социалистической братии. Немудрено, что здесь, среди зимовников бурят-буддистов, приходилось встречать повышенное и резко определенное контрреволюционное настроение.
С ночлега, из Коссот, волжане выступили рано утром, до рассвета. Мой штаб с конной Оренбургской сотней и квартирьерами 2-й колонны, общим числом не более 200 всадников, ожидал подхода головного отряда уральцев. Кони были поседланы, небольшой обоз запряжен. Около половины десятого утра летят верховые бурята, наши добровольные разведчики, и докладывают, что на Коссоты наступает банда красных, человек до тысячи. Вскоре прискакали с такими же донесениями из сторожевого охранения казаки.
Двинув вперед по дороге на Петровский Завод небольшой, в несколько саней, обоз, я приказал нашему маленькому отряду выходить из аула, чтобы затем с двух сторон атаковать красных и отбросить их на подходящих уральцев. Идем небольшой сомкнутой колонной, легкой спокойной рысью. Только вышли из последней улицы Коссот, как с ближайших холмов затрещали винтовки большевиков, заработал пулемет.
– Ваше Превосходительство, скорее, скорее, – кричит мне под ухом начальник штаба корпуса, полковник К.
– Не кричите, крики всегда вызывают волнение и беспорядок, – только успел я ему ответить, как сбоку послышались несколько испуганных голосов:
– Ваше Превосходительство, Ваша лошадь ранена!
Нагнувшись с седла, я увидал, что действительно из левого плеча Маруси била фонтаном темная, алая кровь. Любимая полукровка, делившая со мной поход от Уфы, напрягала усилия и еще выше выбрасывала в своем легком беге раненую стройную ногу. Виден был сбоку умный карий глаз лошади, смотревший напряженно и печально, но без малейшей тени испуга или страха. Прошло всего несколько мгновений. Вдруг Маруся рухнула на землю, придавив мне левую ногу, так что с трудом удалось мне ее вытащить. Вторая пуля в голову сразила моего верного боевого друга насмерть.
Лежа на земле, я видел, как весь небольшой отряд пронесся мимо меня; так что, когда мне удалось встать на ноги, я очутился один среди пустынного поля, одетый в неуклюжие меховые сибирские одежды; вот что было надето на мне: фуфайка, гимнастерка с погонами, шведская куртка, полушубок и меховая доха, а на ногах валенки. Красные, продолжая обстрел, двинулись вперед и приближались. Пришлось пережить несколько жутких минут, самых отвратительных.
Но вот из-за холмов, за которыми скрылся мой конвой, показались четыре всадника. Вскоре подъехали ко мне два офицера, полковник Семчевский и ротмистр Исаев, и два казака-оренбуржца. Подхватили меня и помогли выбраться. А вслед за ними смелый начальник партизанского отряда прапорщик Маландин лично подал из обоза мне тройку. Кошева подъехала, звеня колокольцами под дугой, сделала поворот и, забрав меня и одного раненого драгуна, плавно полетела обратно из-под самого носа красных; успели даже положить с собою мое седло, снятое казаком с убитой Маруси. Такие минуты способны вознаградить за многие дни, даже месяцы страданий и лишений. То самопожертвование, которое проявили господа офицеры и казаки, красота этого невидного, не показного, но большого подвига говорит лучше всяких слов о связи начальника с подчиненными, о той настоящей братской связи, которая некогда была присуща всей Российской армии.
Волжане, издали услышав перестрелку, повернули назад, на Коссоты, навстречу нам. И очень кстати, так как другая банда красных направилась по дороге к Петровскому Заводу, чтобы отрезать этот путь. Волжская кавалерийская бригада, предводимая лично своим бессменным начальником генералом Нечаевым, разбила большевиков; часть была уничтожена, остальные убежали в леса. Красные, наступавшие на Коссоты, были прогнаны нашими силами. Часть всадников, спешившись под командой полковника Новицкого, повела на них наступление с фронта, а небольшой отряд пошел с фланга в конную атаку во главе с полковником Семчевским. Большевики бежали. Вскоре мы соединились с волжанами и уже к полудню без дальнейших помех достигли Петровского Завода.
Большой поселок, основанный еще в царствование Петра Великого, около каменноугольных копей и богатых залежей железной руды; несколько тысяч жителей – рабочие завода, торговцы, скотопромышленники, немного земледельцев. Сплошь почти все они те же «семейные», старообрядцы. В Петровском Заводе мы простояли несколько дней, ожидая, пока будут поданы составы, чтобы погрузить пехоту и штабы, которым был обещан переезд отсюда в Читу по железной дороге. Люди отдыхали, мылись в бане, приходили в себя от всего пережитого ужаса междоусобной войны.
Но не оставляло напряженное состояние, как не прекращались и слухи о новых опасностях. Наша разведка к этому времени была налажена уже хорошо и давала очень полные сведения. Было установлено, между прочим, совершенно точно, что чехи, которые все еще проходили эшелонами на восток, снабжали красные шайки оружием и патронами. В их поездах скрывались большевистские комиссары, и оттуда шло фактическое руководство военными действиями против замученной усталой Русской армии. На третий день нашего пребывания в Петровском Заводе на базаре несколько чешских солдат и офицеров продавали русские казенные вещи. А как раз перед тем мной был отдан приказ, запрещающий делать это нашим солдатам под страхом предания суду. Наш патруль, высланный от егерей на базар, отобрал у чехов казенные вещи. Те начали ругаться и грозить; тогда егеря выгнали чехов с базара плетьми.
Через несколько часов разведка доставила сведения, что в эту ночь чехи собираются выступить против нас с целью обезоружить отряды белых, стоявшие в Петровском Заводе. Были приняты меры, чтобы обезопасить себя. Выставили сторожевое охранение, сильные заставы, на станцию железной дороги отправили патрули. Старшему чешскому начальнику от моего штаба было послано требование, чтобы впредь ни один чех не смел приходить в поселок, во избежание недоразумений. В каждой части было приказано иметь всю ночь дежурные роты и сотни, в полной боевой готовности. Когда ночью я поверял части, то нашел, что все люди поголовно не спали. Все ждали, сжимая винтовки в руках, выступления чехословаков. Настроение было самое бодрое, приподнятое и даже радостное.
«Эх, хорошо бы, если бы чехи выступили. Надо им помять бока. Довольно поизмывались они над Россией!» – так говорили наши офицеры, солдаты и казаки.
Чехи пробовали своими дозорами пробраться в Петровский Завод. Но, отогнанные нашими заставами, оставили эту затею.
На следующий день начали нам подавать поезда для отправки в Читу. Довольные, как дети, садились господа офицеры и стрелки в теплушки, лошадей грузили в открытые платформы-углярки; на весь корпус дали всего-навсего один вагон III класса. Но и за то мы говорили: спасибо от души. Ведь впервые за полтора месяца после Красноярска русские войска получили возможность воспользоваться своей собственной, русской железной дорогой.
Чехи пробовали и на этот раз протестовать, симулировали даже угрозу, но атаман Семенов с помощью дружественных японцев быстро привел этих шакалов Сибири в спокойное состояние, пригрозив, что если со стороны чехословаков последует хоть одно враждебное действие, то ни один из эшелонов не пройдет в полосу отчуждения. Чехи притихли. А наши войска двинулись дальше на восток по железной дороге. Не хватило составов только для конницы: 1-я кавалерийская дивизия и казаки пошли походом долиною реки Хилок. Насколько был тяжел этот бесснежный путь, можно судить по цифрам – только за пять дней их марша от Петровского Завода до Читы погибло около 30 процентов лошадей.
Железная дорога охранялась японцами. Но даже несмотря на это, было несколько попыток устроить крушение. В одном месте подорвали путь, портили стрелки, устроили взрыв небольшого моста как раз в момент прохода броневика «Забайкалец», который двигался непосредственно перед поездом моего штаба. Японские саперы быстро исправляли все повреждения; все их части представляли собой отличные организмы, не развращенные революцией, не испорченные демократизацией – так непохожие на остальных представителей наших бывших союзников. Дисциплиной они были проникнуты до того, что не было случая неотдания чести не только своим офицерам, но и нашим. Бросалась в глаза какая-то даже подчеркнутая ласковость к русским со стороны этих маленьких желтых людей. Они старались угодить каждому, от генерала до солдата, до каждого самого мелкого железнодорожного служащего. Особенно были велики их заботы о последних – им японцы даже доставляли продовольствие. Нередко можно было видеть одинокого японца, простого солдата, который, попадая среди русских, принимался участливо разговаривать на плохом, ломаном русском языке и сейчас же вытаскивал папиросы, какие-нибудь лакомства, чтобы угостить белых хозяев-собеседников.
Пока мы шли, а затем и ехали до Читы, до новой столицы, приходилось слышать самые лучшие отзывы о новом главнокомандующем, атамане Семенове; среди части населения Забайкалья, даже у эсеров Верхнеудинска, самой ходячей фразой было: «Семенов-то сам хорош, – семеновщина невыносима». Это повторялось почти всеми и на все лады. Когда старались выяснить причины восстаний «семейных», этих крепких патриархальных староверов, обычно объяснения были те же: «Они воюют не против Семенова, а против семеновщины». Это был какой-то лозунг дня, подобный тем, которые с несчастного 1917 года туманили русские головы и бурлили массы. Нелепые ложные лозунги, заключавшие в себе полную бессмысленность. Так и здесь – атамана Семенова хвалили за его простоту, доступность, за силу духа, за искренность стремлений, твердость в борьбе, за чисто национальный русский курс, за его приемы и старание сделать все возможно лучше для широких масс народа, за справедливость, – и в то же время кляли семеновщину, то есть то самое, что только что нахваливали под другим названием.
В Читу наши части прибыли в конце февраля. Город, игравший все время Гражданской войны исключительное значение, бывший как бы второй столицей полусамостоятельного княжества, а теперь оставшийся единственным центром всего, что сохранилось от колоссальной русской национальной постройки на востоке. Все остальное было залито ядовитыми, смертельными волнами социалистической, интернациональной нечисти: или в виде кровавого жестокого большевизма, или, как переходная к нему ступень, безвольной, слюнявой эсеровщиной.
Чита производила впечатление полного порядка и большой энергичной работы. Внешнее впечатление было, что эта работа имеет все шансы на успех, что на этот раз, наученные горьким опытом больших разочарований и катастрофических неудач, русские люди нашли силы и умение пойти настоящим путем к победе за национальную самостоятельность, к возрождению жизни своей великой страны.
Человек, который стоял во главе и направлял работу и борьбу, был генерал-лейтенант, атаман Григорий Михайлович Семенов. Мне пришлось видеть его впервые теперь. Высокого роста, с большой головой, широкими, могучими плечами, одетый в русскую поддевку, с погонами, со знаком на них монгольской «суувастики», – форма монгольско-бурятской дивизии, – атаман имел вид богатыря-самородка. Высокий гладкий лоб, из-под которого смотрят спокойные серые глаза, смотрят прямо, открыто и несколько испытующе, выражая большое внимание, постоянную и законченную свою мысль, храня в глубине волю, которой не сломать самым тяжелым испытаниям и неудачам. Размеренный, спокойный голос. Изредка освещается лицо улыбкой доброй, естественной и искренней. И во всей фигуре, и в лице, и в словах, речах и мыслях, во всей жизни и поступках – спокойствие, его главная черта. Редкая способность – оставаться самим собою при самых трудных обстоятельствах, при затруднениях и неожиданностях, которыми так богата стала русская жизнь за последние три года. После первой встречи у всех устанавливались с ним сразу ровные и доверчивые отношения, несмотря на то что более года – при работе на больших расстояниях – все время шли усилия со многих сторон, чтобы настроить всех против атамана Семенова. При дальнейшем знакомстве усилилось и подкрепилось первое впечатление, что это был человек с недюжинным, все охватывающим умом, с крепкой, совершенно не надломленной волей и с чисто эпическим спокойствием, которым было пропитано все его существо.
