Философия
Размер шрифта: 13
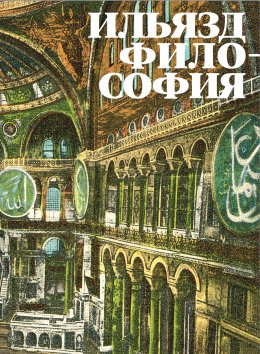
© И.М. Зданевич, наследники, 2023
© Книгоиздательство «Гилея», составление, подготовка текстов, комментарии и примечания, 2023
* * *
Продолжить чтение
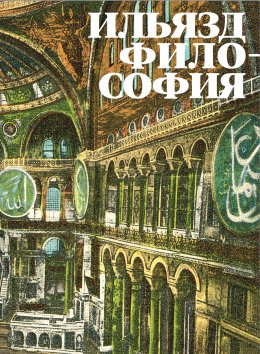
© И.М. Зданевич, наследники, 2023
© Книгоиздательство «Гилея», составление, подготовка текстов, комментарии и примечания, 2023