Океан славы и бесславия. Загадочное убийство XVI века и эпоха Великих географических открытий
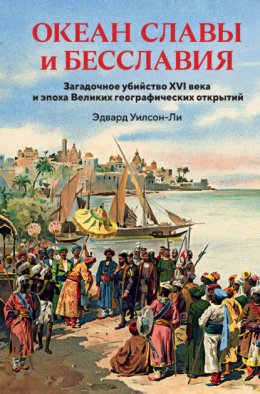
Edward Wilson-Lee
HISTORY OF WATER
Being an Account of a Murder, an Epic and Two Visions of Global History
В оформлении обложки использована картина Альфреду Роке Гамейру «Прибытие Васко да Гамы в Каликут в 1498 году» (дата создания около 1900 года).
© Edward Wilson-Lee, 2023
© Поникаров Е.В., перевод на русский язык, 2024
© Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2024
КоЛибри®
Португальский гуманист XVI века Дамиан де Гойш – один из блестящих представителей эпохи европейского Ренессанса, современник мореплавателя Васко да Гамы, национального поэта Португалии Луиша де Камоэнса, астронома Николая Коперника, живописцев Иеронима Босха и Альбрехта Дюрера, который нарисовал его прижизненный портрет, единомышленник и друг философа Эразма Роттердамского и реформатора церкви Мартина Лютера.
На долю Дамиана де Гойша, главного королевского архивариуса и летописца при дворе Мануэла I и Жуана III, выпали не только счастливо сложившиеся для него жизненные обстоятельства – учеба в лучших университетах того времени, годы успешной службы на ниве дипломатии и коммерции в разных странах Европы, но и само время, ставшее катализатором развития его таланта. Это была эпоха Великих географических открытий, становления основ научного знания, реформирования религии, расцвета театра, прозы и поэзии, время, которое де Гойш как его хроникер и летописец скрупулезно фиксировал и бережно сохранял для будущих поколений. Может быть, за это свое трепетное отношение к просвещению и науке он в конце жизни и поплатился, будучи осужденным и сосланным в монастырь по предательскому доносу всемогущей тогда инквизиции.
Расследование загадочной гибели Дамиана де Гойша легло в основу этого увлекательного исторического детектива, основанного на реальных событиях и документах.
Ринат Валиулин, журналист, переводчик
«Шекспир в Суахилиленде» (Shakespeare in Swahililand)
«Каталог книг, переживших кораблекрушение» (The Catalogue of Shipwrecked Books)
Предисловие к русскому изданию
Книга Эдварда Уилсона-Ли с первых страниц поражает невероятно щедрой россыпью исторических имен, со многими из которых ты отрывочно знаком еще с детства, но никогда не предполагал и не надеялся, что эти выдающиеся личности могут так легко и непринужденно, через запятую перечисляться в едином книжном пространстве. Поначалу не очень верится, что возможно быть современником первооткрывателя морского пути в Индию Васко да Гамы, капитана флотилии потрепанных ветрами каравелл, бросивших якорь в далеком 1500 году у берегов Бразилии, Педру Алвареша Кабрала; непросто принять и то, что главный герой повествования запросто общался с Эразмом Роттердамским, Мартином Лютером, Альбрехтом Дюрером, что он скупал на первые же освободившиеся деньги картины Иеронима Босха, сохранял в главном королевском архиве страны в Лиссабоне рукописи основателя португальского национального театра, драматурга и поэта Жила Висенте и был автором хроники славных деяний португальских королей.
Будучи уже в подростковом возрасте пажом монарха Мануэла I и став доверенным лицом и близким другом его наследника Жуана III, Дамиан де Гойш был их летописцем. Впоследствии его назначили на должность главы королевского архива Торре-ду-Томбу, аналога лондонского Тауэра – хранилища исторических документов британской короны. Величественному зданию лиссабонского архива, в котором долгие годы трудился де Гойш, не суждено было дожить до наших дней: как и бо́льшая часть португальской столицы, он был разрушен землетрясением 1755 года, и теперь на его месте возвышается модернистская постройка, где содержится значительная часть уцелевших документов той и последующих исторических эпох. Архивариус не только по должности, но и по призванию, де Гойш сохранял для потомков все то редкое и важное, на что падал его взгляд, – от бесценных манускриптов предков и современников до рунических надписей. Дамиан тщательно изучал личную переписку Луиша де Камоэнса, благодаря чему великий поэт в книге Уилсона-Ли предстает перед нами не привычным по героизированным описаниям «монументальным человечищем», а часто существом ранимым и беззащитным перед жестокими поворотами судьбы и осаждавшими его кредиторами; мы наблюдаем за ним в дерзких и бесшабашных уличных драках, отстаивающим честь дамы сердца, видим за написанием его бессмертного литературного опуса – поэмы «Лузиады» – в долговой тюрьме индийской провинции Гоа, становимся свидетелями его душевных драм и банальных любовных неудач.
Судьба самого Дамиана де Гойша органично вплетена в выпавшие на его долю жизненные обстоятельства. Будучи, несомненно, одним из самых просвещенных и образованных людей своей эпохи, он по праву общался с равными ему по глубине знания и мысли современниками. Дамиан был непримиримым противником инквизиции, религиозных догм и обскурантизма, преследования еретиков, евреев и новообращенных.
Несмотря на высоких покровителей, инквизиторы не простили ему вольнодумства и уничижительных высказываний в адрес церкви. На суде он защищал себя сам, пригласив в свое оправдание свидетелей. Текст написанной и произнесенной им речи хранится во все том же государственном архиве. Инквизиция обвинила Дамиана де Гойша в приверженности идеям лютеранства; он был лишен имущества и свои последние годы провел среди монахов-доминиканцев монастыря в городе Баталья, в центральной части Португалии. Незадолго до смерти, когда ему было уже за семьдесят, по слабости здоровья де Гойш был освобожден и вскоре после этого умер в родном городе Аленкер, где был похоронен в местной церкви. Прислуга нашла его обгоревшее тело около камина с зажатой в руке не тронутой пламенем рукописью. Кто-то из современников выдающегося португальского гуманиста объяснил эту загадочную смерть все-таки настигшим его карающим огнем инквизиции.
Ринат Валиулин,журналист, переводчик
Замечание о цитатах и португальском произношении
Следуя современной практике, я использую в тексте курсив для обозначения прямых цитат, источник которых можно найти в примечаниях.
Тильда (ã, õ и так далее), встречающаяся во многих португальских словах, отражает «н»: ранее эта буква писалась, теперь же «н» не произносится. В результате получается, словно кто-то начал произносить «н», но потом передумал: например, имя Damião (эквивалентно Damian) рифмуется с meaw[2].
Карта основных мест, где побывал Дамиан де Гойш
Карта, показывающая маршрут первого плавания Васко да Гамы в Индию, а также места, связанные с Луишем де Камоэнсом
И обратился я, и видел под солнцем, что не проворным достается успешный бег, не храбрым – победа, не мудрым – хлеб, и не у разумных – богатство, и не искусным – благорасположение, но время и случай для всех их.
ЕККЛЕСИАСТ, 9:11
И когда корабль отходит от причала
И вдруг отделяется, так что раскрывается пространство
Между кораблем и причалом,
Ко мне возвращаются недавние тревоги
Неким туманом грусти,
Сверкающим солнечными каплями на порослях моих тревог,
Первым окном, в котором пробивается рассвет,
И обволакивает, как воспоминания другого человека,
Которые таинственным образом были моими.
АЛВАРО ДЕ КАМПУШ[3]. Морская ода[4]
Некоторые также утверждают, что душа разлита во всем; быть может, исходя из этого, и Фалес думал, что все полно богов.
АРИСТОТЕЛЬ. О душе[5]
Все человечество – создание одного автора, оно есть единый том, и со смертью каждого из нас не вырывают из книги соответствующую главу, но переводят ее на другой язык, и перевод тот лучше оригинала; так каждой главе суждено быть переведенной в свой черед; у Бога в услужении множество переводчиков: одни части переведены Старостью, другие – Болезнью, иные – Войной, а иные – Правосудием, – но на каждом переводе лежит рука Господа; и она сплетает вместе разрозненные листы для той библиотеки, где каждая книга раскрыта навстречу другой.
ДЖОН ДОНН. Обращения к Господу в час нужды и бедствий[6]
I
Смерть в архиве
В последние дни января 1574 года Дамиан де Гойш начал медленно превращаться в бумагу. Этот конец, возможно, не является особым сюрпризом для человека, который всю жизнь провел среди документов: он был гуарда-мором – главным хранителем португальского королевского архива. Один из служащих приходской церкви в деревне Аленкер, находящейся в полудне пути от Лиссабона, зафиксировал расщепленным гусиным пером на волокнистой бумаге, что Дамиан де Гойш умер тридцатого числа января месяца 1574 года и был похоронен в часовне этой церкви. Далее служащий добавил, что похороны состоялись в тот же день, месяц и год, что указано выше, – и это подчеркивает необычайно быстрое погребение. Нам повезло, что нашелся документ с точным указанием сроков смерти, поскольку надгробие, которое Дамиан заказал для своей могилы, содержит ошибку: на нем высечена дата на десять с лишним лет раньше[7]. Многие безуспешно искали тело, погребенное в указанный на камне день, в то время как от Дамиана де Гойша осталась лишь бумага: помимо записи в церковном реестре, информация содержалась в письме, которое оказалось в Северной Европе вместе с сообщением о его смерти, разошедшемся по Европе в бесчисленных подписанных копиях; эти документы обнаружились в смятом виде в тетради, найденной в лиссабонском архиве около 200 лет спустя. Они могут объяснить сдержанное беспокойство церковного служащего, поскольку некоторые из них заставляют предположить, что архивариус короля стал жертвой весьма необычного убийства.
Свидетельства о смерти Дамиана не соответствуют друг другу. Согласно одному из сообщений, в последний вечер своей жизни он остановился на постоялом дворе, отправил слуг спать, а сам остался у очага, спасаясь от зимней стужи, и читал какой-то документ. Затем ночью случилось что-то непонятное. В сообщении говорится, что на следующее утро его тело нашли обгоревшим, хотя посреди описания этой мрачной сцены указывается, что Дамиан по-прежнему сжимал в руках часть того самого листа бумаги, который читал накануне вечером – остаток же документа поглотило пламя. В центре сцены находится тело, удерживающее напряжение вокруг новизной превращения в неодушевленный объект; однако внимание наблюдателя привлекло именно любопытное выживание бумаги, менее хрупкой (как кажется), нежели жизнь Дамиана. В сообщении нет уверенности в том, что именно произошло, когда тени, словно мотыльки, плясали в ночном пространстве под ритм языков пламени, в котором шипели и трескались дрова. Предполагается, что причиной стало то, что он заснул или лишился чувств в результате какого-то инцидента. Несколько позже возникла другая версия, где тоже упоминается смерть вследствие ожогов лица, груди, головы и рук и отмечается характерное совпадение его кончины с днем аутодафе в Лиссабоне – костров, на которых сжигали еретиков[8].
Третье сообщение вообще не говорит об огне и фактически предполагает, что смерть Дамиана произошла дома. Этот источник менее осторожен в объяснении событий. Хотя он допускает возможность того, что архивариус мог умереть от апоплексии (современный термин для удара или другой внезапной смерти), в нем высказывается предположение, что он мог быть убит вороватыми слугами; при этом используется латинское слово suffocatus, которое может означать как удушение, так и утопление.
Ключи к тому, что случилось в ту январскую ночь, разбросаны по архивам в Лиссабоне, Антверпене, Риме, Венеции и Гоа – частички человека, жизнь которого была связана с документами. Архив, которым заведовал сам Дамиан, находился в башне лиссабонского замка святого Георгия, расположенного на вершине холма. Это место принадлежало римлянам, затем арабам, а потом стало оплотом португальской короны, хотя впоследствии двор покинул его, поскольку королевская семья предпочла более современный дворец на берегу реки. Дамиан жил совсем недалеко от Торре-ду-Томбу (Башни архива) – в апартаментах, выходивших на церковь Каза-ду-Эшпириту-Санту (церковь Святого Духа), куда жители замка ходили на службы. Здания, в котором он жил, уже не существует, поскольку, как и бо́льшая часть Лиссабона, оно стало жертвой мощного землетрясения, разрушившего город в 1755 году, и последовавших за ним пожаров и приливных волн. Но башня сохранилась; сейчас она пустует, хотя некогда была хранилищем памяти Португалии, темным помещением, где содержались все секреты королевства[9]. Людям, незнакомым с архивом, он мог показаться всего лишь мешаниной плесневелых бумаг; но эта шкатулка с секретом, в которой каждый документ мог открыть какой-нибудь замо́к или завести в тупик, наделяла колоссальной силой тех, кто знал нужные методы. Легенды Китая и Вьетнама – культур, с которыми Европа впервые столкнулась во времена юности Дамиана, – изобилуют архивариусами, способными изменить судьбу человека, вычеркнув полстрочки в нужной книге, и Торре-ду-Томбу являлась именно тем местом, где могло происходить такое колдовство[10].
Незадолго до смерти Дамиана изгнали из архива, хотя, конечно, он вернулся в башню в виде документов о своей жизни. Некоторые из них хранят ходившие в последние годы его жизни слухи, скандальные даже для его близких знакомых. Среди них имелись обвинения, что он не раз принимал участие в святотатственных трапезах, преломлял хлеб с самыми опасными людьми в Европе, общался с ними в своей библиотеке, даже если они отсутствовали или умерли, и все это время демонстрировал благочестие в насмешку над Церковью. Другие слухи только сгущали тень вокруг его персоны. Среди них нашлась жалоба, что он облил образ Христа свиным жиром и рассолом, а, возможно, даже помочился на него, и что из его апартаментов в замке доносилась странная музыка. Кроме того, инквизиция, подстрекаемая информатором, личность которого Дамиану была неизвестна – по крайней мере, поначалу, – внимательно изучила его коллекцию произведений искусства, где имелись изображения странных и неслыханных вещей, картины, которые игнорировали различие между людьми, животными и предметами, так что было непонятно, где начинается одно и заканчивается другое[11].
Хотя смерть, приходящая к человеку, кладет конец его личному миру, лишь немногие из них охватывают бо́льшую часть земного шара – и смерть Дамиана как раз из таких. Пусть он закончил свою жизнь в архиве, но в юности он поездил по Европе, побывав во многих уголках, редко посещаемых людьми с Запада, – и во время этих путешествий проявил невероятную способность оказываться в центре противоречий той эпохи. Точно так же и уход в архив не отрезал его от мира, поскольку башня, где Дамиан служил гуарда-мором, или главным хранителем, уже давно перестала быть каким-то местным явлением. Некоторые ценные документы были старше самой страны и свидетельствовали о ее основании в 1139 году; а после того как в 1415 году португальцы перенесли войну против своих бывших арабских владык через Гибралтарский пролив, в архив пошли документы из Магриба. С этого момента и по мере того как португальские корабли продвигались вдоль побережья Западной Африки и далее в Индийский океан, архив Торре-ду-Томбу становился все более глобальным хранилищем информации. Когда Дамиан начал здесь работать, донесения прибывали отовсюду ежедневно – от иезуитских миссий в Японии до торговых факторий в Terra da Santa Cruz, Земле Святого Креста (в просторечии называемой Бразилией за ее основной продукт – дерево пау-бразил, из которого получали красный краситель)[12]. Между этими точками португальцы отметились в Южной Азии и на берегах Африки – в Макао, Сиаме, Малакке, Бенгалии, на Коромандельском берегу, в Гуджарате, Персии, Ормузе, Эфиопии, на Суахильском побережье, на Isla San Lourenço (остров Сан-Лоренсу – современный Мадагаскар), на мысе Доброй Надежды, в Мозамбике, Бенине и Магрибе, а также на островах Зеленого Мыса, Мадейре, Канарских и Азорских островах.
Португалия не только положила начало сообщению европейцев с большинством из этих мест, но и оставалась на протяжении большей части XVI века основным каналом связи между Европой и этим миром. Это означало, что архив Торре-ду-Томбу не только служил бумажной памятью Португалии о происхождении страны, но и являлся информационным центром, где Европа могла узнать о мире за пределами своих границ, – всеобъемлющим документом, как выразился один из современников. Эти знания можно было передавать и хранить только в письменном виде, учитывая соответствующие расстояния, а также масштабы и разнообразие информации. Это был архив в самом полном смысле слова, если вспомнить двойственную природу этого слова – и место хранения, и инструмент власти[13], – но он также балансировал на грани анархии, не в силах поддерживать порядок в мире, который разрастался вокруг него. Способность Европы вообразить Землю, которая превосходила по размерам и разнообразию все, что она знала до недавнего времени, в значительной степени зависела от того, что отправлялось в башню, хранилось в ней и выходило из нее. Возможно, впервые в истории перекладывание бумаг определяло форму мира[14].
Хотя та эпоха оказалась свидетелем многих чудесных встреч, в некотором смысле странно, что даже спустя пять столетий после того как началось серьезное сообщение между Европой и остальным миром, культуры Африки, Азии и Нового Света все еще остаются в значительной степени незнакомыми для большинства европейцев. Это открытие торговых каналов также принесло поток информации о богах, героях, жизни и мыслях людей в других странах, и на краткий миг могло показаться, что весь мир сольется воедино. Мы знаем, что этого не произошло: викторианские школьники не изучали китайский и арабский языки, истории о Раме и Сите не звучали из уст мюнхенских сорванцов, а мадридские политики не подражали королевам Мадагаскара. Мы живем в центре глобального рынка, но наши культуры по-прежнему поразительно ограничены и боятся внешнего мира. Нас этот факт не удивляет, хотя, возможно, должен удивлять. Какая странная магия может так долго удерживать людей от знакомства друг с другом? История XVI века – это история момента, когда все могло пойти иначе, когда мы могли бы обрести глобальность, но не обрели, и перед нами встает загадка, почему так произошло. На последующих страницах противоборствующие импульсы любопытства и недоверия проявятся в жизни и пересекавшихся путях нескольких личностей, которые наблюдали, как рвется только что связанный мир[15].
Чтобы рассказать эти истории, нужно погрузиться в сам архив, понять его странные пути и необычные методы. Дальнейшая история португальских архивов усугубляет трудности ориентирования в их фондах: они страдали от землетрясений, пожаров и наводнений, вскоре после смерти Дамиана испанцы разграбили их ради собственного архива в Симанкасе, часть оставшихся в Лиссабоне документов позже перевозили, чтобы спасти их от наступающих наполеоновских армий, а некоторые отправили в Бразилию во время бегства португальской королевской семьи в начале XIX века. Какова же надежда пролить свет на вопросы, связанные со смертью старика, произошедшей около четырех веков назад, – какими бы интригующими они ни казались? Возможные мотивы слуг для его убийства; может ли человек заснуть в огне, не разбудив спящих в доме; обгорел он или был задушен (или и то и другое сразу); как огонь мог обжечь человека, но не уничтожить бумагу в его руках; значение одного обугленного документа среди целого мира бумаг. Надежд обнаружить подобные вещи так же мало, как и найти одно событие во всеобъемлющем документе – и все же именно для этого и предназначен архив[16].
Все надежды получить ответ на эти вопросы кроются в шкатулке с секретом, которую представляет собой архив. Однако у этой головоломки не одно решение; наоборот, она предлагает множество вариантов развития событий и ведет в разные помещения в зависимости от сделанного выбора. Если помещения архива можно использовать как крепость, то их можно использовать и как тайник. Хотя эти учреждения изначально создавались для защиты инструментов власти и сокрытия тайных действий государства, их можно перепрофилировать для других целей – коллекции для любопытных и беспокойных, ковчежец для голосов обвиняемых или шкафчик для мест преступлений, тщательно хранимых на протяжении веков. Понимание мира, в котором Дамиан умер в ту январскую ночь, требует открытия утраченной истории, в тени которой мы все еще живем и к которой причастно огромное количество людей.
II
Ни рыба ни мясо
Первые месяцы 1554 года Дамиан де Гойш в отчаянии сидел среди кип бумаг. Мало того, что ему – как гуарда-мору королевского архива Португалии – предстояло получать, сортировать и хранить огромное количество разнообразнейших документов, так еще традиция возложила на него неблагодарную и бесконечную задачу по превращению этого водоворота бумаг в официальную летопись королевства. Подробные исследования Дамиана показали, сколько архивариусов потерпели поражение в этом деле. Все начиналось достаточно хорошо: один выдающийся предшественник написал истории каждого правления, начиная с короля Афонсу I Великого, провозгласившего независимость страны в 1139 году, и заканчивая захватом в 1415 году Сеуты, первой заморской территории Португалии. Но после этого на задачу создания хроники легло не снятое с тех пор проклятие. Несколько попыток продолжить летопись не сумели связать воедино огромное количество фактов, и в итоге получились лишь рассказы об отдельных событиях; но даже эти немногочисленные фрагменты кто-то увез в Италию и не вернул обратно. Потуги восстановить утраченные тома оказались бесплодными. Еще бо́льшим проклятием для предшественников Дамиана стала задача рассказать о конце XV века, который многие считают золотым веком Португалии: ее корабли постепенно продвигались вдоль побережья Западной Африки и открыли пути в Индию и Бразилию, активно используемые впоследствии. Эта работа забрала жизнь одного гуарда-мора, который передал и должность, и свою незаконченную летопись сыну, который тоже умер, оставив труд незавершенным. Следующий человек, которому поручили работать над хроникой, просто отказался от такой чести, и когда Дамиан получил фрагментарные черновики, он нашел их в таком беспорядке, что решил: проще начать все сначала, чем упорядочивать сумбур, доставшийся ему в наследство. Он с некоторым огорчением отметил, что один из его предшественников получил в качестве взятки роскошные кольца – требовалось хорошо отозваться об определенных государственных деятелях; кольца давно исчезли, но Дамиану все равно пришлось писать. Разочаровавшись всем этим, он решил начать с чего-то другого, более посильного, с того, что (по его словам) мог бы уложить в часы между исполнением своих официальных обязанностей – с описания Лиссабона, раскинувшегося под крепостными стенами Торре-ду-Томбу[17].
Дамиановский план «Описания города Лиссабона» был прост: начав от места впадения реки Тежу[18] в океан под Синтрой, он предполагал описать северный берег: двинуться мимо островной крепости Торре-де-Белен, приблизиться к городским стенам, потом следовать вдоль них на протяжении 7000 шагов, придерживаясь выступающих костяшек пяти лиссабонских холмов, а затем снова выйти к реке на восточной стороне города. Здесь он должен был войти через самые восточные из 17 ворот города, обращенных в сторону суши, и описать наиболее примечательные из более чем 22 тысяч зданий Лиссабона. Однако хронист нарушил этот разумный план почти в самом начале, когда в устье реки отвлекся на пространное повествование о морских пещерах и населяющих их морских жителях. В качестве свидетельства очевидца он записал рассказ местного рыбака, который повстречал одного из этих морских людей во время рыбалки у мыса Промонториу Барбару к югу от устья реки; Дамиан отметил, что и по сей день этот человек с удовольствием рассказывает историю всем желающим ее послушать. Однажды, когда рыбак забрасывал свою удочку у обители Санта-Мария, из волн на камни вдруг вынырнул морской житель – тритон. Его борода и волосы струились и переплетались, грудь была странно смята, однако лицо выглядело пропорциональным, и во всем остальном он походил на человека. По словам рыбака, они некоторое время сидели на солнце, настороженно разглядывая друг друга, затем морской житель чего-то испугался и с весьма человеческим воплем нырнул обратно в соленые волны.
Дамиан также узнал еще одну историю, на этот раз о голом мальчике: рыбак увидел, как тот поедает сырую рыбу, которую сохраняли свежей в каменном бассейне. Когда мальчика заметили, он со смехом взлетел и тоже исчез под водой. Дамиан отмечает, что подобных морских жителей встречали еще при римском императоре Тиберии: из этого отдаленного форпоста империи в Рим приходили сообщения о тритоне или подводном жителе, которого видели дующим в свою раковину в пещере, куда воды то втягивались, то с грохотом вырывались наружу. Дамиан, подобно сороке, падкой на диковинки, был очарован огромным и удивительным царством, которое может скрываться под зеркальной гладью воды. В недрах архива хронист даже нашел договор трехвековой давности, который давал королям Португалии право облагать налогом любого, кто поймает кого-нибудь из этих морских жителей[19].
Удовлетворив свое любопытство в этом вопросе, Дамиан, наконец, двинулся к городу, добрался до стен у Старого дворца в Сантуш-у-Велью и начал подниматься к парящей на возвышенности столице.
Карта Лиссабона, составленная Брауном и Хогенбергом, возможно, на основе описания Дамиана; впервые опубликована в Civitates Orbis Terrarum, том V (1598)
Пытаясь дать своим читателям общее представление о местности, Дамиан сообщил, что с противоположного берега Тежу Лиссабон похож на плавательный пузырь рыбы: низ этого овала – длинная плавная линия вдоль берега реки, а холмы его волнистого верха венчают большие здания – Сан-Роке, Санта-Ана, замок Святого Георгия, в котором писал Дамиан, и Носса-Сеньора-да-Граса. Когда облака с океана беспрепятственно плыли вверх по Тежу, дождь серыми цепями обрушивался с неба на эти холмы, и когда вода стекала по склонам, улицы превращались в каналы, что заставило одного голландского гостя того времени особо отметить, как трудно ходить по скользким булыжникам во время лиссабонских ливней[20].
Очертив контур столицы, Дамиан начал заполнять его, предоставив почетное место двум крупным богоугодным заведениям города – церкви Милосердия и больнице Тодуз-уш-Сантуш (больнице Всех Святых), которые ежегодно тратили на бедных 24 000 дукадо[21], предоставляли ночлег больным и нуждающимся и даже давали им с собой немного денег, когда они достаточно окрепли и могли уйти. Наряду с этим он описал общественное зернохранилище, созданное милостивой короной, чтобы город никогда не голодал, и многочисленные общественные фонтаны, из которых жители Лиссабона набирали родниковую воду. Здесь Дамиан отвлекся и отметил вкусовые качества разных фонтанов: хотя вода в них поступала слегка теплой и мутной, вскоре она превращалась в прозрачный и освежающий напиток. Фонтаны продолжали называть арабским словом шафариж (чафариз), и каждый из них имел свое название: шафариж короля, шафариж для лошадей и так далее. Вода сбегала по склонам холмов вниз, к пульсирующему сердцу Лиссабона: набережным вдоль реки, огромным открытым пространствам, где мог собираться весь мир; их обрамляли символы внезапного могущества Португалии: королевский дворец Пасу-да-Рибейра (Речной дворец) с его новой башней, с которой короли могли наблюдать за флотилиями, прибывающими со всего мира, оружейная палата и большие здания таможни, предназначенные для товаров из Северной Африки, Западной Африки и с Востока – Дом Сеуты, Дом Мины[22] и Дом Индии.
Лиссабон всегда извлекал выгоду из своего положения на полпути между разными странами. Отнять город у мусульман в 1147 году удалось только потому, что флот крестоносцев, направлявшийся из Северной Европы в Святую землю, остановился в устье реки Тежу для пополнения запасов: Лиссабон регулярно становился промежуточным пунктом на пути паломников в Иерусалим. (Большей частью наших знаний об осаде мы обязаны английскому клирику по имени Осберн[23], труд которого был похищен из аббатства во время Реформации и попал в библиотеку одного из колледжей Кембриджа.) В классических источниках даже высказывались предположения, что само название города – Olisipo на латыни – является искажением слова Ulysses (латинизированной формы имени греческого царя Одиссея), и поселение получило свое название, поскольку этот сладкоречивый путешественник основал город во время своего долгого возвращения из Трои (к подобным гипотезам Дамиан был романтически неравнодушен). Лиссабон и широкое устье реки Тежу всегда являлись идеальной срединной точкой, где могли сливаться север и юг, удобным местом для встречи кораблей, передвигающихся между обширными рынками Северной Европы, где порты Антверпена и Амстердама обслуживали Англию и Германию, и обширными рынками Средиземноморья, где товары из Александрии и Стамбула шли через Венецию и Геную. Этот поток проходил через лиссабонскую Новую таможню (Alfandega Nova), после чего товары выплескивались на площадь, где смешивались с местными. Дамиан перечислил торговцев, которые ежедневно наводняли площадь: кондитеры, продавцы фруктов, мясники, пекари, конфетчики и ткачи. Но главными среди них были рыботорговцы, размах деятельности которых был настолько велик, что им приходилось арендовать корзины, чтобы продавать на огромные суммы в 2000 дукадо в год[24].
Однако в XV веке процветающая торговля с другими европейскими портами отошла на второй план, поскольку португальские корабли стали возвращаться с товарами из Африки, а затем из Персии, Индии и других стран. Именно для этого появились Дома Сеуты, Мины и Индии, и тот факт, что они примыкали к королевскому Речному дворцу, знаменовал собой событие исключительной важности. В то время как большинство других европейских монархий упорно придерживались королевских и дворянских традиций, когда статус зависел от наличия земли и людей, которые ее обрабатывали, португальская корона рано проявила интерес к возможностям торговли, финансируя исследовательские путешествия и сохраняя за собой королевскую монополию на самые важные товары. Даже величайшего из них – того самого короля Мануэла, хронику правления которого должен был писать Дамиан, – высокомерные правители севера осмеивали как короля-торговца, но подобный позор, вероятно, смягчался колоссальными прибылями от этого занятия. В ответ на эти насмешки Дамиан даже составил подробную опись всего, что проходило через гавань Лиссабона. Начав с Западной Африки, товары из которой поступали в Дом Мины, он перечислил золото, хлопок и черное дерево, бычьи и козьи шкуры, рис и «райские зерна», или малагету – красный перец, который был менее популярен у европейцев, нежели черный, поскольку плохо переносил кулинарную обработку[25]. Из Бразилии везли лучший сахар, а также пау-бразил – дерево, давшее название стране. Из Индии и Китая поступали шелк, имбирь, мускатный орех и цветы того же растения, камфора, корица, тамаринд, ревень и «миробалан» (чернослив). Дома в городе отделывали сарматским деревом с Черного моря, а жемчуг и кора гваякового дерева доставлялись из Америки через Севилью. Сейчас эти продукты растительного и животного происхождения, развивавшиеся на далеких почвах, прежде чем их собрали, обработали и подготовили для транспортировки, нам во многих случаях незнакомы, но им предстояло сыграть странную и важную роль в жизни Дамиана[26].
Не все товары прибывали в Лиссабон в виде сырья, которое требовалось обработать в соответствии с европейскими вкусами. В список Дамиана вошли также плащи и головные уборы из птичьих перьев, изготовленные жителями Бразилии и Канарских островов, ткани из пальмового волокна, из которых в Западной Африке создали поразительную одежду, золотые и серебряные сосуды, сделанные в Индии и Китае, а также китайский фарфор, который, по мнению хрониста, изготавливали из толченых морских ракушек и выдерживали под землей в течение 80–100 лет. Неудивительно, что эти диковинные изделия из странной жизни, пришедшие из давних времен, могли продаваться по 50, 60 и даже 100 дукадо за штуку, хотя существовали и более дешевые разновидности, которые делали фарфор предметом повседневного обихода в богатых семьях. Позже Дамиан с удивлением вспоминал о тканях из коры, доставленных из королевства Конго вскоре после его появления при дворе: если не подойти вплотную, их трудно было отличить от шелка. Став пажом короля, Дамиан получал самые необычные вещи, привозившиеся со всего мира, например, огромный фетровый тюрбан, присланный шахом Исмаилом из Персии. Пожалуй, самыми большими сокровищами были изделия из слоновой кости, прибывшие из Бенина и Сьерра-Леоне – сосуды и скульптуры, выполненные с таким мастерством, что Дамиан особо остановился на них в своих описях. Эти шедевры западноафриканского искусства, несколько десятков из которых до сих пор разбросаны по музеям всего мира, с почти невыносимым красноречием свидетельствуют о первых встречах с европейцами. На боковых поверхностях этих солонок и олифантов (охотничьих рогов, сделанных из слоновьих бивней) изображены лица португальцев, какими их увидели художники Бенина: глаза навыкате, бороды лопатой, клювообразные носы; люди срослись со своими ржущими лошадьми, словно какие-то гибридные звери. Их тела скрыты под кольчугами, парчовой тканью, круглыми воротниками, шлемами и бусами – странные животные, собравшие на себе материальный мир[27].
На лиссабонские пирсы прибывали и живые существа. Дамиан скрупулезно указывает, что наряду с пряностями и обработанными материалами на кораблях имелись также попугаи, макаки и восточные кошки. Во времена его юности в городе также проживали пять или шесть слонов и носорог. Впоследствии он весьма подробно остановился на этих животных в своих хрониках, посвятив несколько тысяч слов – шесть страниц в две колонки – уму слонов. Самое длинное описание относится к событию, произошедшему в 1515 году, когда на площади у дворца, напротив Дома Мины и Дома Индии, построили специальное сооружение для проверки тезиса, восходящего к классической античности, а именно: носорог и слон являются заклятыми врагами. Их свели на арене, и носорог, натянув цепь, двинулся вперед, чтобы понюхать слона; дыхание из его ноздрей поднимало пыль и сено. Слон стоял отвернувшись, но при приближении носорога обернулся к противнику; раздавшийся трубный сигнал тревоги из хобота зрители восприняли как знак, что он собирается напасть. Но когда носорог приблизился к брюху врага, слон в смятении бросился прочь, согнул часто посаженные прутья металлических ворот и помчался по набережной в сторону домов на реке, сбросив со спины погонщика-махаута – оглушенного, но счастливого, что его при побеге не растоптали. Оттуда зверь направился по Каминью-дуз-Эстауш, устраивая такой же хаос, как батальон при отступлении. Слон возвращался домой, в свой загон возле Старого дворца Эстауш, и, казалось, знал дорогу[28].
Гравюра «Носорог» Альбрехта Дюрера, посмертный портрет носорога, которого Дамиан видел в Лиссабоне в 1515 году*
В подробном рассказе Дамиана о том дне примечательно стремление вникнуть в смысл звуков и действий слона: он представлял мотивы зверя так, как представлял бы мотивы человека – гордая непокорность воина, стремление к дому в момент ужаса.[29] При ведении хроники славы португальской короны архивариусу предстояло столкнуться со многими еще более странными персонажами, и при описании он часто прибегал к тому же характерному приему, рефлекторному желанию расширить границы личности. Однако этот импульс был противоположен другому мощному движению того времени – стремлению ограничить число тех, кто заслуживает гуманного отношения от существ собственной природы. Необычная способность Дамиана представлять себе морских жителей и слонов как людей, понимаемых в тех же терминах, в каких он понимал себя, усугубляет тот факт, что он ограничился всего несколькими словами в отношении яркого аспекта этого процесса – рабства. Один иностранный гость заметил, что на улицах португальских городов было так много чернокожих, что они напоминали шахматные доски, и черных фигур было столько же, сколько и белых; и, хотя среди них имелись свободные люди, большинство составляли рабы. В реестрах Дамиана записано, что каждый год из Нигерии прибывало 10–12 тысяч невольников, а ведь были еще рабы из Мавритании, Индии и Бразилии. Хронист отмечает, что за них давали 10, 20, 40 и 50 золотых дукадо за штуку, но эмоций здесь у него не больше, чем тогда, когда он пишет о китайском фарфоре, который продавался по тем же ценам. В самом деле, нет практически никакого различия между этим товаром и другим видом «черного золота», на котором строилось процветание Португалии, – перцем, торговля которым принадлежала королю. Две тысячи тонн перца в год приносили свыше миллиона дукадо; 12 тысяч невольников давали чуть меньше половины этой суммы. Один очевидец отмечал, что если среди рабов есть женщина, которая приехала из-за границы беременной, то этот ребенок теперь принадлежит хозяину, который купил ее, а не отцу, и что мужчин заставляли бегать по пристани, чтобы продемонстрировать свою выносливость, однако Дамиан об этом умалчивает. Его сдержанность тем более поразительна, что он, как свидетельствует его жизнь, был одним из немногих, кто видел в раздвигании горизонтов Европы чудесное расширение смысла гуманизма – точка зрения, которая опасно противопоставляла его тем, кто усматривал угрозу в каждом различии. Хотя нет никаких свидетельств того, что у Дамиана имелись собственные рабы, он, как и большинство людей его эпохи, жил в трагическом лабиринте, где даже тонкое нравственное чутье сочеталось со слепотой к бесчеловечности рядом[30].
Среди множества ужасов рабства, возможно, не последнюю роль играло молчание, на которое были обречены эти люди. Подавляющее большинство из них появлялось в стране, не зная португальского языка, не говоря уже о грамотности, и, естественно, система рабства старалась как можно меньше изменить это положение, отчасти поддерживая убеждение, что рабы не способны к обучению. Хотя голландский гуманист Николас Клейнарт (в латинизированной форме Кленардус), приехавший в Португалию в 1530-х годах для распространения методов гуманистического образования, обучил латыни двух приобретенных «эфиопских» рабов, он сделал это исключительно для того, чтобы продемонстрировать свое чудесное мастерство преподавания – обучив тех, кого считали необучаемыми. Однако рабами были далеко не все приехавшие из-за пределов христианской Европы. Среди самых ранних воспоминаний Дамиана, разбросанных среди его текстов, мы находим записи не только о людях, которых он встречал в своих зарубежных путешествиях, но и о гостях со всего мира, с которыми он сталкивался в самом Лиссабоне: брахманы, армяне, китайский переводчик, марокканцы, торговец из Ормуза, которого называли Коджебеки (Ходжа-бек), тоскующий по дому наследник конголезского престола, эфиопский священник. Всего через несколько лет после того как Дамиан появился при королевском дворе в качестве пажа, он присутствовал на церемонии, когда возле слоновника один торговец деревом пау-бразил представил королю трех человек, пересекших Атлантический океан на вернувшихся домой португальских кораблях. Внешний облик этих людей из племени тупинамба[31] визуализировал вещи их мира: они носили такие же одежды из перьев, что продавались в Доме Индии, а их губы, носы и уши были увешаны драгоценностями и подвесками из кости и смолы, напоминавшей янтарь, – подобные величественные регалии можно увидеть на картине того времени «Поклонение волхвов» работы Гран Вашку[32]: волхв Балтазар, изображенный как тупинамба, представляет собой первый европейский портрет южноамериканца. Каждый из тех, кого видел Дамиан, имел лук из того же дерева пау-бразил и стрелы из тростника, снабженные перьями и наконечником из рыбьей кости; этим оружием они владели мастерски, однако новый миф, появившийся у народов тупинамба и гуарани, утверждал, что оно появилось в результате рокового выбора: из всего предложенного богами оружия индейцы из-за легкости предпочли деревянное, а не железное, отдав в руки европейцев причину своих страданий. Король обратился к ним через переводчиков и попросил продемонстрировать свое мастерство; они прицелились в плывущие по реке куски пробки размером не больше ладони и с видимой легкостью по очереди поразили свои цели, ни разу не промахнувшись. Сами европейцы, похоже, впечатлили индейцев меньше: тупинамба пытались понять, почему одни мужчины (или «половинки», как они их называли) нищенствуют, в то время как другие «половинки» богаты, и почему взрослые мужчины опускаются до служения детям монарха. Почти через год после встречи с тупинамба Дамиан в том же самом месте стал свидетелем приема посла из Эфиопии по имени Матфей, который прибыл с письмами на арабском и персидском языках и святой реликвией в золотой шкатулке. Эти письма, как и многие другие, им подобные, естественно, оказались в Торре-ду-Томбу, наполняя королевский архив потусторонними голосами, молча поджидавшими подходящего слушателя[33].
Однако не только заморские гости впервые попадали в письменные документы. Распространение гуманизма увеличило число тех, кто умел читать и писать, и отделило эти навыки от религиозного призвания, предоставив грамотным людям возможность прокладывать свой путь в мире. Это не для всех стало однозначным благом, поскольку растущая социальная значимость грамотности не всегда быстро трансформировалась в достаточно квалифицированную работу для таких образованных людей. Среди огромного разнообразия занятий, которые Дамиан упомянул в своем описании Лиссабона, самой интригующей, пожалуй, является работа людей, сидевших за столами в центре площади Пелоуринью-Велью (Площадь Старого позорного столба). При всей странности расположения конторы на улице эти люди ничем внешне не отличаются от нотариусов или клерков – просто у них нет официальной должности. Они зарабатывают на хлеб тем, что выслушивают своих клиентов и составляют документы для тех, кто не может сделать это сам; обширный список Дамиана включает деловую переписку, любовные письма, молитвы, хвалебные и порицательные речи, выступления на похоронах, прошения, ходатайства, стихи, праздные размышления и всевозможные вещи, какие только можно записать, причем каждому тексту писец придавал свой собственный стиль. Сообщения, которые создавали эти люди как для других, так и для себя, представляли, по сути, вселенную, параллельную миру официальных документов и указов – архив общественной жизни, который показывал Лиссабон гораздо более хаотичным и грязным, нежели стремились фиксировать хронисты, подобные Дамиану[34].
Одни из самых подробных и распущенных рассказов о лиссабонском полусвете вышли из-под пера молодого человека, который до недавнего времени содержался в печально известной тюрьме Тронку, весьма мрачном месте города; тюрьма находилась рядом с больницей Тодуз-уш-Сантуш на площади Росиу, однако в своем парадном портрете португальской столицы Дамиан не упомянул о ней. Автор этих писем был высокообразованным, глубоко циничным, одноглазым человеком, который в будущем станет национальным поэтом Португалии.
III
Дом дыма
В своей эпической поэме о морском путешествии Васко да Гамы в Индию – «Лузиады», или «Песнь португальцев» (которые ведут свое происхождение от мифической фигуры Луза[35]) – Луиш Важ де Камоэнс писал о заключении как человек, хорошо с ним знакомый:
- И мысль его тревожная блуждала,
- Как солнца луч, что зеркалом игривым
- Бездумно отражается, бывало,
- И по стене блуждает шаловливо.
- А та рука, что вдаль его послала,
- Шутя, все ищет солнца переливы,
- И луч дрожит, и мечется, и бьется,
- Пока рука-шалунья не уймется[36].
Камоэнс неоднократно побывал в застенках, поэтому нельзя с уверенностью утверждать, что при написании этих строк он думал о своем пребывании в лиссабонской тюрьме Тронку. Но они, несомненно, отражают многое из его опыта пребывания в заключении в течение нескольких месяцев в 1552 и 1553 годах: вид из окон тюрьмы Тронку, расположенной во впадине между двумя лиссабонскими холмами, где на склонах уступами располагались дома, по которым метались его мысли; беспокойная, нервная неуверенность его нынешнего положения[37].
Камоэнса задержали за уличную драку, произошедшую 16 июня 1552 года в праздник Тела и Крови Христовых; он оказался одним из трех человек, обвиненных в том, что они избили на улице некоего придворного по имени Боржеш. Ткнули ли в тот раз пальцем в нужного человека или нет, но подобное поведение было Камоэнсу свойственно: всего восемь ночей спустя появился второй ордер на его арест за участие в другом нападении – на этот раз 18 человек избили еще одного состоятельного дворянина. Камоэнс написал своему другу предупреждение, что его имя находится в верхней части списка разыскиваемых, хотя главным виновником в этом деле являлся неустановленный «философ» по имени Жуан де Мело. В этом письме Камоэнс не признается, что как-то замешан в деле, но и не отрицает этого, и в любом случае ситуация, похоже, не слишком его беспокоит. В целом письмо создает впечатление о закоренелом нарушителе закона – если задерживали обычных подозреваемых, то, вероятно, потому, что они были подозрительны более обычного[38].
Это письмо, а также письмо, отправленное несколькими месяцами ранее тому же анонимному другу, – путеводитель по изнанке Лиссабона, по городу, который занимал то же пространство, что и торговая столица Дамиана, но оставлял совсем другое впечатление. Это был город праздных молодых бездельников, разодетых по последней моде и ищущих любви или неприятностей, легкой добычи для сводниц, дурачивших их, обещая со дня на день встречу с женщиной, на которую те положили глаз: еще чуть-чуть времени, еще немножко неизбежных расходов – такая игра не обходится дешево! Подобных людей можно было заметить издалека: ладони на рукояти клинка, шляпы надвинуты, чтобы скрыть глаза, короткие накидки, длинные ноги, в их походке чувствуется некоторое самодовольство, а в манере держаться – некоторая подозрительность. На ножнах у подобных людей имелось немножко поблескивавшего золота, а в рукаве пряталась какая-нибудь любовная книга Боскана[39], демонстрирующая глубины их грозного молчания. В неменьшей степени в этой игре – по крайней мере, в понимании Камоэнса – участвовали и женщины. У мастериц этого ремесла всегда имелся отсутствующий муж – возможно, уехавший на острова Зеленого Мыса или где-нибудь умерший – и, боже мой, как они благочестивы, всегда ходят на исповедь к доминиканцам или иезуитам, великолепные, как Елена Троянская, облаченные в траур и перебирающие свои чётки. При этом они не забывают покачивать при ходьбе бедрами, и он знает, что под этими унылыми одеяниями они носят самые соблазнительные наряды, какие только можно купить. Этих женщин, говорит Камоэнс, можно завоевать не изысканными словами или манерами, а исключительно золотыми крузадо, и путь к ним лежит не через какую-нибудь сводницу, а через тех самых монахов и священников, которые помогают им молиться о том, чтобы муж не объявился в ближайшее время. Исповедальня, сообщает Камоэнс, дает им много свободного времени для решения самых разных дел[40].
Такие циники, как Камоэнс и его корреспондент, не жаловали подобные дурацкие игры: они предпочитали в открытую разбираться с продажной стороной любви. Основная идея писем поэта – сообщить другу последние новости о лиссабонских проститутках, которых, как он уверен, тому не хватает во время изгнания в провинцию. Кто-то скажет, пишет он, что, поскольку этим женщинам достаточно заплатить и можно действовать, никаких недоразумений быть не может. Но только не Камоэнс: он считает, что во многих отношениях они настолько же плохи – вся эта невинность распахнутых глаз и молочная кожа, такая же гладкая, как у русалок, потому что они никогда не выходят на улицу. Но, парень, остерегайся змеи в этой траве. Некоторые утверждают, что они обманывают своих сутенеров так же, как и клиентов, хотя Камоэнс считает, что у самих сутенеров дела идут отлично.
Мир, который Камоэнс рисует в этих письмах, дик и безжалостен, порой невыносимо. Он шутит со своим корреспондентом о городских убийцах, которым – как он загадочно пишет – в какой-то казне платят мармеладными пастилками и кувшинами холодной воды; видимо, это воровской жаргон, смысл которого со временем утерян. Камоэнс также сообщает, что проститутка, которой благоволил его друг, некая Мария Калдейра, была убита мужем, а вскоре за ней последовала ее компаньонка Беатрис да Мота. Другая проститутка, по имени Антония Браш, поспорила с какими-то испанцами, которые затащили ее на свой корабль, стоявший в гавани, и избили. Ее предполагаемый защитник и сутенер ничего не предпринял; это, по крайней мере, означало, что она могла выгнать его взашей. Такие жалкие женщины притягивали к себе всю жестокость мира, но при этом (по его словам) были самыми лучшими певицами и танцовщицами, каких только мог предложить город, настолько искусными и безупречными, что королевский двор не мог продемонстрировать ничего лучшего, праматерями певцов фаду[41] эпохи звукозаписи, чьи голоса лежат в мучительном пространстве между завыванием и мелодией. При всей своей бессердечности, ощущаемой в письме, молодой Камоэнс (ему сейчас нет и тридцати), возможно, был не так черств, как кажется из его слов: в конце второго письма он сообщает, что за несколько дней до отправки в тюрьму он помешался на той самой Антонии Браш, на которую напали испанцы. Похоже, что она играла с юношей, заключив с ним пари и предложив себя в качестве приза, если он выиграет. Можно предположить, что это был старый трюк, применявшийся для влюбленных юнцов, у которых не было денег сейчас, но могли появиться позже. Он проиграл пари, заявил, что она его обманула, а теперь мучительно переживал это и придумывал, как бы поскорее сделать ее своей.
Несомненно, подобные женщины всегда сталкивались с серьезным насилием, но то лето, похоже, оказалось хуже других, и группа женщин объединилась, чтобы организовать дом, где они могли бы жить и работать в безопасности. По словам Камоэнса, это была настоящая современная Вавилонская башня, стонущая под тяжестью множества языков – в любой час здесь можно было встретить мусульман, евреев, людей из Кастилии или Леона, монахов, священников, женатых и холостяков, молодых и старых. Тот самый Жуан де Мело, который возглавлял нападение в ночь святого Иоанна, дал ей другое название – «Клетка для битья»; эту шутку трудно понять и, вероятно, лучше не пытаться, хотя, похоже, она как-то связана с тем, что здесь было три женщины, которые любили причинять боль (включая Антонию Браш), и одна, готовая ее принимать. Любопытно, что это святилище жриц любви Камоэнс называет пагодой, храмом, превосходящим самые смелые мечты эпикурейцев, используя малайское слово, которое служило португальцам общим термином для культовых сооружений в Индии и по всему Востоку. На тот момент Камоэнс еще не видел таких пагод своими глазами, но ждать оставалось недолго[42].
Нет ничего удивительного в том, что среди посетителей Вавилонской башни Камоэнс упоминает мавров и евреев. Хотя все они теперь являлись христианами по имени, среди них имелось еще много людей, отцы и матери которых родились в еврейских и мусульманских семьях; многие подозревали их в том, что новой религии они привержены лишь на словах. Весь район между местом, где работал в замке Дамиан, и местом, где сидел в тюрьме Камоэнс, занимала Моурария – квартал, который достался мусульманам после завоевания города в 1147 году и с тех пор в основном принадлежал им, хотя в нем жили и христиане, в том числе родители Камоэнса. Жизнь этих новообращенных была небезопасной, и в последние десятилетия произошли некоторые изменения в некогда довольно терпимом отношении к ним. Поначалу португальский король открыл двери для всех евреев, изгнанных из Испании после падения последнего исламского королевства Гранада в 1492 году. Однако вскоре Португалия уступила давлению Испании: католические монархи Фердинанд и Изабелла были помешаны на идее апокалиптической чистки полуострова, которая, по их мнению, должна была привести к созданию всеобщей христианской империи под испанским главенством. Евреям предложили два варианта – уйти как народ без крова и пастыря (как выразился Дамиан) или остаться и обратиться в христианство, в то время как мусульман предполагалось изгонять в массовом порядке. Некоторые представители португальского двора выступали против – пусть даже исключительно из опасений, что евреи передадут врагам-мусульманам свои знания об оружии и взрывчатых веществах (не говоря уже о деньгах, которые, как считалось, они скопили), и мусульманские королевства в ответ начнут так же обращаться с христианами, живущими в Египте, Сирии и других местах. Те евреи, которые решили (или были вынуждены) обратиться в христианство и остаться, были беззащитны перед Cristãos Velhos («старыми христианами») и при любых неприятностях легко превращались в козлов отпущения. Многих детей разлучили с их эмигрировавшими семьями, а впоследствии их стали называть прозвищем, напоминающим об унылых побережьях, где они смотрели вслед уплывающим родителям: os d’area, «песчаные», «с песка»[43].
Но это не значит, что подобные новые христиане жили обособленно (об этом говорит их появление в Вавилонской башне), и даже отличить их было непросто. Личность упоминаемого Камоэнсом буяна и острослова Жуана де Мело так и не установлена однозначно (это довольно распространенное имя), но одним из любопытных кандидатов является человек, живший в те годы в том же квартале Моурария, что и Камоэнс. При рождении в Генуе он получил имя Жуан (или, скорее, Джованни), но в возрасте четырех лет попал в плен к туркам и оказался в Стамбуле, где ему сделали обрезание и дали новое имя Мастафар. Он вырос, будучи рабом капитана, прозванного Синан-еврей[44], который отвез его в Мекку и далее в Джидду, откуда он поплыл в Каликут, где в течение года служил местному правителю (заморину), после чего отправился в Чалиям, принадлежавший христианам. Там он объявил себя христианином, был заново крещен, получив то же имя, что и раньше, а командир близлежащего форта Каннанор (некто Руй де Мело) стал его крестным отцом и дал ему свою фамилию. После этого Мастафар, или Жуан отплыл в Кочин (Кочи)[45], затем в Гоа и болтался по индийским портам, пока в конце концов не оказался на борту корабля, отправлявшегося в Португалию. Мы знаем обо всем этом, потому что в какой-то момент в Индии его снова потянуло к исламу, и через несколько лет после описанных в письме Камоэнса событий, когда он и еще несколько человек неудачно попытались посреди ночи бежать в Северную Африку и переметнуться к маврам, им заинтересовалась инквизиция. Инквизиторы оставили подробный отчет об этом человеке, которого они называли генуэзцем по происхождению, но турком по национальности. Похоже, что он сошелся в Моурарии с другими крещеными мусульманами, и один из них взялся показать остальным какие-то фрагменты из Корана и занялся обратным обращением. К сожалению, никто из них особо не понимал, в чем заключаются практики ислама – разве что эти люди дистанцировались от города, который и так держал их на расстоянии вытянутой руки. На своих собраниях они совершали причудливый гибридный ритуал: каждый по очереди получал от вожака кусок хлеба, а после произносил бисмиллю[46], давая понять, что этот обряд – не христианская месса, а предназначен для другого бога. Возможно, компаньоном Камоэнса был не этот «человек мира» (неясно, зачем Камоэнсу называть этого Жуана де Мело «философом» при таких его религиозных представлениях), но суть в том, что мир низов был столь же глобальным и разнообразным, как и рыночные товары в лиссабонском порту[47].
Какой бы разношерстной и толерантной ни была компания в Вавилонской башне, значительная часть португальской культуры по-прежнему ориентировалась на ненависть к мусульманам. Те самые бездельники, которые затевали драки на улицах Лиссабона, по традиции отправлялись сражаться с мусульманами на севере Африки, как это сделал сам Камоэнс, когда ему было немного за двадцать. Сеута стала местом для сосредоточения войск при мусульманском вторжении в Иберию в 711 году, а через несколько веков – первым плацдармом португальцев по другую сторону Гибралтарского пролива. Во времена службы Камоэнса гарнизон Сеуты считался последней линией обороны при возможном новом нападении мусульман, хотя к тому моменту португальцы контролировали также значительные участки побережья в Западном Магрибе. После полутора веков португальского присутствия жизнь в Магрибе превратилась в рутинные атаки и контратаки в стычках с местными владетелями, дававшие возможность проявить себя тем, кто не обладал состоянием. Однако вскоре Камоэнс осознал, что вблизи гораздо сложнее разглядеть в этом процессе битву сил света и тьмы, требуемую для подобного героизма. На деле вооруженные экспедиции португальцев часто оказывались простыми набегами за скотом – даже если солдаты при этом иногда погибали, нанося вред своим врагам, подобно градинам, которые тают после того, как уничтожат урожай. Усилия португальцев теперь направлялись не столько на защиту родины от угрожающего вторжения, сколько на обеспечение безопасности морских портов на Атлантике, служивших перевалочными пунктами для торговли с Западной Африкой. В начале века у них еще имелся явный враг – Ваттасиды из Феса, однако позже эта династия сама столкнулась с неприятием у мусульман – отчасти потому, что ее правители считались космополитами и деградантами: это олицетворял султан Мухаммед аль-Буртукали (то есть Португалец), который провел семь лет в заложниках в Португалии и владел языком. Их соперников Саадитов, возглавлявших группу кланов из горных и пустынных районов Южного Марокко, вдохновляли суфийские мистики и марабуты (святые), которые осуждали отсутствие чистоты веры на севере, чрезмерную зависимость от того, что, на их взгляд, не допускали основы ислама – роскошные молитвенные коврики и чётки, а также религиозную жизнь, характеризующуюся дикими периодами самоотречения и экстатических излишеств. Они считали, что из-за подобных нововведений Ваттасиды не годятся для противостояния португальским захватчикам – позже мы увидим, что некоторые европейцы того времени ровно так же полагали, что мировой рынок предметов роскоши подрывает способность христианских государств сопротивляться натиску ислама. Таким образом, португальцы столкнулись в Марокко как минимум с двумя разными мусульманскими врагами; вдобавок бо́льшую часть земель, на которые они претендовали за пределами портовых городов, фактически контролировали так называемые Mouros de Paz, «мирные мавры», которые признавали португальский суверенитет, но в повседневной жизни оставались в основном сами себе хозяевами[48].
От пребывания Камоэнса в Сеуте, да и от всей его жизни до ареста и заключения в тюрьму в 1552 году, остались лишь расплывчатые и неопределенные следы – письмо, написанное, как считается, в то время, стихи, которые в завуалированной форме могут относиться к событиям его юности, но затуманены позднейшим мифотворчеством. Неизвестно даже точно, где он родился – возможно, в Лиссабоне или его окрестностях, – хотя, похоже, часть молодости он провел в университетском городе Коимбра. В тот период город переживал бурное время. До недавнего времени он был центром связей Португалии с европейской интеллектуальной жизнью, теперь же против него работало рвение иезуитов: португальское отделение общества основал в начале 1540-х годов один из первых сподвижников Игнатия Лойолы Симан Родригеш. Иностранных профессоров, приехавших со всей Европы, бросили в тюрьму, заподозрив их космополитическое и упадническое учение в распространении ереси. Этот процесс достиг своего апогея летом 1545 года, когда Симан Родригеш спровоцировал иезуитских послушников на неистовства: они носились ночью по городским улицам, звоня в колокола и крича в темноте об аде, который ожидает тех, кто совершает смертный грех. Послушники намеренно одевались в лохмотья и терпели унижения от сотоварищей, что служило доказательством их дистанцирования от этого падшего и развращенного мира. Один из них даже принес на лекцию в университет человеческий череп, несмотря на отвращение, которое тот вызывал, и оставил его на столе на целых два часа – как напоминание о неизбежной смерти[49].
Эти нездоровые выходки иезуитов, все чаще отправлявших талантливых новобранцев в чужие страны для распространения веры, не привлекли Камоэнса. Вместо этого он пошел по тому же пути, что и многие молодые люди, которые боролись за попадание в элиту, используя скудные возможности и ресурсы, имевшиеся под рукой. Высказывалось даже предположение (хотя и без особых доказательств), что он мог некоторое время работать под началом Дамиана в Торре-ду-Томбу: это хотя бы объяснило пересечения его текстов с трудами Дамиана. Мы знаем только, что Камоэнс попал в орбиту нескольких знатных семейств, которым посвятил множество строк. Взаимоотношения между ними остаются неясными, отчасти потому, что в моде того времени были придворные стихи, выглядевшие мучительными стенаниями отвергнутого любовника – даже если на самом деле поэт хотел продемонстрировать свое красноречие в надежде получить работу или, по крайней мере, средства, которые помогут ему какое-то время продержаться. Не добившись здесь успеха, Камоэнс сменил перо на меч и отправился служить в Северную Африку, но и это не принесло ему удачи. По сути, пребывание в Сеуте только ухудшило ситуацию, сделав ее безнадежной: правый глаз, отсутствующий на всех сохранившихся изображениях, вероятно, был потерян именно там, хотя и при неясных обстоятельствах.
