Поменяй воду цветам
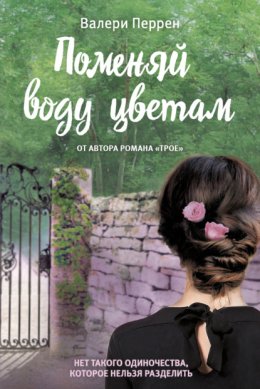
Valérie Perrin
Changer l'eau des fleurs
© Editions Albin Michel – Paris 2018
© Клокова К., перевод на русский язык, 2020
© Издание на русском языке, оформление. Издательство «Эксмо», 2020
Моим родителям, Франсине и Ивану Перрен, Патрисии Лопез «Паките» и Софи Долл
1
Минус один человек – и мир обезлюдел.
Мои соседи ничего не боятся. Забот у них нет, они не влюбляются, не грызут ногти, не верят в случай, не дают обещаний, не шумят, не страхуются, не плачут, не ищут ключи, очки, пульт от телевизора, детей и счастье.
Они не читают, не платят налоги, не соблюдают режим, не имеют предпочтений, не меняют мнение, не застилают постель, не курят, не составляют списков, не отмеряют семь раз, прежде чем отрезать. У них не бывает заместителей.
Они не подхалимы и не честолюбцы. Они не злопамятны, не мелочны, не благородны, не ревнивы, не выглядят неопрятно. Они чисты, возвышенны, забавны, упорны, ворчливы, лицемерны, добры, жестоки, слабы, злы, лживы, вороваты, азартны, храбры. Некоторые из них – дармоеды, другие – развратники, третьи – оптимисты.
Все они – мертвецы.
Чем один отличается от другого? Качеством гроба – из дуба, сосны или красного дерева, – в котором покоятся.
2
Что мне делать теперь, когда я не слышу твоих шагов и не знаю, чья жизнь утекает – твоя или моя.
Меня зовут Виолетта Туссен. Я была дежурной по железнодорожному переезду, а теперь работаю смотрительницей кладбища. Здесь я и живу.
Я пробую жизнь на вкус, пью ее мелкими глоточками, как жасминовый чай с медом. Вечером, когда ворота моего кладбища заперты, а ключ повешен на ручку двери в ванную, наступает райское блаженство.
Нет, не такое, как у моих соседей.
Я говорю о рае для живых – стаканчике портвейна 1983 года. Каждый год, 1 сентября, Жозе-Луиш Фернандез дарит мне бутылку, и я открываю это вместилище солнца, бабьего лета, счастья ровно в семь вечера, в дождь, снег или ветер.
Два наперстка рубиновой влаги. Кровь виноградников Порто. Я закрываю глаза. И наслаждаюсь. Один глоток – и вечер наполняется радостью. Всего два наперстка, потому что я люблю легкое опьянение, но не алкоголь.
Жозе-Луиш Фернандез весь год, раз в неделю, приносит цветы на могилу супруги, Марии Пинто (1956–2007). В июле он уезжает в отпуск, доверив священнодействовать мне. Бутылка портвейна – знак его благодарности.
Мое настоящее – подарок небес. Так я говорю себе каждое утро, открыв глаза.
Я была очень несчастна, почти уничтожена. Опустошена. Как мои соседи, за которыми я приглядываю, – и даже хуже. Сам-то организм функционировал, но на «холостом ходу». Куда-то подевался весь объем души, а ведь она, как говорят, весит ровно двадцать один грамм – у толстых и тощих, высоких и низких, молодых и старых.
Хотите знать, что меня спасло? Все очень просто. В отличие от многих, я никогда не упивалась своими бедами и решила положить им конец.
Началась моя жизнь очень плохо. Я родилась от неизвестных родителей, в Арденнах, на севере департамента, в местечке на границе с Бельгией. Тамошний климат называется «умеренно континентальный» – сильные осадки осенью и частые заморозки зимой. Я всегда представляла себе, что именно об этих местах написана «Равнинная страна» Жака Бреля, «где небо близко так, что вот подать рукой, и серый небосвод сливается с рекой».
В день своего рождения я не закричала. И меня отложили в сторону, как посылку весом 2,670 кг, без штемпеля и фамилии адресата. Наверное, решили сначала заполнить бумаги, чтобы объявить меня безвременно ушедшей.
Мертворожденной. Ребенок без искры жизни и фамилии.
Акушерка торопилась домой и, недолго думая, назвала меня Виолеттой. Полагаю, вся я, с головы до маленьких пяточек, была именно такого цвета.
Потом кожа порозовела, пришлось заполнять свидетельство о рождении, но женщина и не подумала «переназвать» младенца.
Меня положили на батарею, и я согрелась. Мать не хотела ребенка, и я ужасно мерзла у нее в утробе. Жар, исходящий от чугунной гармошки, вернул меня к жизни, поэтому я так люблю лето и не упускаю случая подставить лицо первым солнечным лучам, совсем как подсолнух.
В девичестве я была однофамилицей Шарля Трене[1], фамилию наверняка придумала та же акушерка. Видимо, была поклонницей певца. Потом я его тоже полюбила и долго считала кем-то вроде дальнего родственника, этаким «американским дядюшкой». Если напеваешь себе под нос мелодии любимого исполнителя, чувствуешь родство душ.
Фамилию Туссен[2] я взяла, выйдя замуж за Филиппа Туссена. Нужно было сразу насторожиться. Некоторые мужчины, которых зовут Прентан[3], бьют жен. У многих мерзавцев красивые имена.
Я не тосковала по матери. Разве что во время болезни, если случался сильный жар. Я быстро росла. Тянулась вверх, словно Провидение наградило меня гордой спиной, чтобы компенсировать отсутствие родителей. Я прямая, как струнка. Не гнусь, не склоняюсь, не прогибаюсь. Даже в дни печали. Меня часто спрашивают: «Вы, случайно, не занимались классическим балетом?» – «Нет… – отвечаю я, – осанка – от повседневных забот, они заменили мне станок».
3
Пусть заберут меня или моих родных, я не боюсь, ведь однажды все кладбища превратятся в сады.
В 1997 году наш железнодорожный переезд автоматизировали, и мы с мужем лишились работы. О нас написали газеты, назвали «побочными жертвами прогресса, последними служащими железной дороги, которые вручную поднимали и опускали шлагбаум». К статье прилагалось фото. Филипп Туссен обнял меня за талию и принял красивую позу. Я улыбаюсь, но до чего же у меня грустные глаза на этом снимке!
В день выхода статьи Филипп Туссен вернулся из почившего в бозе Государственного бюро по трудоустройству в полном смятении: он только что понял, что ему придется работать. Филипп привык, что за него все делаю я. Он был уникальным лентяем и, конечно же, достался мне, кому же еще!
Желая приободрить любимого, я протянула ему листок бумаги: «Смотритель кладбища, профессия будущего». Он посмотрел на меня, как на буйнопомешанную. В 1997-м он смотрел так на меня каждый день. Разве разлюбивший мужчина смотрит так на женщину, которую когда-то любил?
Я объяснила, что случайно увидела это объявление, что мэрия Брансьон-ан-Шалона ищет супружескую пару для работы на кладбище и что мертвые живут по расписанию и шуметь будут уж точно меньше поездов. Что я поговорила с мэром и он готов немедленно нанять нас.
Муж не поверил, сказал, что таких случайностей не бывает и он скорее сдохнет, чем согласится на ремесло падальщиков. А потом включил приставку, чтобы сыграть в SuperMario64[4], поставив перед собой сверхзадачу собрать все 120 силовых звезд. Я же хотела схватить за хвост одну-единственную – правильную. Об этом и думала, глядя, как мчится Марио, чтобы спасти принцессу Персик, похищенную Великим Королем Демонов.
Я не сдалась. Сказала, что на кладбище у каждого из нас будет зарплата – и намного выше, чем на переезде, вдобавок у нас будет симпатичное служебное жилье, а налоги платить не придется. Мы наконец-то покинем дом, в котором прожили столько лет, хибарку, где зимой крыша протекала, как старая лодка, а летом было холодно, как на Северном полюсе. Я убеждала Филиппа, что нам необходимо начать все сначала, обещала повесить красивые занавески, чтобы не видеть «соседей» – кресты, вдов и все остальное. Занавески станут границей между нашей жизнью и чужой скорбью. Я могла бы сказать Туссену правду: занавески отделят мою печаль от всей остальной, накопившейся в нашем мире. Могла бы, но не стала. Понимала, что должна притворяться, иначе он не согласится переехать.
Главный довод я приберегла на самый конец – пообещала, что ему НИЧЕГО не придется делать. Ремонтом, могилами и всем обустройством занимаются три могильщика, а смотритель только открывает и закрывает ворота. Режим работы не слишком утомительный. Отпуск и уик-энды такие же длинные, как железнодорожный мост-виадук в Бельгард-сюр-Вальсерине. Я беру все на себя. Все-все.
СуперМарио остановился. Принцесса полетела кубарем.
Перед сном Филипп Туссен перечитал объявление. «Смотритель кладбища, профессия будущего».
Наш переезд располагался в Мальгранж-сюр-Нанси. В тот период моей жизни я не жила. Правильнее было бы сказать «в тот период моей смерти». Я вставала, одевалась, работала, ходила за покупками, спала. Приняв таблетку снотворного. Или две. Иногда три. И замечала, что муж смотрит на меня как на безумную.
График моей работы был чудовищно однообразным. Я опускала и поднимала шлагбаум всю неделю, по пятнадцать раз на дню. Первый поезд проходил через нас в 04.50, последний – в 23.04. Очень скоро у меня выработался автоматизм, мозг в нужный момент выдавал звоночек, и я всегда слышала его с опережением. Эту каторгу следовало делить на двоих, но Филипп только гонял на мотоцикле и заводил новых любовниц.
Пассажиры в окнах вагонов навевали мне мечты, хотя мимо следовали только местные поезда. Они шли из Нанси в Эпиналь, делая десятиминутные остановки в небольших местечках, чтобы оказать вспомоществование «аборигенам». И все-таки я завидовала мужчинам и женщинам, у которых была цель и они могли ее осуществить. Я воображала, что эти люди назначили кому-то свидание и этот кто-то ждет их. Боже, как же мне хотелось уподобиться им!
Через три недели после выхода объявления мы отправились в Бургундию. Сменили серый цвет города на зелень природы и ни с чем не сравнимый запах железной дороги.
Пятнадцатого августа 1997 года мы прибыли в Брансьон-ан-Шалон. Во Франции настала пора отпусков. Французы покидали «насиженные места», чтобы увидеть море, горы и водопады. Кладбищенские птички, вившие гнезда на деревьях, улетели. Кошки, бродившие между горшками роз, исчезли. Даже муравьям и ящерицам было слишком жарко, мрамор памятников стал обжигающе горячим. Могильщики взяли отпуск, не стало даже усопших. Я бродила по аллеям, читая фамилии людей, которых мне не суждено было узнать, но чувствовала себя прекрасно. На своем месте.
4
Бытие вечно, жизнь преходяща.
Вечная память будет ее посланием.
Я сама открываю и закрываю тяжелую решетку кладбищенских ворот, если только замочная скважина не залеплена жвачкой – подростки часто так развлекаются.
Часы работы меняются в зависимости от времени года.
1 марта – 31 октября: 08.00–19.00.
1 ноября: 07.00–20.00.
2 ноября – 28 февраля: 09.00–17.00.
29 февраля из расписания выпало.
Я взяла на себя обязанности мужа после его отъезда, а если точнее – после того, как он пропал. Имя Филиппа Туссена фигурирует в национальной картотеке жандармерии в графе «исчезновение при сомнительных обстоятельствах».
В поле моего зрения осталось много мужчин. Три могильщика: Ноно, Гастон и Элвис. Три сотрудника похоронной службы: братья Луччини – Пьер, Поль и Жак, а еще отец Седрик Дюрас. Все они заходят ко мне по несколько раз на дню, чтобы выпить стаканчик или перекусить на скорую руку. Помогают мне в саду и на огороде, если требуется перетащить мешки с компостом или починить кран. Я считаю их не коллегами – друзьями. Они могут заглянуть на кухню в мое отсутствие, выпить кофе, вымыть чашку и отправиться дальше по собственным делам.
Люди испытывают отвращение, гадливость к ремеслу могильщика, но те, кто работает на моем кладбище, – самые милые и располагающие к себе мужчины на свете.
Больше всех я доверяю Ноно. У этого прямодушного человека радость жизни бурлит в крови, все его веселит, он не знает слова «нет», правда, никогда не присутствует на похоронах ребенка. Это он оставляет другим. «Тем, кому хватает мужества» – так он говорит. Ноно напоминает мне Жоржа Брассенса. Он смеется над этим сравнением: «Ты одна это замечаешь!»
Гастон совсем другой, он – мсье Неуклюжесть и всегда выглядит пьяненьким, хотя пьет только воду. Его движения хаотичны. На похоронах Гастон неизменно стоит между Ноно и Элвисом – на случай потери равновесия. Земля вечно дрожит у него под ногами. Он опрокидывает все, что попадается под руку, роняет вещи, наступает на них, падает. Когда Гастон заходит ко мне, я всегда боюсь, что он что-нибудь разобьет и поранится. Так оно и происходит.
Элвиса все зовут Элвисом из-за Элвиса Пресли. Он не умеет ни читать, ни писать, зато знает наизусть все песни своего идола. Слова наш Элвис произносит неразборчиво, понять, поет он на английском или на французском, невозможно, но сердца вкладывает много. Love me tender, love me trou…[5]
Братья Луччини – погодки: младшему тридцать восемь, среднему тридцать девять и старшему 40 лет. Они потомственные «похоронщики» Брансьона и владельцы морга, примыкающего к их магазину. Ноно рассказал мне, что помещения разделяет тамбур. Опечаленных родственников принимает Пьер, старший брат. Поль – бальзамировщик и работает в подвале. Жак сидит за рулем катафалка, он возит покойников в последний путь. Ноно называет братьев «апостолами».
Нашего кюре зовут Седрик Дюрас. У Господа есть вкус, хоть Он и не всегда справедлив. С появлением нового кюре на многих местных дам снизошло Божественное откровение, и в воскресенье, на утренней службе, почти все места на скамьях теперь заняты.
Я не хожу в церковь – посещение храма было бы равносильно сексу с коллегой, но признаний выслушиваю больше, чем отец Седрик в исповедальне. Близкие изливают душу в моем скромном доме и на кладбищенских аллеях, иногда по два раза – приходя на могилу и уходя. Усопшие молчаливы. Таблички на памятниках, цветы, фотографии важны для членов семьи и друзей. Живым хочется постоять у могилы, рассказать мне, какой была жизнь до.
Моя работа требует сдержанности и умения общаться, не впадая в излишнюю чувствительность. Не сопереживать для меня – все равно что летать в космос, стоять у операционного стола, спускаться в жерло вулкана или разгадывать геном человека. Я никогда не плачу на людях, только до или после похорон, но не во время. Моему кладбищу триста лет. Первой на нем похоронили Диану де Виньрон (1756–1773). Она умерла родами, в возрасте семнадцати лет. Если провести подушечками пальцев по могильной плите из камня-сырца, можно «прочесть» ее имя и фамилию, как делают слепые, владеющие азбукой Брайля. Диану не эксгумировали, хотя мест на моем кладбище осталось немного. Ни один мэр из всей череды сменявших друг друга народных избранников не осмелился нарушить покой первой обитательницы кладбища, тем более что с именем Дианы связана старинная легенда. Жители Брансьона утверждают, что не раз видели ее в «одеждах из света» на аллеях и перед витринами магазинов в центре города. Я хожу на чердачные распродажи и часто нахожу гравюры XVIII века и открытки с изображением Дианы-призрака. Выглядит она на этих снимках не слишком авантажно.
О могилах вообще рассказывают много историй – живые любят досочинять жизнь ушедших.
Существует легенда Брансьона № 2. Она о Рен Дюша (1961–1982), которая покоится на участке «Кедры», аллея 15. С фотографии смотрит молодая улыбающаяся брюнетка, попавшая в аварию на выезде из города. Молодняк клянется, что ее призрак часто является проезжающим на обочине дороги, рядом с местом катастрофы.
Миф о «дамах в белом» бытует во всех уголках планеты. Призраки женщин, разбившихся на машине, посещают мир живых, их неприкаянные души летают по замкам и кладбищам.
Легенда о Рен получила материальное «подтверждение»: ее могила тронулась с места. Ноно и братья Луччини уверены: все дело в грунте, подвижки нередки, когда под склепами скапливается вода.
За двадцать лет я многое повидала на моем кладбище. Иногда по ночам тени занимаются любовью на могилах, но они не призраки.
Ничто не вечно (за исключением легенд) – даже купленные навечно места на кладбище. Можно купить место на пятнадцать, тридцать, пятьдесят лет или навечно, но с вечностью придется обращаться осторожно: если по истечении тридцати лет за могилой перестают ухаживать и она приобретает обветшалый, малоприличный вид, если в нее давно никого не подхоранивали, коммуна получает право на повторное использование. Останки первого «жильца» помещают в оссуарий, находящийся в глубине кладбища.
Я не раз была свидетельницей такой операции. Никто не возражал – мертвых уподобляли забытым и невостребованным вещам.
Со смертью всегда так: чем она «старше», тем меньше власти имеет над живыми. Время убивает жизнь и разрушает смерть.
Мы четверо – я и трое могильщиков – делаем все, чтобы на нашем кладбище не было заброшенных могил. Нам нестерпим вид таблички с муниципальным объявлением: «Эта могила подлежит ремонту. Просим срочно связаться с мэрией». А имя того, кто лежит под плитой, все еще можно разобрать на памятнике!
На кладбище полно эпитафий – люди как будто заклинают время, чтобы оно замедлило ход, позволило им уцепиться за воспоминания. Мне больше всего нравится вот эта надпись: «Смерть начинается в тот момент, когда о вас перестают мечтать». Я прочла ее на могиле молодой медсестры Мари Дешан, скончавшейся в 1917 году. Мемориальную доску установил в 1919-м какой-то солдат. Проходя мимо, я всякий раз спрашиваю себя: «Интересно, он долго о ней мечтал?»
Чаще всего в качестве «последнего прости» выбирают фразу из песни Жан-Жака Гольдмана[6]«Без тебя»: Что бы я ни делал, где бы я ни был, ты не исчезаешь, я думаю о тебе; или слова Франсиса Кабреля[7]: Между собой звезды беседуют лишь о тебе.
У меня очень красивое кладбище. Аллеи обсажены столетними липами. Большая часть могил украшена цветами.
Я продаю растения в горшках – выставляю их перед домом, чтобы люди выбирали, а когда они слегка теряют товарный вид, отношу их на «ничейные» захоронения.
А еще я посадила сосны, обожаю, как они пахнут летом.
С 1997 года деревья здорово выросли и придают моему кладбищу шик. Содержать его в порядке значит заботиться о мертвых, выказывать им уважение. Если они не имели этого при жизни, пусть хоть после смерти порадуются.
Уверена, у нас лежит много негодяев, но смерть не делает различий между добрыми и злыми. И потом, кто хоть раз в жизни не повел себя по-свински?
Филипп Туссен, в противоположность мне, сразу возненавидел кладбище, этот маленький городок, Бургундию, природу, старые камни, белых коров и местных жителей.
Я только начала разбирать коробки, когда он оседлал мотоцикл и отправился прошвырнуться. Иногда Филипп отсутствовал до утра, со временем стал исчезать на неделю-две-три. А однажды не вернулся. Жандармы не поняли, почему я так долго не заявляла об исчезновении мужа. Мне не пришло в голову объяснить, что он «испарился» много лет назад – в те времена, когда еще ужинал за моим столом. Через месяц, осознав, что Филипп точно не вернется, я почувствовала себя одинокой, как выморочная могила. Такой же серой, тусклой, расшатанной. Готовой, чтобы меня разъяли на части, а останки запихнули в оссуарий.
5
Книга жизни послана нам свыше, ее не дано закрывать и открывать самовластно.
Возжелаешь вернуться к странице любви – глядь, и оказался на странице смерти.
Я встретила Филиппа Туссена в 1985 году в Шарлевиль-Мезьере, в ночном клубе «Тибурен».
Он сидел у стойки бара. Я наливала. Соврав насчет возраста, можно получить немудрящую работу: сосед по общежитию, мой приятель, подделал бумаги, превратив меня в совершеннолетнюю.
Я всегда была человеком без возраста, мне давали и четырнадцать, и двадцать пять. Носила исключительно джинсы и футболки, короткую стрижку и колечки не только в ушах, но повсюду – даже в носу, была тоненькой и красила глаза в стиле Нины Хаген[8]. Школу я бросила, не научившись толком ни читать, ни писать. Зато умела считать. Я успела прожить множество жизней и работала лишь для того, чтобы как можно скорее уйти из общежития, найти жилье и самой за него платить.
В 1985-м ровными у меня были только зубы. В детстве я жаждала заиметь такую же ослепительную улыбку, как у моделей из глянцевых журналов. Когда сотрудницы опеки инспектировали мои приемные семьи и спрашивали, в чем я нуждаюсь, ответ был неизменным: «Хочу к стоматологу!» – как будто вся их последующая жизнь зависела от того, насколько безупречной будет моя улыбка.
Подружек у меня не было – я слишком походила на мальчика и потому в каждой новой семье привязывалась к названым сестрам, но неизменные расставания, терзавшие душу, выработали жесткую установку: никогда ни к кому не привыкай. Я считала, что бритая наголо голова защитит меня, придаст мальчишечьей дерзости и стойкости. Неудивительно, что девочки меня сторонились. Я занималась любовью, чтобы быть «как все», но ничего возвышенного в так называемой любви не находила и удовольствия не получала. Зачем я это делала? Мечтала о переменах, хотела получить новую шмотку, косячок, приглашение на вечеринку, ощутить тепло чужой ладони. И больше всего жаждала любви, «как в сказках»: «Они обвенчались и завели много, много, много…»
Итак, Филипп Туссен сидел спиной к стойке, пил виски-колу без льда и наблюдал за приятелями на танцполе. Внешне он напоминал ангела. Этакого Мишеля Берже[9] в цвете. Длинные блондинистые кудри, голубые глаза, светлая кожа, орлиный нос, алые губы, напоминающие июльскую зрелую клубничину. Он был в джинсах, белой футболке и черной кожаной куртке. Высокий, атлетически сложенный, идеальный. При первом же взгляде на Филиппа сердце ухнуло вниз, как поет мой воображаемый родственник дядюшка Шарль Трене. От меня он все получит даром – даже любимую выпивку.
Вокруг красавчика вились очаровательные блондинки. Кружили, как мухи вокруг тухлятины, но он изображал полное безразличие, зная, что ему достаточно моргнуть, и все желания будут исполнены.
Я видела только золотистые кудри, то и дело менявшие цвет – зеленый-красный-синий – под лучами софитов. Так прошел час. Иногда он наклонялся к очередной обожательнице, шептавшей ему на ухо нежные слова, и являл мне совершенный профиль.
А потом повернулся, посмотрел на меня – и больше не отводил взгляда. С этого момента я стала его любимой игрушкой.
Сначала я решила, что интересую его, потому что все время бесплатно подливаю в стакан спиртное. Я старалась, чтобы он не заметил моих обгрызенных ногтей и видел только ровные белые зубы. Красавчик выглядел как парень из хорошей семьи. Тогда все, кроме ребят из общежития, казались мне «золотой молодежью».
Вокруг незнакомца образовался затор из наивных девиц, совсем как на Дороге солнца[10], где в выходные собирается море машин, но он продолжал пялиться на меня, не скрывая вожделения. Я прислонилась к бару, решив удостовериться, что не ошибаюсь, вставила в стакан соломинку и подняла глаза. Спросила: «Хотите чего-нибудь другого?», не расслышала ответа, нагнулась и крикнула: «Ну так что?» Он шепнул мне на ухо: «Хочу тебя…»
Я убедилась, что хозяин не смотрит в нашу сторону, и плеснула себе бурбона. После первого глотка перестала краснеть, сделала второй и отлично себя почувствовала, третий окрылил меня, придал храбрости. «Когда освобожусь, можем выпить по стаканчику».
Он сверкнул белозубой улыбкой.
Филипп Туссен протянул руку, коснулся моих пальцев, и я поняла, что моя жизнь изменится. Почувствовала кожей. Филипп Туссен был старше меня на десять лет, и разница в годах придавала ему значительности. Я уподобилась бабочке, глядящей на звезду.
6
Ведь час наступает, когда все, кто в могилах, услышат голос Его и покинут могилы[11].
К моему дому можно подойти с двух сторон. Элиана затявкала и потрусила к двери, выходящей на улицу. Ее хозяйка Марианна Ферри (1953–2007) лежит на участке «Бересклеты». Элиана появилась на кладбище в день похорон и больше не уходила. Несколько первых недель я кормила ее на могиле хозяйки. Через какое-то время она стала провожать меня до дома и прижилась. Имя ей дал Ноно – Элианой звали героиню Изабель Аджани в «Убийственном лете»[12], а у этой собаки были голубые глаза, и ее хозяйка умерла в августе.
За двадцать лет на моем кладбище одновременно с хозяевами появились три пса и стали моими – в силу обстоятельств. Теперь у меня только Элиана.
Снова стучат в дверь. Сомневаюсь, стоит ли открывать – на часах семь утра. Я пью чай, мажу тосты соленым маслом и клубничным вареньем, его мне подарила Сюзанна Клерк, чей муж (1933–2007) покоится на участке «Кедры». Я слушаю музыку. В свободные от работы часы я всегда ее слушаю.
Встаю. Выключаю радио. Спрашиваю:
– Кто там?
Негромкий мужской голос отвечает:
– Извините, мадам. Я увидел свет и…
Слышу, как визитер вытирает ноги о половик.
– Мне нужно справиться о человеке, который здесь похоронен.
Я могла бы напомнить, что мы начинаем работать в восемь утра, и отослать его.
– Сейчас, подождите две минуты.
Я поднимаюсь в спальню, открываю зимний шкаф. Снимаю с вешалки халат и одеваюсь. У меня два шкафа, я называю их «зима» и «лето». К временам года это отношения не имеет – только к обстоятельствам. В зимнем висит классическая одежда темных цветов, она для чужих глаз. В летнем я держу светлые и яркие вещи, предназначенные исключительно для моих. Я ношу «лето» под «зимой» и снимаю ее, когда остаюсь одна.
Итак, я надеваю серый стеганый халат поверх розового шелкового дезабилье, спускаюсь, отпираю дверь и обнаруживаю на пороге незнакомца лет сорока. На меня сморят черные глаза.
– Здравствуйте, простите, что побеспокоил так рано.
На улице еще темно и холодно. Ночь подморозила землю. Мужчина выдыхает пар, похожий на дымок от сигареты. От посетителя пахнет табаком, корицей и ванилью.
Я лишилась дара речи. Так бывает, когда неожиданно встречаешь человека, с которым давно не виделся. Поздно он появился в моей жизни. Двадцать лет назад все могло получиться иначе. Что за странная мысль? Откуда такое удивление? Неужели дело в том, что миллион лет никто, кроме пьяных подростков, не стучал в дверь с улицы, все посетители приходят со стороны кладбища?
Я впускаю «гостя», он смущенно благодарит, за что получает чашку кофе.
В Брансьон-ан-Шалоне я знаю всех. Даже те, кто еще не хоронил у меня никого из близких, хоть раз да прошли по аллее, провожая в последний путь друга, соседа, мать коллеги.
Этого человека я вижу впервые. В его речи слышен едва уловимый средиземноморский акцент, он иначе интонирует фразу. У мужчины темные волосы, настолько темные, что едва тронувшая виски седина резко выделяется на их фоне. У него крупный нос, мясистые губы и мешки под глазами. Он немножко похож на Сержа Генсбура: не дружит с бритвой, но обаяния – море. Я замечаю красивые руки с длинными пальцами, он греет их о чашку, дует на кофе и пьет мелкими глотками.
Не знаю, зачем он явился, я впустила его в дом, потому что эта комната не совсем моя, она принадлежит всем. Можно сказать, что я превратила муниципальный зал ожидания в гостиную, совмещенную с кухней. Все случайные люди и завсегдатаи имеют право на «входной билет».
Мужчина оглядывается по сторонам. Комната в двадцать пять квадратных метров выглядит как мой зимний шкаф. Пустые стены. Нет ни цветастой скатерти, ни синего дивана, только клееная фанера и стулья. Ничего лишнего, показного. Кофеварка, белые чашки и крепкие спиртные напитки – для безнадежных случаев. Здесь я выслушиваю откровения, на меня выплескиваются слезы и гневное отчаяние, сюда доносится веселый смех могильщиков.
Моя спальня находится на втором этаже, и на этот «тайный задний двор» ходу нет никому. Спальня и ванная – две бонбоньерки в пастельных тонах. Розовый пудровый, зеленый миндальный и небесно-голубой создают весеннее настроение. С первым лучом солнца я распахиваю окна настежь, не опасаясь, что снизу кто-нибудь меня заметит.
Никто не удостоился чести взглянуть на мою спальню в ее нынешнем виде. Сразу после исчезновения Филиппа Туссена я ее перекрасила, повесила кружевной тюль и новые шторы, поставила белую мебель и широкую кровать со швейцарским матрасом, обнимающим тело спящего. Мое, и только мое тело.
Незнакомец допивает кофе и говорит:
– Я из Марселя. Бывали там?
– Я каждый год езжу в Сормиу.
– В бухточку?
– Да.
– Забавное совпадение.
– Я не верю в совпадения.
Он что-то ищет в кармане джинсов. Мои мужчины не носят джинсов. Ноно, Элвис и Гастон ходят в голубых рабочих комбинезонах, а братья Луччини и отец Седрик – в перкалевых брюках.
Незнакомец разматывает шарф, ставит на стол пустую чашку.
– Мы с вами похожи, я тоже довольно рациональный человек. И комиссар.
– Коломбо?
– Нет… – Он впервые улыбается. – Тот был инспектором.
Он собирает указательным пальцем сахарные крошки, рассыпавшиеся по столу.
– Моя мать – по непонятной причине – изъявила желание покоиться на этом кладбище.
– Она живет поблизости?
– Нет, в Марселе. Она умерла два месяца назад, успев изъявить последнюю волю.
– Сочувствую… Хотите капельку алкоголя в кофе?
– Вы всегда подпаиваете людей с раннего утра?
– Случается. Как зовут вашу мать?
– Ирен Файоль. Она завещала, чтобы ее кремировали… а урну поставили на могиле некоего Габриэля Прюдана.
– Прюдана? Габриэль Прюдан, 1931–2009. Аллея 19, участок «Кедры».
– Вы помните имена всех обитателей кладбища?
– Почти…
– И дату смерти, и место?
– Аналогично.
– Кем был этот Габриэль Прюдан?
– На могилу время от времени приходит женщина… Думаю, дочь. Он был адвокатом. На черной мраморной плите нет ни портрета, ни эпитафии. Дня похорон я не помню, но могу заглянуть в регистрационный журнал – если хотите.
– Вы все записываете?
– То, что касается похорон и эксгумаций.
– Не знал, что это входит в ваши обязанности.
– Не входит. Но жизнь стала бы очень скучной, делай мы лишь то, что положено.
– Забавно слышать такое из уст… как называется ваша должность? «Смотритель кладбища»?
– Почему? Вы считали, что я с утра до вечера лью слезы? Что я создана из рыданий и печали?
Я доливаю ему кофе, а он спрашивает, повторив вопрос дважды:
– Вы живете одна?
Я киваю.
Открываю ящики, нахожу тетрадь за 2009 год. Ищу и сразу нахожу фамилию: Прюдан, Габриэль. Начинаю читать:
18 февраля 2009-го, похороны Габриэля Прюдана, проливной дождь.
Присутствовало сто двадцать восемь человек, в том числе бывшая жена и две дочери – Марта Дюбрёй и Хлоэ Прюдан.
По желанию усопшего ни цветов, ни венков.
Семья установила табличку, на которой написано:
В знак уважения к
Габриэлю Прюдану,
храброму адвокату.
«Смелость для адвоката важнее всего, без нее остальное не имеет смысла. Талант, культура, знание законов полезны, но без смелости в решающий момент остаются только слова, пустые фразы, которые вспыхивают и умирают».
Робер Бадинтер[13].
Ни кюре, ни распятия. Кортеж пробыл на месте полчаса. Когда два служащих похоронного бюро опустили гроб в могилу, все разошлись. Дождь лил как из ведра.
Я закрываю тетрадь. Комиссар выглядит изумленным, он погружен в свои мысли, машинальным жестом приглаживает волосы.
– Не понимаю, почему моя мать хочет лежать рядом с этим человеком.
Его взгляд скользит по белым стенам, он смотрит на меня, как будто не верит своим ушам, спрашивает, кивком указав на мои записи:
– Можно я почитаю?
Вообще-то, я доверяю только родственникам, но после недолгих колебаний подталкиваю к нему тетрадь, и он начинает листать страницы, то и дело поднимая глаза, как будто у меня на лбу тоже что-то написано о событиях 2009 года. Может показаться, что тетрадь – всего лишь предлог, чтобы получше рассмотреть меня.
– Вы описываете все похороны?
– Почти все. Те, кто не сумел поприсутствовать, заходят сюда, и я рассказываю, как все прошло, опираясь на заметки… Вы уже кого-нибудь убили? Я имею в виду злоумышленника, преступника?
– Нет.
– У вас есть пистолет?
– Конечно, но я беру его только на задания. Но сегодня пистолета при мне нет.
– Вы привезли урну с прахом?
– Нет. Оставил в крематории. На время… Пока не решу, стоит ли выполнять желание матери.
– Он незнакомец для вас, не для нее.
Комиссар встает.
– Могу я увидеть могилу?
– Конечно. Возвращайтесь через полчаса. Я никогда не разгуливаю по моему кладбищу в халате.
Он улыбается – второй раз за время нашего странного свидания – и выходит за дверь. Я зажигаю свет. Рефлекторно. Я никогда не делаю этого, когда кто-то входит в комнату, только когда выходят. Свет восполняет отсутствие. Старая привычка ребенка без роду-племени.
Через тридцать минут он ждет меня в машине, припаркованной у ворот. На номерном знаке написано: Буш-дю-Рон, 13. Кажется, мой полицейский гость успел вздремнуть – на щеке отпечатался след шарфа.
Я надела темно-синее пальто на алое платье и застегнулась на все пуговицы, до самой шеи. Стала как ночь, скрывающая лето. Не хотела изумлять чужого человека.
Мы шли по аллеям, и я рассказывала: кладбище разбито на четыре крыла: «Лавры», «Бересклет», «Кедры» и «Тис», у нас два колумбария и два Сада Воспоминаний. Он спрашивает, как долго я занимаюсь «этим». Я отвечаю: «Двадцать лет». Говорю, что раньше была дежурной по переезду. Он интересуется, каково это – сменить поезда на катафалки? Не знаю, как объяснить. Слишком много всего случилось между двумя жизнями. Странные вопросы для рационального комиссара.
Мы наконец дошли до могилы Габриэля Прюдана. Комиссар вдруг побледнел, словно пытался собраться с мыслями на могиле незнакомца, который мог оказаться его отцом, дядей, братом. Мы долго молчали, не двигаясь с места, потом я не выдержала – потерла замерзшие ладони.
У меня есть правило: я никогда не составляю компанию посетителям. Отвожу их к могиле и удаляюсь, но этого человека почему-то не могу оставить одного. Через минуту, показавшуюся мне вечностью, он сообщает, что возвращается в Марсель. На вопрос: «Когда вернетесь с урной?» – ответа я не получаю.
7
Мне всегда будет недоставать человека, чья улыбка освещала мою жизнь.
Тебя.
Я пересаживала цветы на могиле Жаклин Виктор Дансуан (1928–2008) и Мориса Рене Дансуана (1911–1997). Красивый белый верещатник похож на два обломка морского утеса, помещенные в горшок. Это растение хладостойкое, как хризантемы и суккуленты. Мадам Дансуан любила белые цветы. Она каждую неделю навещала могилу мужа. Мы болтали, но общаться начали, когда Жаклин немножко отошла душой. В первые годы она чувствовала себя уничтоженной. Несчастье либо отбивает у человека желание разговаривать, либо делает его не в меру болтливым. Постепенно Жаклин снова научилась складывать слова в простые фразы, интересоваться новостями окружающих, то есть живых.
Не знаю, почему говорят «на могиле», по-моему, «у края могилы» или «напротив могилы» звучит логичнее. На могилу наступают плющ, ящерки, коты и собаки. Мадам Дансуан часто бывала на кладбище. После ее смерти дети приходят раз в год и всегда просят меня «не оставить родителей вниманием».
Бледное солнце октябрьского дня никак не раскочегарится, руки у меня замерзли, но я с удовольствием рыхлю землю пальцами, как делаю в своем саду.
В нескольких метрах от меня Гастон и Ноно копают могилу и рассказывают, как провели вечер. Ветер доносит обрывки фраз: «А жена мне и говорит… по телику… зуд… не стоило бы… шеф появится… омлет у Виолетты… я его знал… хороший был парень… кудрявый такой, да?.. Да, он наш ровесник… это было мило… его жена… ломака… песня Бреля… нечего изображать богачей, если в карманах пусто… ссать хочется до ужаса… страх… простата… успеть бы в магазин до закрытия… яйца для Виолетты… вот ведь несчастье…»
Завтра у нас похороны. В 16.00. Новый резидент пропишется на кладбище. Мужчина пятидесяти пяти лет умер из-за того, что слишком много курил. Так сказали врачи. Они никогда не признают, что человек может уйти из жизни, если его не любят, не слышат, если пришло слишком много счетов, если переборщил с кредитами, если дети выросли и покинули родительский дом, не простившись. Мужчин губит жизнь, сотканная из упреков и неудач. Конечно, он курит и выпивает, чтобы разогнать тоску, иначе и удавиться недолго.
Пожалуй, есть одна-единственная вещь, от которой еще никто не умирал, – смех.
Чуть дальше на аллее две дамы-коротышки, мадам Пинто и мадам Дегранж, убирают могилы своих мужей. Они приходят каждый день, поэтому им приходится придумывать, что бы еще вычистить, наведенный порядок напоминает обстановку магазина, торгующего ковровыми покрытиями и паркетом.
Люди, ежедневно навещающие усопших, сами похожи на призраков, застрявших между жизнью и смертью.
Мадам Пинто и мадам Дегранж худобой напоминают зимних воробышков. Можно подумать, что их кормили мужья, пока были живы. Я знаю обеих с тех пор, как начала работать на кладбище. Больше двадцати лет они каждое утро отправляются за покупками и обязательно заворачивают ко мне. Не знаю, что это, любовь или зависимость. Или и то и другое, вместе взятое. Не уверена, притворяются дамы или их нежность к ушедшим спутникам жизни неподдельна.
Мадам Пинто – португалка и, как и большинство соотечественников, живущих в Брансьоне, проводит лето на родине, и по возвращении ей есть чем заняться. В начале сентября она приезжает – такая же худая, но дочерна загорелая и со сбитыми коленями. В Португалии мадам Пинто приводит в должный вид захоронения родных и друзей. В ее отсутствие я поливаю цветы, а она в знак благодарности дарит мне пластиковую коробку с куколкой в национальном костюме. Каждый год, получив сувенир, я говорю: «Спасибо, мадам Пинто, спасибо большое, право, НЕ СТОИЛО, цветы для меня не труд, а удовольствие!»
В Португалии сотни фольклорных костюмов. Значит, если мадам Пинто продержится на этом свете еще тридцать лет, я получу еще тридцать жутких кукол с закрывающимися глазами.
Время от времени мадам Пинто посещает меня, поэтому убрать их совсем я не могу. Но не держать же этих страшил в спальне! В комнате, куда заходят люди в поисках утешения, им тоже не место, вот я и устроила экспозицию на ступеньках лестницы, ведущей на второй этаж. Она находится за стеклянной дверью и видна из кухни. Заглянув выпить кофе, мадам Пинто обязательно бросает взгляд на свои подарки, желая убедиться, что они занимают положенные им места. Зимой темнеет рано, к пяти часам, и в сумеречном свете черные глаза кукол блестят, как у живых существ, оборки платьев топорщатся, и я воображаю, что вот сейчас они вырвутся из своих прозрачных плексовых саркофагов, сделают мне подсечку, и я покачусь вниз. Пересчитывая боками ступени.
В отличие от многих других вдов, мадам Пинто и мадам Дегранж никогда не разговаривают с мужьями. Они убираются молча, словно перестали общаться еще при жизни. Молчание этих женщин олицетворяет собой неразрывность связи с супругами. А еще они не плачут. Их глаза высохли миллион лет назад. Иногда дам «прорывает», и начинается беседа о погоде, детях, внуках и – можете себе представить? – правнуках!
Один раз я видела, как они смеются. Один разочек. Мадам Пинто рассказала мадам Дегранж, что внучка задала ей вопрос: «Бабуля, а что это – Туссен? Каникулы?» – и обе захихикали.
8
Да будет твой покой столь же блаженным, сколь добрым было твое сердце.
22 ноября 2016-го, голубое небо, десять градусов, 16.00. Похороны Тьерри Тесье (1960–2016). Гроб из красного дерева. Никакого мрамора. Могилу выкопали прямо в земле.
Присутствуют человек тридцать, в том числе Ноно, Элвис, Пьер Луччини и я. Пятнадцать коллег Тьерри Тесье из компании DIM возложили венок из лилий. На ленте надпись: «Нашему дорогому коллеге».
Сотрудница онкологической службы Макона – ее зовут Клер – держит в руках букет белых роз.
Рядом с женой усопшего стоят ее дети, дочери лет тридцать, сыну двадцать пять. На табличке они попросили сделать надпись: «Нашему отцу».
Фотографии Тьерри Тесье нет.
Еще одна гласит: «Моему мужу». Над словом «муж» – маленькая птичка, славка.
В землю вкопан большой крест, вырезанный из оливы.
Три лицейских товарища Тесье по очереди читают стихотворение Жака Превера:
Кот и птица
- В деревне мрачные лица:
- Смертельно ранена птица.
- Эту единственную проживающую в деревне птицу
- Единственный проживающий в деревне кот
- Сожрал наполовину.
- И она не поет.
- А кот, облизав окровавленный рот,
- Сыто урчит и мурлычет… И вот
- Птица умирает.
- И деревня решает
- Устроить ей похороны, на которые кот
- Приглашен, он за маленьким гробом идет.
- Гроб девочка тащит и громко рыдает.
- «О, если б я знал, – говорит ей кот, —
- Что смерть этой птицы
- Причинит тебе горе,
- Я съел бы ее целиком…
- А потом
- Сказал бы тебе, что за синее море,
- Туда, где кончается белый свет,
- Туда, откуда возврата нет,
- Она улетела, навек улетела,
- И ты бы меньше грустила, и вскоре
- Исчезла бы грусть
- С твоего лица…»
- Что ни говорите, а всякое дело
- Надо доводить до конца![14]
Слово берет отец Седрик:
– Давайте вспомним, что Господь наш Иисус Христос сказал сестре упокоившегося Лазаря: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет»[15].
Клер кладет букет белых роз к подножию креста. И все расходятся.
Я не знала Тьерри Тесье, но, если судить по горестному выражению лиц, он был добрым и хорошим человеком.
9
Его красота, его молодость улыбались миру, в котором он будто бы жил.
Потом из его рук выпала книга, из которой он не прочел ни страницы.
По моему кладбищу рассеяно множество фотографий. Черно-белые, сепированные, цветные, современные и старинные. В тот день, когда была сделана каждая, никто из позировавших мужчин, детей, женщин и подумать не мог, что запечатленное мгновение будет представлять их в Вечности. Нас снимают на дне рождения и семейном обеде. Во время воскресной прогулки по парку, выпускного бала, свадебного пира, празднования Нового года. Фотограф ловит момент, когда человек выглядит чуть красивее обычного. Выбирает день, когда все собираются вместе, особый день, в который модель блещет элегантностью. В военном мундире, крестильной рубашечке или платье для первого причастия. И сколько же невинности во взгляде всех, кто улыбается нам с могильных памятников…
Часто накануне похорон в местной газете появляется некролог. Всего несколько фраз о жизни усопшего. Жизнеописание человека умещается в одной колонке. Чуть больше, если умирает коммерсант, врач или футбольный тренер.
Очень важно помещать на памятники фотографии, иначе остаются только имя, фамилия и даты. Смерть забирает у людей лица.
Красивейшая пара моего кладбища – Анна Лав Даан (1914–1987) и Бенжамен Даан (1912–1992). Они смотрят с обновленной – раскрашенной – свадебной фотографии, сделанной в 30-х годах. Два изумительных лица улыбаются фотографу. Она, солнечная блондинка с прозрачной кожей. Он, с лицом, словно бы вышедшим из-под резца гениального скульптора. Глаза супругов сверкают, как звездчатые сапфиры. Их улыбки – подарок Вечности.
В январе я протираю фотографии заброшенных или редко посещаемых могил. Мочу тряпку в воде пополам со спиртом, а для табличек добавляю в воду винный уксус.
Работа занимает пять-шесть недель. Если Ноно, Гастон и Элвис предлагают свою помощь, я отказываюсь. Говорю: «Вам и так работы хватает!»
Я не услышала, как он подошел. Подобное редко случается. Шаги по гравию я улавливаю сразу и различаю, кто идет – мужчина, женщина или ребенок. Случайный прохожий или завсегдатай. Этот человек ступает бесшумно.
Я начищаю девять лиц семьи Эсм – Этьена (1876–1915), Лоррен (1887–1928), Франсуазы (1949–2000), Жиля (1961–1993), Изабель (1969–2001), Фабриса (1972–2003), Себастьяна (1974–2011) – и вдруг чувствую спиной его взгляд. Оборачиваюсь. Не сразу узнаю лицо – он стоит против света.
И, только услышав голос – «Здравствуйте!» – понимаю, кто это. С запозданием на две-три секунды меня догоняет аромат корицы и ванили. Я не думала, что он вернется. Прошло два месяца с его первого появления перед моей дверью, выходящей на улицу. Сердце ускоряет темп. Шепчет: «Берегись…»
После исчезновения Филиппа Туссена ни один мужчина не заставлял мое сердце биться сильнее. После Филиппа Туссена оно не меняет ритм, совсем как старые, беспечно тикающие ходики.
Темп ускоряется только в День Всех Святых: бывает, я продаю аж сто горшков хризантем, вожу по кладбищам случайных посетителей, которые могут заблудиться в аллеях. Но сегодня мое сердце ведет себя… нетривиально. Из-за него. Кажется, я боюсь.
Стою с тряпкой в руке, а он смотрит на фотографии, которые я протираю, и робко улыбается.
– Это ваши родные?
– Нет, я просто делаю свою работу. – Слова теснятся в голове, не желают складываться во фразы. – В семье Эсм люди умирают молодыми. У них аллергия на жизнь, она отталкивает их.
Он кивает, застегивает верхнюю пуговицу пальто и снова улыбается:
– Холодно тут у вас.
– Да уж холоднее, чем в Марселе.
– Вы были там этим летом?
– Как и каждый год. Там я вижусь с дочерью.
– Она живет в Марселе?
– Нет. Путешествует по миру.
– Чем она занимается?
– Практикует волшебство. Профессионально.
На склеп семейства Эсм садится молодой дрозд и заводит громкую песню. Мне не хочется продолжать работу. Я выливаю воду из ведра на гравий, складываю внутрь тряпки и спирт. Когда я наклоняюсь, полы длинного серого пальто расходятся, приоткрыв алое, в цветах, платье. Комиссар успевает увидеть мой секрет – приметливый, не то что другие.
Я хочу отвлечь его внимание и напоминаю:
– Вы должны получить разрешение семьи, чтобы поставить урну с прахом матери на могиле Габриэля Прюдана.
– Не должен. Перед смертью он сделал распоряжение – заявил в мэрии, что мама будет покоиться рядом с ним… Они все предусмотрели.
Комиссар чувствует неловкость. Трет плохо выбритые щеки. Рук его я не вижу – он в перчатках. Взгляд задерживается на мне чуточку дольше положенного.
– У меня есть просьба, – говорит он наконец. – Организуйте для моей матери нечто вроде праздника без праздника.
Дрозд улетел. Его напугала Элиана, подбежавшая, чтобы приласкаться.
– Я этим не занимаюсь. Обратитесь в похоронное бюро братьев Луччини, оно находится на улице Республики.
– Похоронное бюро пусть занимается похоронами! Мне нужно, чтобы вы помогли сочинить короткую речь для того дня, когда я привезу мамин прах. На «церемонии» никого не будет. Только она и я… Хочу сказать несколько слов, которые останутся между нами.
Он наклоняется, чтобы приласкать Элиану, и продолжает, глядя на нее, а не на меня:
– Я обратил внимание, что в регистрационных, то есть в похоронных журналах записаны речи, которые люди произносят у могилы. Что, если я возьму по паре фраз из разных… выступлений и напишу посвящение матери?
Он проводит рукой по волосам. Седины в них больше, чем в первую нашу встречу. Возможно, все дело в свете. Сегодня небо голубое, поэтому свет белый, а тогда оно висело низко над землей и хмурилось.
Мимо нас проходит мадам Пинто. Здоровается, бросает недоверчивый взгляд на комиссара. В наших местах, когда в дверь, калитку или ворота входит незнакомец, его сразу начинают в чем-то подозревать. На всякий случай.
– В 16.00 у нас похороны. Приходите ко мне в 19.00, и мы вместе напишем несколько строк.
Он явно испытывает облегчение, достает из кармана пачку сигарет, но не закуривает – спрашивает, где находится ближайший отель.
– В двадцати пяти километрах отсюда. Но за церковью стоит домик с красными ставнями, там живет мадам Бреан, она сдает комнату, которая всегда свободна.
Он меня не слышит – задумался о чем-то своем, потом говорит:
– Брансьон-ан-Шалон… Кажется, здесь произошла драма?
– Нас окружают драмы. Каждая смерть чья-нибудь драма.
Комиссар пытается вспомнить, но не может. Дует на пальцы, бормочет: «До скорого…», «Спасибо большое!» – и бесшумными шагами идет по центральной аллее к ограде.
Мимо снова шествует мадам Пинто с лейкой. За ее спиной я вижу Клер, сотрудницу онкологического центра в Маконе, она направляется к могиле Тьерри Тесье, несет розу в горшке. Я догоняю ее.
– Здравствуйте, мадам, – говорит она. – Вот, хочу посадить этот кустик на могиле мсье Тессье.
Я зову Ноно. Он в домике, где могильщики переодеваются, принимают душ и стирают комбинезоны. Ноно уверяет, что запах смерти не цепляется к его одежде, но ни одно моющее средство не способно избавить от грязи его башку.
Ноно начинает копать, следуя указаниям Клер, а Элвис поет: Alwaysonmymind, alwaysonmymind…[16] Ноно подсыпает торфа, втыкает подпорку, чтобы роза росла прямо. Он сообщает Клер, что знал Тьерри и тот был отличным парнем.
Клер хотела дать мне денег, чтобы я время от времени поливала розовый кустик. Я пообещала ухаживать за цветами, но денег не взяла, потому что никогда этого не делаю.
– Бросьте монетки в копилку. Божья коровка стоит на холодильнике в моей кухне. На пожертвования я покупаю еду кладбищенским зверушкам.
– Хорошо, мадам Туссен. Знаете, я никогда не хожу на похороны пациентов, но Тьерри Тесье был очень милым человеком, нехорошо, если он будет лежать… как на пустоши! Я выбрала красную розу – она символизирует любовь, пусть составит ему компанию.
Я отвела Клер к могиле Жюльет Монтраше (1898–1962), одной из самых красивых на нашем кладбище. Вокруг растут цветы и кустарник, за которыми никто не ухаживает, но своей гармонией они радуют глаз в любое время года. Могила-сад. Случай и природа полюбовно договорились, и получилось чудо.
– Все эти цветы – лестница в небо, – сказала Клер и поблагодарила меня. Она зашла выпить стакан воды, затолкала несколько банкнот в щель копилки и удалилась.
10
Говорить о тебе – значит заставлять тебя жить.
Молчание равносильно забвению.
Я встретила Филиппа Туссена 28 июля 1985 года, в день смерти гениального сценариста Мишеля Одиара[17]. Может, поэтому нам с Филиппом почти не о чем было говорить. Диалоги выходили плоские, как энцефалограмма Тутанхамона. Он спросил: «Выпьем у меня?» – и я сразу согласилась.
Уходя из «Тибурена», я чувствовала на себе взгляды других девушек, топтавшихся у него за спиной с того момента, как он повернулся и посмотрел на меня. Их густо накрашенные глаза проклинали, осуждали на смерть, пока не умолкла музыка.
Я ответила: «Да» – и очутилась на мотоцикле в слишком большом шлеме на голове. Его рука легла на мое левое колено. Я закрыла глаза. Пошел дождь, и по моему лицу потекли капли.
Родители снимали Филиппу студию в центре Шарлевиль-Мезьера. Мы поднимались по лестнице, и я прятала пальцы с обгрызенными ногтями, втягивая ладони в рукава.
Мы вошли, и он набросился на меня, не сказав ни слова. Молчала и я. Красота Филиппа Туссена завораживала, как рассказ учительницы о «голубом периоде»[18] Пикассо. От картин в альбоме у меня перехватило дыхание, и я решила, что остаток жизни проживу в голубом цвете.
Мы занимались любовью жадно и весело, и мое тело познало невероятное наслаждение. Я впервые отдавала себя «за просто так», а не в обмен на что-то, и надеялась, что будет следующий раз. Я осталась ночевать, и наутро моя мечта исполнилась. Прошел день, другой, третий. Все смешалось, дни перепутались. Моя память больше не различает мелькающих мимо переезда вагонов – я помню лишь путешествие.
Филипп Туссен превратил меня в созерцательницу. В девочку, восхищенно глядящую на снимок голубоглазого блондина в глянцевом журнале и думающую: Он мой, я могу спрятать его в карман.
Я часами ласкала Филиппа, моя рука все время блуждала по его телу. Говорят, из красоты салата не сделаешь. Я поглощала красоту Филиппа на закуску, в качестве основного блюда и десерта. Если предлагалась «добавка», я не отказывалась. А он… позволял, ему нравилось владеть мною, все остальное не имело значения.
Я влюбилась. К счастью, у меня никогда не было семьи: я неизбежно бросила бы родных ради любовника. Филипп Туссен стал центром моего существования. Все чувства я направила на него. Если бы мне предложили поселиться внутри Филиппа, я бы согласилась без колебаний.
Однажды утром он предложил: «Переселяйся ко мне…» Три слова решили мою судьбу. Я сбежала из общежития втихаря, потому что была несовершеннолетней, и вошла в дом Филиппа с одним чемоданом, куда уместилось все мое тогдашнее имущество. Кое-какая одежда и первая кукла по имени Каролина. Она разговаривала, когда была новая («Здравствуй, мама, меня зовут Каролина, поиграй со мной…», потом смеялась), но батарейки разрядились, а путешествия из одной приемной семьи в другую, служба опеки и нудеж соцработниц лишили ее голоса. Я взяла с собой школьные фотографии и несколько пластинок на 33 оборота: Mythomane и La Notte, la Notte французского певца, выходца из Алжира Этьена Дао, диск французской рок-группы «Индокитай», визитную карточку певца и композитора Шарля Трене «Море», написанную в 1943 году, а еще пять комиксов о Тинтине (Голубой лотос, Драгоценности Кастафьоре, Скипетр Оттокара, Тинтин и Пикаросы, Храм солнца) и жалкий портфельчик, на котором расписались мои дружки-лодыри (Лоло, Сика, Со, Стеф, Манон, Иза, Анжело).
Филипп Туссен выделил мне место в шкафу и сказал:
– А ты забавная девчонка.
Я не желала разговаривать. Мне хотелось совсем другого.
Так вышло, что мы и потом были немногословны.
11
Укачай его самой нежной из твоих песен.
В моем стакане с портвейном плавает муха. Я вылавливаю ее и кладу на отлив окна, закрываю створку и вижу комиссара, поднимающегося по улице. Свет фонарей падает на воротник его пальто. Дорога, ведущая к кладбищу, обсажена деревьями. Внизу стоит церковь отца Седрика, за ней – несколько улиц центра города. Комиссар шагает быстро. Он выглядит совершенно замерзшим.
Хочу быть одна. Как и каждый вечер. Ни с кем не говорить. Читать, слушать радио, нежиться в ванне. Закрыть ставни. Облачиться в розовое шелковое кимоно. Ощутить покой и благость.
Все время после закрытия кладбища принадлежит только мне. Я его единоличный властитель. Такая роскошь доступна лишь тем, кто не делит время с окружающими. И нет роскоши роскошней…
Я все еще одета в «зиму» поверх «лета», хотя этот час принадлежит «лету». Мне досадно, что я пригласила комиссара зайти и пообещала помощь.
Он стучит в дверь, как поступил в первый раз. Элиана не реагирует. Она уже приготовилась ко сну – свернулась клубком и закопалась в одеялки, расстеленные на дне корзины.
Комиссар улыбается, здоровается: «Добрый вечер!», впустив в дом сухой холод. Я захлопываю дверь, пододвигаю к нему стул. Он не снимает пальто. Хороший знак – надолго гость не задержится.
Я ни о чем не спрашиваю, достаю хрустальный стакан и наливаю ему портвейна – моего лучшего, урожая 1983 года, который привозит в подарок Жозе-Луиш Фернандез. Увидев коллекцию бутылок в буфете, который служит мне баром, посетитель бросает на меня ошеломленный взгляд больших черных глаз. Бутылок сотни: сладкие вина, односолодовый виски, ликеры, водки, крепленые напитки.
– Не подумайте плохого, я не спекулянтка, не торгую из-под полы. Все это подарки. Людям неловко дарить мне цветы. Ведь я сама их продаю. Мадам Пинто – только она! – каждый год привозит кукол, остальные покупают джемы и спиртное. Чтобы съесть и выпить все «подарки», мне понадобилось бы несколько жизней, поэтому бо́льшую часть я отдаю могильщикам.
Комиссар снимает перчатки, делает первый глоток.
– Я угощаю вас лучшим из того, что есть в моей «винной карте».
– Божественный вкус!
Не могу объяснить почему, но я и вообразить не могла, что этот мужчина произнесет слово «божественный», смакуя мой портвейн: если не считать растрепанных, торчащих во все стороны волос, в нем нет ничего… фантазийного. Выглядит мой полицейский так же уныло, как и его одежда.
Я беру ручку, сажусь напротив и прошу его рассказать о матери. Он задумывается, вздыхает, говорит:
– Она была блондинкой. Натуральной…
Конец рассказа.
Комиссар снова обводит взглядом белые стены, как будто надеется увидеть картины старых мастеров. Время от времени он подносит ко рту стакан, делает маленький глоток, как дегустатор, и постепенно расслабляется.
– Я никогда не умел составлять речи. Думаю и говорю в стиле полицейского рапорта или протокола. Могу сказать, есть у человека шрам, родинка или бородавка, хромает он или нет, назвать размер обуви… На глаз определяю рост, вес, цвет глаз, особенности кожного покрова, особые приметы. А вот чувства не понимаю. Разве что точно знаю, когда от меня пытаются что-то скрыть…
Он почти допил, и я плеснула ему еще. Отрезала несколько ломтиков конте[19] и разложила их на фарфоровой тарелке.
– На секреты у меня нюх, тут я мастер… Сразу подмечаю жест, выдающий преступника. Во всяком случае, так я думал раньше, пока не узнал последних распоряжений матери.
Мой портвейн на всех действует как «сыворотка правды» – развязывает язык.
Он спрашивает:
– Вы совсем не пьете?
Я капаю в свой стакан портвейна и чокаюсь с ним.
– И это все?
– Я – хранительница кладбища и пью только слезы… Можем поговорить об увлечениях вашей матери. Под увлечениями я подразумеваю не только театр или прыжки через скакалку. Какой цвет был ее любимым, где она предпочитала гулять, что за музыку слушала? Вы знаете ее любимые фильмы? Она держала кошек или собак, сажала деревья, любила дождь, ветер или солнце? Можете назвать ее любимое время года?
Пауза затянулась. Он искал слова, как заблудившийся человек дорогу, допил портвейн и наконец ответил:
– Мама любила снег и розы.
Лаконично… Больше ему нечего сказать. Он выглядит растерянным и пристыженным. Как будто признался, что страдает «болезнью сирот». Неумением рассказывать о близких.
Я встаю. Достаю из шкафа регистрационную тетрадь за 2015 год. Открываю на первой странице.
– Вот речь, написанная 1 января 2015-го для Мари Жеан. Ее внучка не смогла быть на похоронах, потому что работала за границей. Она прислала мне текст и попросила прочесть его вслух. Думаю, он будет вам полезен. Берите, читайте, сделайте выписки, а завтра вернете.
Комиссар резко поднимается, сует тетрадь под мышку. Впервые за все время один из документов покидает стены моего дома.
– Спасибо… За все.
– Ночуете у мадам Бреан?
– Да.
– Вы ужинали?
– Кажется, она что-то приготовила.
– В Марсель поедете завтра?
– На рассвете. Не беспокойтесь, я не забуду занести тетрадь.
– Оставьте за синим ящиком для цветов.
12
Спи, бабуля, спи, но пусть наш детский смех доносится до тебя и на Небе.
Речь для Мари Жеан
Она не умела ходить – только бегать. Не задерживалась на одном месте ни на минуту, и кто-нибудь то и дело говорил ей: «Да перестань уже суетиться, остановись, сядь и посиди спокойно!» Вот она и остановилась. Навсегда.
Она ложилась рано и вставала в пять утра. Всегда была первой покупательницей, чтобы не стоять в очереди. Перед очередями она испытывала священный ужас. В девять утра бабуля возвращалась домой с покупками.
Она, вкалывавшая всю свою долгую жизнь, умерла в ночь с 31 декабря на 1 января, в выходной день. Надеюсь, ей не пришлось слишком долго стоять в очереди к райским вратам вместе с гуляками и жертвами автокатастроф.
На каникулы я всегда просила ее приготовить для меня спицы и моток шерсти, но связать успевала не больше десяти рядов. Когда мы встретимся – там, наверху, – она обмотает мою шею воображаемым шарфом. Конечно, если я заслужу рай.
Звоня по телефону, она говорила: «Это бабуля» – и звонко смеялась.
Она каждую неделю писала письма своим детям. Они выросли и уехали жить далеко от нее. Бабушка писала, как думала.
К каждому дню рождения, празднику, на Рождество и Пасху она отправляла посылки и чеки своим «цыпляткам». Для нее все дети были «цыплятками».
Она любила пиво и вино.
Крестила хлеб, прежде чем нарезать.
Часто повторяла: «Иисус, Мария…» Эти слова были для нее чем-то вроде знака препинания, финальной точкой в конце каждой фразы.
На буфете стоял большой радиоприемник, который она не выключала все утро. Бабуля рано овдовела, и я часто думала, что ей не хватало звуков мужского голоса, поэтому она так любила дикторов.
С полудня место радио занимал телевизор. Она включала его, чтобы победить тишину, и смотрела все дебильные шоу и викторины, а засыпала под «Огни любви». Она комментировала каждую реплику персонажей, как если бы считала их живыми, реальными людьми.
За два или три года до рокового падения, вынудившего бабулю переехать в дом престарелых, у нее украли елочные гирлянды и шары, взломав дверь подвала. Она плакала в телефонную трубку, как будто это были не игрушки, а все рождественские праздники ее жизни.
Она часто пела. Очень часто. Даже в конце жизни говорила: «Мне хочется петь». А еще: «Хочу умереть».
Каждое воскресенье бабушка ходила на мессу.
Она ничего не выбрасывала. И, уж конечно, не остатки еды. Она их разогревала и ела. Иногда у нее даже болел живот, но она не отступалась – предпочитала сблевнуть, но не выкинуть ломоть хлеба в помойку. «Желудочные» последствия войны…
Бабуля покупала горчицу в стаканчиках с рисунками, чтобы подарить их внукам – своим «цыпляткам», – когда те приедут на каникулы.
На газовой плите, в чугунном котелке, всегда готовилось что-нибудь вкусненькое. Курицу с рисом она ела всю неделю днем, а вечером пила бульон. В сковородке томились две-три луковицы под соусом, издавая божественный аромат.
Она всегда была съемщицей. Ничем не владела. Разве что семейным склепом.
Зная, что мы приезжаем, бабушка садилась ждать у окна и следила за машинами, паркующимися внизу, на маленькой стоянке. Мы входили в дом и сразу слышали вопрос: «Когда вы приедете повидаться с бабулей?» – как будто она хотела, чтобы мы немедленно отправились восвояси.
В последние годы она перестала ждать, и, если мы, не дай бог, опаздывали на пять минут в дом престарелых, чтобы забрать ее и повезти обедать в ресторан, она шла в столовую вместе с другими стариками.
Ложась спать, бабуля надевала на голову сеточку – чтобы не растрепалась укладка.
Каждое утро она выпивала стакан теплой воды с лимонным соком.
У нее было красное покрывало.
Бабушка была военной крестной[20] моего деда Люсьена. Когда он вернулся из Бухенвальда, она его не узнала. На тумбочке у кровати всегда стояла его фотография. Она взяла ее с собой в дом престарелых.
Я обожала мерить ее нейлоновые комбинашки и расхаживать в них по дому. Бабуля почти все заказывала по каталогам и получала кучу сопутствующих подарков – самые разные безделушки. Я спрашивала: «Можно порыться в шкафу?» – и она всегда разрешала. Я часами сидела перед открытыми дверцами и находила молитвенники, кремы фирмы «Ив Роше», махровые простыни, оловянных солдатиков, клубки шерсти, платья, шарфики, брошки, фарфоровых куколок.
Ладони у бабули были шершавые.
Несколько раз я делала ей укладку.
Она всегда экономила воду, когда мыла посуду.
В конце жизни она часто сетовала: «Чем я провинилась перед Господом, за что Он сослал меня сюда?» – имея в виду богадельню.
В семнадцать лет я стала ночевать у тети, которая жила в трехстах метрах от дома бабушки, в красивой квартире над большим кафе и кинотеатром, куда ходила в основном молодежь. В фойе был настольный футбол, видеоигры и мороженое. Ела я по-прежнему у бабули, а спала у тети, у нее можно было покурить втихаря, уйти на весь день в кино или посидеть с друзьями в баре.
Тетину квартиру всегда убирала мадам Фев, очень милая женщина. Однажды она приболела, и я нос к носу столкнулась с бабушкой, которая пылесосила комнаты. Иногда такое случалось.
В тот день, когда она умерла, я мучилась бессонницей из-за неловкости, возникшей между нами в тот момент. Я, молодая дуреха, распахнула дверь с улыбкой на губах и увидела ее согбенную фигуру с пылесосом. Бабуля подрабатывала. Я пыталась вспомнить, что мы тогда сказали друг другу, прокручивала в голове эту сцену снова и снова, всю ночь распахивала дверь и видела бабулю.
Когда мы снова увидимся, я задам ей вопрос: «Бабуля, помнишь день, когда я увидела тебя с пылесосом в квартире у тети?» А она пожмет плечами и ответит вопросом на вопрос: «С цыплятками все хорошо?»
13
Сильнее смерти только память живых об ушедших.
Я обнаружила регистрационный журнал за 2015 год за цветочным ящиком вместе с запиской, нацарапанной рукой комиссара на обороте рекламного буклета спортзала в 8-м округе Марселя. С первой страницы улыбалась девушка с телом мечты.
«Большое спасибо. Я вам позвоню». Коротко и ясно. Никаких комментариев насчет речи в честь Мари Жеан. Ни слова о матери. Интересно, он еще далеко от Марселя или уже доехал? В котором часу он отправился в путь? Он живет у моря? Любуется им или не замечает? Подобно людям, так долго живущим бок о бок, что перестают замечать друг друга…
Я открываю ворота. И тут появляются Ноно и Элвис. Здороваются: «Привет, Виолетта!» – оставляют грузовичок на центральной аллее и идут переодеваться. Я слышу, как они смеются, прохаживаясь по перпендикулярным аллеям и проверяя, все ли в порядке в моем «хозяйстве».
Меня сопровождают кошки, крутятся в ногах, мурлычут. Сейчас на кладбище одиннадцать мохнатых хитрюг. Пятеро принадлежат усопшим, как мне кажется, они появились в день похорон Шарлотты Буавен (1954–2010), Оливье Фежа (1965–2012), Виржини Тессандье (1928–2004), Бертрана Уитмена (1947–2003) и Флоранс Леру (1931–2009). У Шарлотты шерсть белая, у Оливье – черная. Виржини – домашняя, Бертран – серый, а Флоран (это кот) – бело-черно-коричневый. Остальные пришли позже. Они материализуются, потом исчезают. Люди знают, что на кладбище кошек кормят и стерилизуют, поэтому подбрасывают их нам. Иногда в прямом смысле – перебрасывают через стену.
Имена им – по мере поступления – дает Элвис. У нас живут Испанские Глазки, Кентукки Рейн, Муди Блю, Лав Ми, Тутти Фрутти и Май Уэй. Последнего подложили к моей двери в обувной коробке из-под мужских туфель 43-го размера.
Когда Ноно видит вновь прибывшего малыша, он сообщает ему условия проживания: «Предупреждаю, хозяйка кладбища специализируется на отрезании яиц». Эти слова еще ни одному животному не помешали остаться.
Ноно сделал специальный «кошачий» вход в двери моего дома, но большинство предпочитают жить в склепах. Только Май Уэй и Флоранс всегда лежат, свернувшись клубком в моей спальне, другие провожают до площадки, но не входят, как если бы Филипп Туссен все еще находился поблизости. Неужели они видят его призрак? Говорят, кошки умеют разговаривать с душами усопших. Филипп не любил животных, а я обожала с раннего детства, хотя оно было очень несладким.
Большинство посетителей любят наших кошек. Многие считают, что через них ушедшие общаются с оставшимися. На могиле Мишлин Клеман (1957–2013) написано: «Если рай существует, то станет для меня раем, только если я попаду туда вместе с моими собаками и кошками».
Я возвращаюсь в дом. Муди Блю и Виржини следуют за мной по пятам. Открываю дверь и вижу Ноно, беседующего с Гастоном и отцом Седриком о легендарной неуклюжести напарника и о том, что тот существует в режиме постоянного землетрясения. Ноно вспоминает тот день, когда Гастон опрокинул посреди кладбища тачку с костями и один череп закатился под лавку, а он этого не заметил. Ноно пришлось окликнуть его: «Эй, ты потерял биллиардный шар!»
В противоположность прежним кюре отец Седрик заходит ко мне каждое утро. Слушает истории Ноно и повторяет: «Господи, не может быть, быть того не может, Господи боже ты мой!» Утром следующего дня он возвращается, забрасывает Ноно вопросами и хохочет, заражая нас своей веселостью. В первую очередь меня.
Я обожаю смеяться над смертью. Издевка – мое оружие в поединке с Безносой, это сбивает с нее спесь.
Ноно говорит отцу Седрику «ты», но называет его «господин кюре».
– А вот еще был случай. Мы выкопали тело, оно пролежало в могиле семьдесят лет и не разложилось, можете себе представить?! Проблема в том, что дыра в оссуарии, через которую мы заталкиваем покойничков, совсем узкая. Элвис побежал за мной. Из носа у него течет – как всегда, и он говорит: «Ноно, идем скорее, ну пошли же, чего стоишь?» Я спрашиваю: «Что случилось?» А он вопит: «Гастон засунул мужика… сам знаешь куда!» – «Куда?» – не понимаю я, мчусь к оссуарию и вижу Гастона, болван толкает тело, а оно не входит. «Черт, парни, – говорю, – мы же не фашисты какие-нибудь…» Отличная история, верно? Я все время рассказываю ее мэру, и он ржет… Город выдал нам баллон с газовой горелкой на тележке с четырьмя колесами – для уничтожения сорняков. Ну, Элвис зажигает горелку, Гастон открывает газ… а я ему объяснял, господин кюре, что вентиль надо поворачивать медленно, но это же Гастон, он вечно все забывает, Элвис подносит зажигалку и – БУМ! – все взлетает на воздух! Как на войне! Ладно, самое интересное впереди, держитесь за стол, господин кюре! Они нашли выход…
Ноно хохочет во все горло, вытирает нос платком и продолжает:
– Одна женщина убирала могилу по соседству, сумочку она поставила на траву, и они… они… сунули туда огонь… клянусь жизнью внука, господин кюре, это правда! Сдохнуть мне, если вру! Элвис как начал прыгать на сумочке – огонь ведь нужно было загасить!
Элвис сидит у окна с Май Уэй на коленях и тихонько напевает: I fell me temperature rising, higher, higer, it’s burning through to my soul…[21]
– Элвис, давай, расскажи господину кюре, что в сумке лежали очки той дамы и ты раздавил стекла! Видели бы вы его работу, господин кюре! Элвис повторяет: «Гастон… огонь… сумка…» А старушка орет: «Он погубил мои очки, погубил, погубил очки!»
Отец Седрик плачет от смеха.
– Господи, не может быть, быть того не может, Господи боже ты мой!
Ноно замечает своего шефа, вскакивает, и Элвис повторяет его движение.
– Помяни черта… Прости, господин кюре! И ты прости, Господи! Если простишь, все будет хорошо. Привет честно́й компании!
Ноно и Элвис выходят и бодро шагают к своему начальству. Могильщиков курирует Жан-Луи Дармонвиль, отвечающий за технические службы города. На моем кладбище лежит не меньше его любовниц, чем ходит по центральной улице Брансьона. А ведь он не красавчик. Время от времени Дармонвиль является погулять по аллеям. Помнит ли он всех женщин, которых сжимал в объятиях? Разглядывает ли фотографии? Помнит ли имена? Лица? Голоса? Смех? Аромат? Что остается от его нелюбовей? Я ни разу не видела, чтобы он остановился у какой-нибудь могилы, задумался… Всегда только ходит и ходит. Хочет убедиться, что ни одна из «дам сердца» не проговорится?
У меня начальства нет. Надо мной только мэр. Один и тот же вот уже двадцать лет. Мэра я вижу только на похоронах членов его администрации. Коммерсантов, военных и влиятельных особ – «шишек», как их называют. Однажды он хоронил друга детства и так горевал, что я его даже не узнала.
Отцу Седрику тоже пора.
– Всего вам наилучшего, Виолетта. Благодарю за кофе и добрый юмор. Мне всегда так уютно у вас.
– И вам хорошего дня, святой отец.
Он берется за ручку двери и вдруг останавливается.
– Скажите, Виолетта, вам случается сомневаться?
Я отвечаю не сразу. Взвешиваю слова. Всегда. Нужно быть осторожной. Особенно когда общаешься с доверенным лицом Всевышнего.
– Последние несколько лет реже. Потому что нашла свое место. Здесь.
Святой отец задумывается:
– А вот я боюсь, что не соответствую. Выслушиваю исповеди, венчаю, крещу, проповедую, преподаю катехизис. Это тяжкая ноша. Большая ответственность. Мне часто кажется, что я предаю доверие прихожан. И Господа – в первую очередь.
Тут я не выдерживаю и бросаюсь в бой:
– А вы не думаете, что Он первым предает людей?
Отец Седрик потрясен моим богохульством.
– Бог есть любовь.
– Тогда Он точно предатель: любовь и предательство неразделимы.
– Вы правда так думаете, Виолетта?
– Я всегда думаю, что говорю! Бог создал человека по образу и подобию Своему. Он лжет. Дает, отнимает, любит и предает.
– Бог есть всеобъемлющая любовь. Он меняется – благодаря вам. Благодаря нам, благодаря всем светоносным иерархам, Он чувствует и переживает все, что проживают люди, стремится к совершенству и красоте… Сомневаюсь я в себе. В Нем – никогда.
– Но почему, святой отец?
Он в прострации. Смотрит на меня и молчит.
– Говорите, святой отец. У нас в Брансьоне две исповедальни – в вашей церкви и в этой комнате. Мне много чего рассказывают.
Священник печально улыбается.
– Мне все сильнее хочется стать отцом… Я просыпаюсь по ночам, задыхаясь от этого желания… Сначала я принял мое чувство за гордыню, за тщеславие. Но…
Он подходит к столу, машинальным движением открывает и закрывает сахарницу. Май Уэй трется о его ноги, он наклоняется, проводит ладонью по шерстке.
– Вы не думали взять приемного ребенка?
– Я не имею права, Виолетта. Все законы запрещают это, и земные, и небесные.
Отец Седрик оборачивается, смотрит в окно на промелькнувшую мимо тень.
– Простите, что спрашиваю, святой отец, но… вы были влюблены?
– Я люблю только Господа.
14
Прекрасен день, в который кто-нибудь вас любит.
В первые месяцы нашей совместной жизни в коммуне Шарлевиль-Мезьер я каждый день писала в дневнике красным фломастером два слова: БЕЗУМНАЯ ЛЮБОВЬ. Так было до 31 декабря 1985 года. Я тенью следовала за Филиппом Туссеном – когда не работала. Он всасывал меня в себя. Пил меня. Обволакивал. Филипп был чувственным до безумия. Я таяла у него на языке, как карамелька или постный сахар. Каждый день был праздником. Когда я сегодня думаю о том периоде моей жизни, он кажется мне ярмарочным балаганом.
Филипп всегда знал, куда пристроить свои руки, прокладывал новые маршруты по моему телу, ему были ве́домы точки, дарившие самое острое наслаждение (я понятия не имела об их существовании!), и не уставал целовать их и ласкать.
После любви мы не расплетали объятий. Наши руки и ноги дрожали в унисон. Мы обжигали друг друга. Филипп Туссен все время повторял: «Черт, Виолетта, со мной никогда такого не было! Ты колдунья, я знаю, ты меня зачаровала!»
Думаю, он уже в первый год совместной жизни начал мне изменять. Врать. Подкатывался к другим женщинам, стоило мне отвернуться.
Филипп Туссен напоминал лебедя – прекрасного на воде и неуклюжего на суше. Он превращал нашу кровать в рай, любовью занимался… обаятельно и чувственно, но, как только принимал вертикальное положение, терял яркость.
Он не хотел, чтобы я оставалась в «Тибурене», ревновал ко всем и каждому. Мне пришлось расстаться с работой барменши и наняться в кафе, официанткой. Я начинала в десять утра, чтобы успеть приготовить ланч, а освобождалась в шесть вечера.
Когда я уходила, Филипп еще спал, и мне бывало ужасно трудно оторваться от него, вылезти из теплого гнездышка и выйти на стылую улицу. Днем он уезжал кататься на мотоцикле – по его словам, а вечером валялся перед телевизором. Я с порога бросалась к кровати и ложилась на Филиппа, погружалась в него, как в нагретый солнцем бассейн. Я хотела видеть жизнь в голубом цвете – Пикассо оставался моим любимым художником! – и у меня получалось.
Я была готова на все, лишь бы он ко мне прикоснулся. Я чувствовала, что принадлежу ему телом и душой, и это меня окрыляло. В свои семнадцать лет я жаждала наверстать все недоданное жизнью счастье. Если бы Филипп меня бросил, я бы, наверное, умерла. Не наверное – точно не пережила бы. Мне хватило расставания с матерью.
Работал Туссен эпизодически. Начинал, только доведя родителей до умопомрачения. Отец обращался к очередному другу, и тот находил Филиппу место. Чем он только не занимался! Был маляром, механиком, курьером, ночным сторожем, уборщиком. Выдерживал не больше недели и всегда находил себе оправдание. Жили мы на мою зарплату, поступавшую на счет: я была несовершеннолетней, и так было проще. Себе я оставляла только чаевые.
Иногда его родители заявлялись днем, без предупреждения (у них были ключи от студии), чтобы прочитать нотацию единственному сыну, двадцатисемилетнему безработному, которому нравилось быть безработным… Я работала и потому, слава богу, не встречалась с ними. Мамаша Филиппа забивала холодильник продуктами, и супруги удалялись.
А потом случилась неприятность. В мой свободный день я осталась дома, и мы, конечно же, занимались любовью. Я лежала на кровати. Голая. Филипп принимал душ. Я не услышала, как открылась дверь, потому что распевала во все горло: «Скажи, что любишь меня! Даже если это ложь! Ведь я знаю, что ты врешь! Один день похож на другой! А мне нужна романтика!» Увидев супругов, я подумала: Филипп Туссен совсем не похож на родителей.
Никогда не забуду взгляд его матери, ее злой оскал. Она смотрела с таким презрением, что я – неграмотная, косноязычная – сумела правильно истолковать этот взгляд, как будто увидела себя в злоязыком зеркале. Опустившаяся дешевка, продажная тварь, замарашка, нищенка, дурное семя…
Ее рыжевато-каштановые волосы были убраны в тугой пучок, кожа на висках натянулась, и проступили синеватые вены. Тонкие губы выражали крайнюю степень неодобрения. На веках лежали зеленые тени, что было явной ошибкой при голубых глазах. Ошибкой, дурновкусием, в котором она упорствовала все годы, что мы были знакомы. Нос мадам напоминал клюв хищной птицы из Красной книги, цвет лица был очень бледный, не тронутый загаром. Заметив мой округлившийся животик, она тяжело плюхнулась на стул. Папаша Туссен, сутулый подкаблучник, говорил со мной как учитель Закона Божьего, употребляя слова «безответственные» и «необдуманные», поминал Иисуса Христа. Я еще подумала: «А Он-то тут при чем?» Интересно, что бы сказал Спаситель, увидев этих людей в дорогих шмотках, оскорбленных в лучших чувствах видом любовницы сына, прикрывшей наготу красным покрывалом с нью-йоркскими небоскребами.
Филипп вышел из ванной с полотенцем на бедрах и даже не посмотрел в мою сторону. Сделал вид, что я не существую, как будто важна была только его мать. Я почувствовала себя убогим ничтожеством. Подзаборным щенком. Пустым местом. Таким же пустым, как отец Филиппа. Сын и мать заговорили обо мне. При мне. Им было безразлично, слышу я их или нет. Особенно матери.
– Ребенок твой? Уверен, что отец – ты? Где ты встретил эту девушку? Смерти нашей хочешь?! Между прочим, аборт придумали не для собак. О чем ты только думал, бедный мой мальчик?!
Отец Филиппа продолжал бубнить:
– Все возможно… нет ничего невозможного… человек способен измениться… нужно верить… никогда не опускать руки…
Мне хотелось смеяться и плакать. Я словно бы оказалась среди героев итальянской комедии. Недоставало только красоты итальянцев. Я привыкла, что люди говорят о моей жизни и будущем так, словно меня это не касается, словно я проблема, которую нужно решить, а не личность.
Туссены, вырядившиеся как на свадьбу, игнорировали мерзавку, посягнувшую на их драгоценного сыночка, подстроившую ему ловушку. Мадам вела себя так, как будто боялась испачкаться.
Они ушли не простившись, и Филипп Туссен разбушевался. Он орал: «Дерьмо! Проклятье! Надоели!» – и пинал ногами стену. Велел мне уйти, чтобы он мог успокоиться, иначе будет хуже, и выглядел испуганным, хотя бояться следовало мне. Я привыкла к грубости, хотя физического насилия, благодарение Господу, избежала.
Я вышла на улицу, сразу замерзла и пошла быстрым шагом, чтобы согреться. Наша с Филиппом повседневность была беззаботной, но хватило одного визита его родителей, чтобы все разбилось вдребезги. Через час я вернулась. Филипп спал, и я не стала его будить.
На следующий день мне исполнилось восемнадцать. В качестве подарка Филипп сообщил мне, что отец нашел нам работу дежурных на железнодорожном переезде. Место недалеко от Нанси должно было скоро освободиться.
15
Милая бабочка, разверни свои чудесные крылышки, лети на могилу и передай моей любимой привет.
Гастон снова упал в могилу. Не могу сосчитать, сколько раз это с ним случалось. Два года назад, во время эксгумации, он рухнул в гроб и остался стоять на четвереньках, прямо на костях. А сколько раз он запутывался в воображаемых веревках?
Ноно на минуту отвернулся – отошел метров на сорок набрать тачку земли. Гастон беседовал с графиней де Дарье, но вернувшийся Ноно его не обнаружил. Земля осыпалась, и он оказался в могиле. Барахтался там и вопил: «Зовите Виолетту!» Ноно пошутил: «Она не тренер по плаванию!» А ведь он предупреждал недотепу, что земля в это время года рыхлая. Пришлось ему доставать приятеля под аккомпанемент песенки Элвиса: Face down on the street with agunin his hand…[22] Иногда мне кажется, что мои соседи – братья Маркс[23], но суровая реальность возвращает бедняжку Виолетту с небес на землю.
Завтра мы хороним доктора Гийенно. Даже врачи в конце концов умирают. Он мирно почил в собственной постели в возрасте девяноста одного года. Доктор Гийенно пользовал весь Брансьон-ан-Шалон и окрестности в течение полувека. Значит, на церемонию придет много народа.
Графиня де Дарье успокаивает нервы, попивая сливовую водку, полученную в подарок от мадемуазель Брюлье, чьи родители лежат на участке «Кедры». Графиня ужасно испугалась, увидев нырок Гастона в могилу. Она говорит с лукавой улыбкой: «Это напомнило мне чемпионат мира по плаванию». Обожаю эту женщину! Такие посетители поднимают мне настроение.
На моем кладбище лежат ее муж и любовник. С весны до осени мадам де Дарье украшает их могилы цветами – пышные она выбирает для супруга, букет подсолнухов в вазе – своей «истинной любви». Проблема в том, что ее возлюбленный был женат. Вдова, обнаружив в очередной раз подсолнухи, немедленно выбрасывает их в помойку.
Однажды я решила подобрать букет, чтобы положить его на заброшенную могилу, но не смогла: разгневанная женщина общипала все лепестки. Она точно не гадала на подсолнухе: «Немножко, сильно, страстно, до безумия, совсем не любит».
За двадцать лет я повидала немало вдов, безутешных в день похорон и ни разу не пришедших потом на могилу покойного мужа. Многие вдовцы женятся, не дав остыть телу супруги, но продолжают жертвовать на корм животным и просят ухаживать за могилой.
Мне знакомы брансьонские дамы, «специализирующиеся» на вдовцах. Они бродят по аллеям, одетые в черное, и высматривают одиноких мужчин, поливающих цветы. Я долго наблюдала за маневрами некоей Клотильды К., которая каждую неделю являлась на мое кладбище, чтобы ухаживать за… очередной могилой. Заарканивала первого же безутешного вдовца и заводила с ним разговор о погоде, просила не печалиться – жизнь продолжается! – и получала приглашение на аперитив. В конце концов она вышла замуж за Армана Бернигаля, чья жена (Мари-Пьер Бернигаль, в девичестве Вернье, 1967–2002) покоится на участке «Тисы».
Я нахожу десятки новых памятных табличек, которые взбешенные родственники прячут в кустах. Чаще всего на них написано что-то вроде «Моей любви на вечные времена».
Каждый день любовники и любовницы усопших незаметно прокрадываются на кладбище. Чаще это делают женщины – они дольше живут. Их не бывает по субботам и воскресеньям – кому охота столкнуться нос к носу с «законными половинами»? Грешники и грешницы являются с раннего утра или перед закрытием. Сидят на могилах, а потом стучат в мою дверь, чтобы я выпустила их за ограду.
Помню Эмили Б., подругу Лорана Д., она являлась каждое утро за полчаса до открытия и ждала у входа. Увидев в окно ее силуэт, я набрасывала черное пальто прямо на ночную рубашку и шла в тапочках впустить ее. Я очень жалела эту женщину и делала для нее исключение. Угощала чашечкой кофе с молоком. Мы обменивались парой фраз. Она рассказывала, как безумно любила Люсьена, причем использовала только настоящее время. «Память сильнее смерти. Я все еще чувствую его руки на моем теле и знаю, что он смотрит на меня оттуда, где сейчас пребывает». Потом она ставила чашку на отлив окна и отправлялась на свидание с возлюбленным, а если на могиле вдруг оказывались родственники Люсьена, ждала где-нибудь в сторонке, спрятавшись за кустом.
Однажды утром Эмили не появилась, и я решила, что она, так сказать, отгоревала. Время расплетает печаль, как косу, какой бы длинной она ни была. Безгранична и неутешима только скорбь родителей, потерявших ребенка.
Я ошиблась. Эмили Б. не снимала траура – она появилась на моем кладбище на катафалке, в сопровождении близких. Думаю, никто не знал, что они с Люсьеном любили друг друга. Лечь рядом с ним ей, увы, не пришлось…
После похорон, когда все разошлись, я осуществила «черенкование»: взяла длинный стебель лаванды, посаженной Эмили на могиле Люсьена, сделала несколько надрезов, оторвала головку цветка и воткнула в дырявую бутылку с землей и частью навоза. Месяц спустя растение дало новые корни.
Лаванда будет вечно принадлежать любовникам, нашедшим последний приют на моем кладбище. Я всю зиму ухаживала за цветком, а весной пересадила его на могилу Эмили. Барбара[24] поет: «Весной так прекрасно говорить о любви…»
16
Не бывает случайных встреч.
Все они назначены нам судьбой.
– Леонина.
– Как-как?
– Леонина.
– Ты чокнулась… Что это за имя? Похоже на название стирального порошка.
– А мне нравится. Очень. Окружающие будут звать ее Лео. Люблю девчонок с мальчишечьими именами.
– Ну так назови ее Анри.
– Леонина Туссен. Звучит чудесно.
– Сейчас 1986 год! Выбери что-нибудь посовременнее… Дженифер или Джессика.
– Ну пожалуйста, не дави на меня, пусть будет Леонина!
– Ладно, поступай как хочешь, но, если будет сын, имя выбираю я.
– И как ты его назовешь?
– Ясоном.
– Надеюсь, родится девочка.
– Не согласен.
– Займемся любовью?
17
Я слышу твой голос во всех шумах мира.
19 января 2017-го, серое небо, температура воздуха 8°. 15.00. Похороны доктора Филиппа Гийенно (1924–2017). Дубовый гроб, внутренняя обивка в желтых и белых розах. Черный мрамор. Маленький золоченый крест на стеле.
Около пятидесяти венков и цветы – лилии, розы, цикламены, хризантемы, орхидеи.
На лентах надписи: «Нашему дорогому отцу», «Моему дорогому супругу», «Нашему дорогому дедушке», «От выпускников 1924 года», «От торговцев Брансьон-ан-Шалона», «Нашему другу», снова «Нашему другу», «Нашему другу»…
На табличках читаем: «Время проходит, воспоминания остаются», «Моему любимому мужу», «Твои друзья никогда тебя не забудут», «Нашему отцу», «Нашему деду», «Нашему двоюродному прадеду», «Нашему крестному», «Все мимолетно в этом мире – ум, красота, прелесть и талант подобны эфемерным цветкам под порывами ветра».
Вокруг могилы собралось около ста человек. В том числе Ноно, Гастон, Элвис и я. До захоронения четыреста человек заполнили маленькую церковь отца Седрика. Место внутри досталось не всем: сначала расселись старики, тесно прижавшись друг к другу плечами. «Неудачники» столпились на узкой паперти.
Графиня де Дарье говорит мне, что всю ночь вспоминала, как добрый доктор приезжал по вызову после полуночи в мятой рубашке, как по собственному почину возвращался проверить, упала у ее младшего сына температура или нет. «Наверное, каждый из нас, узнав горестное известие, подсчитал, сколько он вылечил бронхитов, отитов и гриппов, сколько актов о смерти подписал, сидя за кухонным столом. Когда он начинал практиковать, люди умирали в собственной постели, а не на больничной койке».
Филипп Гийенно оставил прекрасный след на земле. Его сын сказал: «Мой отец был очень предан своей профессии. Он брал деньги за одну консультацию, даже если приезжал к пациенту три раза или выслушивал стетоскопом сердца всех членов семьи. Он был великим врачом, замечательным диагностом, ему хватало трех вопросов и одного взгляда в глаза больному, чтобы понять, в чем дело. И это в мире, где еще не были даже изобретены дженерики».
К стеле прикрепили медальон с фотографией Филиппа Гийенно. На ней ему пятьдесят, он в отпуске. У моря. Загорелый, улыбающийся. Тем летом он поручил деревню заботам кого-то другого и уехал погреться на солнце.
Отец Седрик подходит благословить гроб и говорит: «Филипп Гийенно, я любил вас, как всех нас любит Господь. Нет любви благороднее, чем посвятить свою жизнь тем, кого любишь».
После церемонии в мэрии устраивают скромные поминки. Меня приглашают – как всегда. Я не иду – как обычно. Потом все отправляются по домам. Остаюсь я и Пьер Луччини.
Каменщики закрывают семейный склеп, а Пьер рассказывает мне, что доктор познакомился со своей женой в день ее свадьбы с другим мужчиной. В самом начале бала она подвернула лодыжку, и Филиппа срочно вызвали на праздник. Он увидел новобрачную в белом платье и влюбился. Поднял ее на руки, понес в машину, чтобы отвезти в больницу на рентген, и… не вернул молодому мужу. «Он попросил ее руки, когда вправлял вывих!» – с улыбкой добавляет мой друг.
Перед закрытием кладбища возвращаются дети Филиппа. Проверяют работу каменщиков. Собирают карточки, приколотые к венкам, выходя за ворота, машут мне и уезжают в Париж.
18
- А сейчас увядших листьев стаи
- Гонит ветер по аллеям прочь,
- Как воспоминания и взгляды…
Я разговариваю сама с собой. Говорю с мертвыми, с кошками, ящерицами, цветами, с Богом (не всегда вежливо). Я задаю себе вопросы. Окликаю себя. Подбадриваю.
Я не вмещаюсь в рамки. Никогда не вмещалась. Когда я заполняю графы тестов из глянцевого журнала, «Знаете ли вы себя» или «Узнайте себя лучше», для меня не находится варианта ответа. Я из тех, кто повсюду выбивается из строя.
В Брансьон-ан-Шалоне есть люди, которые меня не любят, другие не доверяют или боятся. Им кажется, что я все время ношу траур. Видели бы они «лето» под «зимой», сожгли бы меня заживо на костре. Все похоронные ремесла внушают опасения.
А еще у меня пропал муж. Просто взял – и пропал. «Признайте, странно получилось. Человек садится на мотоцикл и исчезает. Навсегда. Красавец мужчина. Разве это не печально? Жандармы ничего не делают, ее не тревожат, не допрашивают. А она совсем не печалится. Не плачет. Говорю вам, эта женщина что-то скрывает. Вечно в черном, подтянутая… зловещая личность… На кладбище творится что-то подозрительное. Могильщики не просыхают. Она все время что-то бормочет себе под нос. Это ведь ненормально, согласны?»
Другие люди думают иначе. «Она мужественная женщина. Честная. Верная. Улыбчивая, скромная. У нее трудная работа. Никто больше не хочет заниматься таким ремеслом. Живет одна, муж ее бросил, но сколько достоинства! Утешает тех, кто в горе, самым несчастным всегда нальет стаканчик, скажет доброе слово. И выглядит элегантно… Ни в чем ее не упрекнешь. Великая труженица. Кладбище содержит в безупречном порядке. И характер хороший. Она никогда не заносится, правда, иногда витает в облаках, но это никому пока не навредило».
Гражданская война не утихает, и я играю роль фитиля.
Однажды мэр получил петицию с требованием убрать меня с кладбища. Он вежливо ответил, что я – ответственный сотрудник и до сих пор не допустила ни единой ошибки.
Иногда подростки бросают камни в ставни на окнах моей комнаты или барабанят в двери среди ночи, чтобы напугать. Я слышу, как они хихикают, и натравливаю на них Элиану или звоню в колокол. Негодники убегают.
Я не сержусь. Пусть хулиганят, напиваются, делают глупости, только бы не умирали. Не хочу видеть, как убитые горем родители провожают их в последний путь!
Летом ребята часто перелезают через ограду, дожидаются полуночи и пугают друг друга. Прячутся за крестами, рычат, ухают, хлопают дверьми склепов. Некоторые, те, что постарше, занимаются спиритизмом, желая произвести впечатление на подружек. «Ты здесь, дух?» Девчонки визжат, их приводит в восторг любое «проявление сверхъестественного». Слышат они, конечно, не призраков, а моих кошек, которые охотятся на ночных бабочек или ежей, переворачивающих блюдечки с молоком. Иногда я тоже выхожу на бой – укрываюсь за памятником и стреляю из пистолета растворенным в воде эозином, красителем ярко-розового цвета.
Никто не имеет права нарушать покой усопших. Только не на моем кладбище. В первое время я зажигала фонарь перед домом. Звонила в колокол, преследовала святотатцев по темным аллеям, вооруженная водяным пистолетом. Я знаю каждый поворот, кочку и канаву и могу двигаться с закрытыми глазами, не боясь, что меня заметят.
Существуют любители «экстремального» секса на могилах и киноманы, обожающие смотреть ужастики рядом со склепом Дианы де Виньрон, первой «постоялицы» моего кладбища. Многие брансьонцы видели ее призрак и не сомневаются, что она осталась в нашем мире. Однажды я подкралась к нарушителям со спины и что было силы дунула в свисток. Они умчались, как перепуганные кролики, бросив ноутбук в траве.
В 2007-м у меня возникли серьезные проблемы с бандой молодых бездельников, явившихся к нам на каникулы. Чужаки, случайные люди. Парижане. Весь июль, с 1-го по 30-е, они каждый вечер проникали на территорию кладбища и ночевали под открытым небом. Я много раз вызывала жандармов. Ноно подловил их и надавал ногой по задницам, попутно объясняя, что кладбище – не игровая площадка, но урок не пошел впрок: следующим вечером тупицы вернулись. Обычных мер оказалось недостаточно.
К счастью, 31 июля они уехали и… вернулись ровно через год. Вечером 1 июля я их услышала. Голоса доносились от могилы Сесили Делазерб (1956–2003). «Пришлые» повзрослели: они курили, много пили и разбрасывали бутылки по территории. Каждое утро я вынимала окурки из цветочных горшков.
А потом случилось чудо: в ночь с 8-го на 9-е они убрались. Никогда не забуду, как эти дураки перепугались, как кричали и уверяли всех и вся: «Мы что-то видели!»
Ноно доложил, что нашел рядом с оссуарием голубые «колеса», галлюциногенную дурь, навевающую ужасные видения. Не знаю, призрак Дианы де Виньрон или белая дама Рен Дюша избавила меня от молодых болванов, но благодарна обеим.
19
Если бы каждый раз, когда я думаю о тебе, распускался хотя бы один цветок, земля стала бы огромным садом.
Я стояла у ворот, ведущих под арку дома, где находилась наша с Филиппом квартира, и вдруг заметила в витрине книжной лавки красное яблоко на обложке одного томика. «Правила виноделов» Джона Ирвинга[25]. Я не уловила смысла названия, оно оказалось слишком сложным для меня. В 1986-м, в восемнадцать лет, я была образованна, как шестилетка. У-чи-тель-ни-ца, шко-ла, я имею, ты имеешь, я воз-вра-ща-юсь до-мой, это, здрав-ствуй-те-ма-дам, Панзани, Бэби бел, Скип, Оазис, Баллентайнз.
Я купила эту толстенную книгу (восемьсот двадцать одна страница), хотя, чтобы прочесть и понять одну фразу, мне требовались часы и усилия, какие даме 50-го размера нужны, чтобы влезть в джинсы 36-го. Но я ее купила – уж очень сочным выглядело яблоко. Несколько месяцев назад я утратила желание. Филипп особенным образом дышал мне в затылок, давая понять, что готов и хочет. Он всегда хотел, но никогда не желал меня. Однажды я не шевельнулась. Притворилась спящей.
Впервые мое тело не ответило на призыв его тела. Потом желание вернулось, но очень скоро снова «замерзло». Так иней время от времени появляется на окнах, деревьях и земле.
Я всегда была в ладах с жизнью и чаще видела светлую сторону вещей и событий. Тень я игнорировала, как дома у воды, стоящие лицом к солнцу. Когда плывешь на лодке, любуешься яркими фасадами, белыми палисадниками с зеркальным отблеском и зеленеющими деревьями. Я редко вижу «задники» этих строений: мусорные баки и компостные ямы заметны только с дороги.
До встречи с Филиппом Туссеном я долго жила в приемных семьях, грызла ногти, но редко видела тени. С ним я узнала, что такое разочарование. Поняла, что наслаждаться мужчиной и любить его – разные вещи. Картинка из глянцевого журнала с изображением красавца потускнела. Праздность Филиппа, слабоволие в отношениях с родителями, дремлющая в нем тяга к насилию и запах чужих женщин на кончиках пальцев что-то у меня украли.
Ребенка хотел он. Сказал: «Будем делать детей». И он же, мужчина на десять лет старше меня, шептал матери, что «подобрал» меня, называл потеряшкой, извинялся. А когда она отвернулась выписать энный по счету чек, чмокнул меня в шею и пробормотал, что всегда вешал старикам лапшу на уши, лишь бы поскорее отвязались. Так он извинился, но слова прозвучали. Оскорбительные слова…
В тот день я подыграла ему. Улыбнулась. Ответила: «Ладно, конечно, я понимаю…» Утраченные иллюзии посеяли во мне нечто иное. Силу. Живот у меня рос, а я чувствовала желание учиться. Нужно наконец понять, как трактуется выражение «слюнки текут», почему в книгах написаны те или другие слова. Раньше слова меня пугали, поэтому я почти ничего не читала.
Я дожидалась, когда Филипп Туссен отправится на мотоциклетную прогулку, и начинала читать четвертую сторону обложки книги Ирвинга. Вслух, иначе я не улавливала смысл. Я превращалась в собственного двойника и рассказывала себе историю. Двойник хотел учиться и не собирался сдаваться. Мое настоящее и будущее сидели, склонившись над романом.
Почему книги влекут нас, как люди? Почему обложки завораживают, как взгляд человека или показавшийся знакомым голос? Как, черт возьми, этот голос заставляет нас свернуть с пути, поднять глаза и, возможно, меняет сам ход нашей жизни?
Два часа спустя я была на десятой странице и сумела понять только каждое пятое слово. Я читала и перечитывала вслух вот эту фразу: «В сиротах больше детского, чем во всех остальных детях, они привержены тому, что происходит ежедневно, в одно и то же время. Для них очень важно все, что обещает продолжиться, они и жаждут устойчивости». «Жаждут». Что значит это слово? Я купила словарь и научилась им пользоваться.
До сих пор я хорошо знала только слова песен, написанных внутри конвертов пластинок на 33 оборота. Я слушала музыку, пытаясь одновременно читать, но ничего не получалось.
Я впервые почувствовала, как шевельнулась Леонина, когда предавалась размышлениям о покупке словаря. Должно быть, ее разбудили произнесенные вслух слова. Я восприняла медленные движения моей дочки, как побуждение к действию.
На следующий день мы переехали в Мальгранж-сюр-Нанси и стали стрелочниками. Но перед этим я вышла купить словарь, нашла слово «жаждать» и узнала, что оно означает.
Жаждать – страстно, ненасытно, жадно чего-то желать.
20
Если жизнь – это переход, мы сохраним в памяти твой образ.
Я стираю тряпкой пыль с кукольных коробок. Перекладываю «португалок» так, чтобы не видеть их глаз, похожих на черные булавочные головки.
До меня дошел слух, что из палисадников пропадают гномы… Может, сказать мадам Пинто, что куколок украли?
У меня за спиной о чем-то оживленно беседуют отец Седрик и Ноно. Говорит в основном Ноно. Элвис сидит у кухонного окна, смотрит на проходящих мимо людей и тихонько напевает «Тутти Фрутти». Голос Ноно перекрывает музицирование.
– Я был маляром. Художником. Не таким, как Пикассо. Красил стены. Потом жена оставила меня с тремя малышами… а еще я лишился работы. Из-за экономического спада. В 1982-м город нанял меня на должность могильщика.
– Сколько лет было детям? – спрашивает отец Седрик.
– Не так чтобы много. Старшим – семь и пять, меньшему – шесть месяцев. Я воспитывал их сам. Потом у меня появилась девушка… Я родился недалеко отсюда, в одном из домов, что стоят рядом с твоей церковью. В те времена акушерок звали, когда пациенткам приходил срок рожать. А ты где родился, господин кюре?
– В Бретани.
– Там вечно идет дождь.
– Может, и так, но детки все равно появляются на свет. Мой отец был военным, и мы скоро переехали. Его то и дело переводили.
– Значит, военный заделал кюре… Гм, гм, редкий случай.
Смех отца Седрика отражается от стен. Элвис все мурлычет и мурлычет. Он дни напролет поет песни о любви, но сам, насколько мне известно, романов никогда не заводил.
Ноно зовет: «Виолетта! Оставь своих кукол, кто-то стучит!»
Я бросаю тряпку на лестницу и иду открывать посетителю, который наверняка ищет могилу.
На пороге стоит комиссар. Он впервые пришел со стороны улицы. Без урны. Прическа со времени нашей последней встречи не стала аккуратнее. От него все так же пахнет корицей и ванилью. Глаза блестят, как будто он плакал, но дело наверняка в усталости. Он застенчиво улыбается. Элвис закрывает окно, и скрип рамы заглушает мое ответное приветствие.
Комиссар замечает сидящих за столом Ноно и отца Седрика. Он спрашивает: «Я помешал? Могу зайти позже…» Я отвечаю: «Не стоит, через два часа у нас похороны, и я буду занята».
Он кивает и входит. Здоровается за руку с Ноно, Элвисом и священником.
– Знакомьтесь, – говорю я, – это Норбер и Элвис, мои коллеги, и наш кюре Седрик Дюрас.
Полицейский представляется, и я впервые слышу его имя и фамилию: Жюльен Сёль. Трое моих приближенных встают, и Ноно кричит: «До скорого, Виолетта!»
Я называю себя: «Меня зовут Виолетта. Виолетта Туссен».
– Я знаю… – отвечает комиссар.
– Но как?..
– Сначала я думал, что Туссен – прозвище. Шутка.
– Шутка?
– Согласитесь, Туссен – нетривиальная фамилия для смотрительницы кладбища.
– Вообще-то, моя фамилия – Трене. Я – Виолетта Трене.
– Трене идет вам больше.
– Туссен… Это была фамилия моего мужа.
– Почему «была»?
– Он исчез. Просто взял и испарился. Ну, не как джинн, конечно. Просто одна из его отлучек затянулась.
– Мне это известно.
– Откуда?
– У мадам Бреан не только красные ставни на окнах, но и длинный язык.
Я иду мыть руки. Выдавливаю на ладони несколько капель жидкого мыла с запахом розы. У меня все пахнет пудровой розой: свечи, духи, белье, чай, бисквиты, которые я люблю макать в кофе. Вытерев руки, я мажу их кремом с ароматом роз. Я много вожусь в земле, ухаживаю за цветами, так что приходится защищать пальцы. Ногти я перестала грызть тысячу лет назад, и руки у меня теперь красивые.
Жюльен Сёль оглядывает белые стены, вид у него озадаченный. Элиана сидит рядом, и он ее гладит.
Я наливаю гостю чашку кофе, пытаясь угадать, что ему наговорила мадам Бреан.
– Я написал речь для матери.
Комиссар достает из внутреннего кармана конверт и прислоняет его к копилке.
– Вы проехали четыреста километров, чтобы привезти мне речь? Могли послать по почте.
– Я здесь по другой причине.
– Захватили с собой урну?
– Нет.
Он делает паузу. Ему не по себе.
– Можно покурить в окно?
– Да.
Комиссар вынимает из кармана мятую пачку легких сигарет, достает одну и говорит:
– Есть кое-что другое.
Он идет к окну, приоткрывает створку. Чиркает спичкой, затягивается, выпускает дым.
– Я знаю, где ваш муж…
– Что, простите?
Затушив сигарету об отлив окна, он сует окурок в карман, поворачивается ко мне и повторяет:
– Я знаю, где ваш муж.
– Какой муж?
Мне плохо. Я не хочу понимать, что говорит этот человек. У меня такое чувство, что он без спроса вломился в мою спальню, выдвинул все ящики, роется в вещах, а я не могу ему помешать.
Жюльен опускает глаза и вздыхает:
– Филипп Туссен… я знаю, где он.
21
Ночь никогда не бывает непроглядно темной, в конце дороги всегда найдется открытое окно.
Единственные призраки, в которых я верю, – это воспоминания. Реальные и воображаемые. Для меня сущности, привидения, духи, короче, все сверхъестественное – исключительное порождение мозга живых.
Некоторые люди искренне верят, что могут общаться с ушедшими, но я считаю, что мы умираем раз и навсегда. Мы думаем о них – и они возвращаются, говорят нашими голосами, а если «показываются», то как голограмма, сделанная на 3D-принтере.
Тоска, боль, неприятие случившегося способны оживить и дать нам почувствовать из ряда вон выходящие вещи. Человек уходит навсегда, но живет в душах оставшихся. А душа даже одного-единственного человека шире вселенной.
Сначала я думала, что труднее всего будет научиться ездить на одноколесном велосипеде. Но я ошибалась. Побороть страх – вот что оказалось самой сложной задачей. Оседлать его в ночь вылазки. Замедлить сердечный ритм. Не трястись. Не сдрейфить. Закрыть глаза – и вперед! Я должна была ликвидировать проблему. Иначе это никогда не прекратится.
Я все испробовала. Уговаривала, стыдила, пугала. Перестала спать. Думала об одном – как от них избавиться.
Велосипеды бывают одно- и двухколесные, разница невелика, все дело в умении сохранять равновесие. Тренироваться на гравии аллей можно было только по ночам – никто не должен был увидеть охранницу верхом на велике! Итак… Я много дней с наступлением темноты ездила мимо могил, не забыв запереть ворота кладбища. Училась тормозить и ускоряться, чтобы в решающий день не сверзиться на землю.
Потом я долго и нудно шила саван, традиционный наряд покойников. На него пошли метры белых тканей – муслина, шелка, хлопка и тюля. Я старалась придать одеянию правдоподобный и одновременно сюрреалистичный вид и хихикала, называя «вещь» платьем новобрачной.
Когда мы с Филиппом Туссеном расписывались, на мне белого платья не было.
Я уверена, что человек рано или поздно обретает способность смеяться над чем угодно. В крайнем случае – улыбаться.
Покончив с шитьем, я выстирала свой карнавальный саван в машине холодным раствором соды, чтобы он флуоресцировал. К подкладке прикрепила куски засвеченной фотопленки (призна́юсь, что стащила ее из машины агентов дорожной службы – грешна, раскаиваюсь). Пленка бликует, если предварительно засветить ее на солнце или под лампой.
Требовалось спрятать лицо и волосы, и я приспособила один из черных беретов Ноно, сделав прорези для глаз. А под низ надела фату. Один из сотрудников похоронного бюро подарил мне фонарик в виде ангела, который давал достаточно света и был очень легким. Его я зажала между губами. Образ был завершен, я посмотрела в зеркало – и испугалась. По-настоящему. Я напоминала героиню одного из «ужастиков», которые молодые вандалы смотрели на могиле Дианы де Виньрон в ту ночь, когда я напугала их свистом и они позорно сбежали, бросив компьютер. Принарядившись – длинное белое платье, лицо скрыто фатой, тело блестит, как снег под фарами, рот то начинает светиться, то становится черной дырой, – я кого угодно могла довести до сердечного приступа в соответствующем контексте, а именно на кладбище, где любой шорох или самый тихий хруст ветки кажется хрипом адской твари.
Недоставало одного – звукового сопровождения. Я отсмеялась и задумалась. Ночью на кладбище пугают разные звуки: стоны, рыдания, скрип, завывание ветра, шаги, музыка, проигранная с протяжкой. Я выбрала карманный транзистор и прикрепила его к велосипеду. Настрою и в нужный момент включу.
Около десяти вечера я спряталась в одном из склепов и затаилась.
Долго ждать не пришлось. Сначала я услышала их голоса, потом шаги. Они прошли над восточной стеной кладбища. Пять человек. Три парня и две девушки. Состав компании часто менялся.
Я дала им время расположиться со всеми удобствами, открыть банки пива, взять цветочные горшки в качестве пепельниц. Гуляки растянулись на могиле мадам Седилло. С этой милой женщиной я много общалась, когда она приходила убирать могилу дочери. То, что они развалились на матери и дочери, возмутило меня и придало сил.
Я оседлала велосипед, правильно распределила складки платья. Благодаря пленке, два часа мариновавшейся под галогеновой лампой, меня было видно издалека. Я резко толкнула дверь, она противно скрипнула, и голоса затихли. Я находилась в нескольких сотнях метров от злоумышленников и начала медленно крутить педали, чтобы создалось впечатление, будто нечто плывет по воздуху.
Очень скоро один из парней увидел меня. Я ужасно боялась, ладони вспотели, ноги стали ватными, лицо горело. Юнец открывал и закрывал рот, но не мог произнести ни звука, лицо выражало ужас и изумление. Девица с сигаретой в зубах издала пронзительный вопль, и у меня сразу пересохло во рту. Остальные вскочили на ноги. Никто не смеялся.
Несколько мгновений – не дольше – все смотрели в мою сторону. Я остановилась метрах в двухстах от могилы, сжала губы, и фонарик выбросил луч света, раскинула руки крестом и очень быстро покатила вперед.
Моя память запечатлела действо в замедленном темпе, так что я могу воспроизвести его покадрово.
Я понимала: если меня раскроют, пощады не будет. Но они не включили мозги и рванули с места, как спринтеры, и кричали так громко, что можно было оглохнуть. Двое решили укрыться в глубине кладбища.
Я решила преследовать троицу. Один запнулся за корень, упал, но тут же вскочил и побежал дальше.
Не понимаю, как им удалось перепрыгнуть решетку высотой в три с половиной метра. Наверное, правы ученые, утверждающие, что страх, то есть адреналин, окрыляет.
Больше мы не встречались. Мне донесли, что они рассказывают всем и каждому историю об ужасном призраке. Я собрала окурки и пустые банки. Вымыла могилу мадам Седилло теплой водой.
Я никак не засыпала, все хихикала и хихикала, закрывала глаза и видела болванов, улепетывающих, как кролики.
Утром следующего дня я спрятала велосипед и платье на чердаке. Наряд поблагодарила и уложила в чемодан, чтобы изредка доставать и вспоминать это приключение.
22
Маленький цветок жизни.
Твой аромат вечен, пусть даже человечество слишком рано сорвало тебя.
– Филипп Туссен мертв. Единственная разница между ним и усопшими этого кладбища заключается в том, что на их могилах я иногда предаюсь размышлениям.
– Филипп Туссен есть в телефонном справочнике. Вернее, название его гаража.
– Гаража?
– Я думал, что вы искали его и захотите узнать…
Я онемела.
Я не искала Филиппа, хотя долго ждала, но это не одно и то же.
– Я обнаружил движение денег на банковском счете мсье Туссена.
– На банковском счете…
– Текущий счет опустошили в 1998-м. Я предположил мошенничество, кражу личности, решил проверить и выяснил, что владелец счета – ваш муж – сам снял все деньги.
Мне кажется, что мое тело покрывается коркой льда. Каждый раз, когда комиссар произносит это имя, мне хочется заорать: «Да замолчите же вы наконец!» Лучше бы этот полицейский никогда не переступал порог моего дома…
– Ваш муж не исчез. Он живет в ста километрах отсюда.
– В ста километрах…
А ведь день так хорошо начался – с Ноно, отца Седрика и Элвиса, напевающего у окна. Радужное настроение, аромат кофе, мужской смех, мои уродливые куклы, пыль, которую нужно вытереть, тряпка, духота на лестнице…
– Не понимаю, зачем вы искали Филиппа Туссена.
– Когда мадам Бреан рассказала о его исчезновении, мне захотелось вам помочь.
– Мсье Сёль, если дверь какого-то шкафа закрыта на ключ, значит, хозяйка бережет содержимое от посторонних глаз.
23
Если жизнь – всего лишь переход, давайте украсим его цветами.
Мы оказались на переезде в Мальгранж-сюр-Нанси в конце весны 1986 года. Весной нам кажется, что все возможно, весна – это свет и обещания. Схватку между зимой и летом выиграет, конечно же, лето, несмотря на крапленые карты и дождь.
«Воспитанницы детских домов довольствуются малым». Мне было семь лет, когда учительница сказала эту фразу моей третьей приемной матери, нимало не озаботясь тем, что я стою рядом. Она, видимо, считала, что я стала невидимкой из-за того, что родная мать отказалась от меня сразу после рождения. И, кстати, «мало» – это сколько?
Тогда, в 1986-м, я считала себя богачкой, была молода, хотела научиться читать, чтобы одолеть «Правила виноделов», осилила словарь, в животе ворочался ребенок, имела дом, работу и семью – первую в жизни настоящую семью, мою собственную семью. Несуразную, неустойчивую, но все-таки семью. С самого рождения из всего имущества у меня были улыбка, немножко шмоток, кукла Каролина, пластинки Этьена Дао, группы «Индокитай», Шарля Трене и комиксы о Тинтине. В восемнадцать лет я получила легальную работу, счет в банке и собственный ключ – мой, только мой. Ключ, к которому я прикреплю кучу брелоков, чтобы они гремели и напоминали: «У тебя есть ключ!»
Наш дом был квадратным. С черепичной, поросшей мхом крышей – такие часто рисуют дети в яслях. По бокам цвели две форзиции, похожие на золотистые кудри, обрамляющие наше белое жилище с красными ставнями на окнах. Изгородь из плетистых красных роз, готовящихся расцвести, отделяла заднюю часть дома от линии железной дороги. Главная дорога, пересеченная рельсами, изгибалась в двух метрах от крыльца со стареньким половиком.
Чета смотрителей, мсье и мадам Лестрий, покидали свой пост через два дня и должны были успеть подготовить смену – нас с Филиппом: объяснить, как поднимать и опускать шлагбаум.
Они оставляли нам старомодную мебель, потертый линолеум и почерневшие обмылки. Судя по выгоревшим прямоугольникам на обоях в цветочек, рамки с фотографиями они решили взять с собой. У кухонного окна одиноко висела вышитая крестиком «Джоконда».
На грязной кухне стояла старая трехконфорочная плита, шкафчики блистательно отсутствовали. Открыв крошечный холодильник, я нашла на полке кусок пожелтевшего масла в мятой пергаментной упаковке.
Место выглядело обветшалым, но я видела, во что сумею его превратить с помощью кисти и красок. Меня ни на секунду не смутили вздувшиеся обои, наклеенные еще до войны. Я все переделаю, в первую очередь – этажерки, чтобы было где расставить посуду. Филипп шепнул мне на ухо, что сменит все обои, как только за супругами закроется дверь.
Они снабдили нас списком телефонов всех спасательных служб – на случай блокировки шлагбаума.
– С тех пор как упразднили ручной труд, цепи, случается, замыкает – по многу раз в год, – добавил старик.
Получили мы в наследство и расписания движения поездов. Летнее и зимнее. «В праздничные дни, выходные и во время забастовок поезда ходят реже, имейте это в виду», – наставляла мадам Лестрий.
Предшественники надеялись, что нас заранее предупредили: расписание сложное, ритм работы утомительный, одному человеку справиться не под силу.
Ах да, чуть не забыли главное: с момента звукового сигнала до «поцелуя» поезда со шлагбаумом проходит ровно три минуты.
Три минуты на то, чтобы подойти к пульту и нажать на кнопку, которая активирует шлагбаум и блокирует движение.
После прохождения состава инструкция предписывает сделать минутную паузу и только после этого дать команду на поднятие шлагбаума.
Надевая пальто, мсье Лестрий говорит:
– За одним поездом может быть скрыт другой – теоретически, но мы за тридцать лет ни разу такого не видели.
Мадам Лестрий оборачивается с порога, чтобы сделать последнее предупреждение:
– Берегитесь пьяных водителей и придурков-лихачей – кто-нибудь вечно пытается проскочить, когда шлагбаум уже перегородил дорогу.
Свежеиспеченные пенсионеры пожелали нам удачи, и мсье Лестрий произнес со всей возможной серьезностью:
– Ну что же, вот и пришел наш черед сесть в поезд…
Больше мы их не видели.
Филипп Туссен вошел в дом, но и не подумал взяться за уборку, не начал сдирать старые обои. Он обнял меня и сказал:
– Ох, Виолетта, до чего же хорошо мы тут заживем, когда ты все обустроишь!
Не знаю, книга ли Ирвинга, за которую я взялась накануне, или купленный тем утром словарь придал мне сил, но я впервые решилась попросить у него денег. Полтора года мою зарплату переводили на его счет, а я выходила из положения, тратя чаевые официантки, но теперь у меня в кармане не осталось ни су.
Филипп расщедрился на тридцать франков, хотя расставался с ними до ужаса неохотно. Я никогда не имела доступа к бумажнику мужчины, с которым жила. Он каждое утро пересчитывал банкноты – проверял, все ли деньги на месте. И всякий раз терял частицу меня. Любви, из которой я состояла.
В понимании Филиппа Туссена ситуация выглядела очень просто: он подобрал в ночном клубе потеряшку, и она зарабатывала деньги, работая официанткой, за «стол и крышу над головой». Кроме того, я была молода и красива, сговорчива, достаточно хорошо воспитана и бесстрашна. А еще я притягивала Филиппа физически. Испорченной частью своего мозга Филипп сразу понял, как сильно я боюсь быть брошенной и потому никогда сама не оставлю его. Теперь я ждала от него ребенка и всегда находилась в пределах досягаемости.
До ближайшего поезда оставался час с четвертью. Я взяла свои тридцать франков, пошла в «Казино» и купила ведро, половую тряпку, губки и чистящие средства, выбрав все самое дешевое. В восемнадцать лет я ничего не понимала в хозтоварах, обычно в этом возрасте люди покупают пластинки. Я представилась кассирше:
– Здравствуйте, меня зовут Виолетта Трене, я новая смотрительница переезда. Заменила мсье и мадам Лестрий.
Кассирша – ее звали Стефани – слов не услышала, потому что смотрела на мой округлившийся живот. Она спросила:
– Вы – дочь новых смотрителей?
– Нет, я ничья дочь. Я сама новая смотрительница.
У Стефани все было круглым – тело, лицо, глаза, ее как будто нарисовал художник-мультипликатор, этакую бесхитростную героиню, наивную, милую, с выражением вечного удивления на лице и вытаращенными глазами.
– А сколько же вам лет?
– Восемнадцать.
– Понятно… Значит, мы будем часто встречаться.
– Конечно. До свидания.
Я начала с того, что вымыла и вычистила все этажерки и стеллажи в комнате и разложила нашу одежду.
Под грязным ковролином обнаружилась плитка, я решила, что такой пол нравится мне больше, и уже прикидывала, как бы стянуть его и вынести на улицу, но тут раздался предупреждающий сигнал: скоро, в 15.06, пройдет поезд.
Я выбежала из дома. Нажала на красную кнопку, чтобы опустить шлагбаум, и облегченно вздохнула, увидев, что все получилось. Подъехавшая машина остановилась. Она была длинная и белая, водитель кинул на меня недовольный взгляд, как будто это я составляла расписание движения французских поездов. Состав прошел. Рельсы загудели. В вагонах сидели «субботние» пассажиры. Компании девушек собирались провести послеобеденное время в Нанси – походить по магазинам, пофлиртовать.
Я подумала: «Возможно, они тоже из интернатских, тех, кто довольствуется малым…» Я улыбалась, нажимая на зеленую кнопку, чтобы поднять шлагбаум: у меня была работа, ключи от собственного дома, который требовалось перекрасить, ребенок в животе, ленивый мужчина (не забывший отобрать у меня сдачу), словарь, музыка и книга Джона Ирвинга.
24
Следует научиться дарить свое отсутствие тем, кто не понял всей важности вашего присутствия.
Смерть не держит паузу. Не берет отпуск, не уезжает на все лето на каникулы, у нее нет выходных, она не может отпроситься с работы ради визита к дантисту. Смерть плевать хотела на «окна» в расписании, повальный отъезд, Дорогу солнца, тридцать пять часов[26], оплаченные отпуска, Рождество и Новый год, счастье, молодость, беззаботность, хорошую погоду. Она вездесуща. Вообще-то, никто не думает о смерти все время, иначе на свете жили бы одни безумцы. Смерть подобна домашнему псу, который не отходит от вас, выклянчивая ласку, но на четвероногого друга обращают внимание, только если случается невероятное – он кусает за руку хозяина или – не приведи господь! – одного из его близких.
На моем кладбище есть кенотаф. На участке «Кедры», аллея 3. Кенотаф – погребальное сооружение, возведенное над пустотой. Она оставлена любимым усопшим, исчезнувшим в море, в горах, при крушении самолета, землетрясении или потопе. Живому человеку, который словно бы испарился, но его смерть считается установленным фактом. На старинном брансьонском кенотафе нет таблички, и я долго не знала, чью память он увековечил. И вот вчера Жак Луччини наконец просветил меня: кенотаф установили в 1967 году, в честь молодой пары, погибшей в горах. «Они совершали восхождение и сорвались в пропасть».
Я часто слышу, как люди говорят: «Нет ничего страшнее потери ребенка». Но так считают не все. Многие уверены, что неизвестность гораздо хуже. Ужаснее могилы может быть только лицо пропавшего человека, растиражированное на листовках и глядящее со столбов и стен, из витрин магазинов, со страниц газет и экранов телевизоров. Стареют фотографии, но не запечатленные лица.
Мы скорбим, провожая любимых людей в последний путь, но остаемся жить. Похороны пустого гроба, выпускание воздушных шариков, молчаливая процессия наводят ужас.
Тридцать лет назад в нескольких километрах от Брансьона исчез ребенок. Его мать Камилла Лафоре приходит на кладбище каждую неделю. Мэрия в исключительном порядке выделила ей место и разрешила написать на памятнике имя пропавшего сына: Дени Лафоре. Никаких доказательств, что Дени мертв, нет. Ему было одиннадцать лет, когда он в буквальном смысле испарился между коллежем и остановкой автобуса на противоположной стороне улицы. Дени вышел из здания на час раньше товарищей. Больше его никто не видел. Мать повсюду его искала. Полиция тоже. Каждой семье было знакомо лицо Дени. Он – «пропавший 1985 года».
Камилла Лафоре часто говорит мне, что пустая могила сына спасла ей жизнь. Имя на мраморной доске удерживало ее между возможным и невозможным – мыслью о том, что мальчик жив, что он страдает в одиночестве в каком-то неизвестном месте. Каждый раз, открывая мою дверь и присаживаясь к столу, чтобы выпить кофе, она спрашивает: «Как поживаете, Виолетта?» И добавляет: «Есть кое-что похуже смерти. Исчезновение».
А вот я привыкла к исчезновению Филиппа Туссена. И ничего не хочу знать.
Я открываю конверт, где лежит страничка текста, который Жюльен Сёль написал для матери. Он прочитает речь, когда наконец решится привезти урну с прахом на мое кладбище. Будь она неладна, встреча Ирен Файоль и Габриэля Прюдана! Не случись этого, Жюльен Сёль никогда бы не встретился со мной.
Ирен Файоль была моей матерью. От нее всегда хорошо пахло. Духами «L’Heure bleue».
Мама родилась в Марселе 27 апреля 1941 года, но южного акцента у нее не было. Она была сдержанной, дистантной, немногословной. Всегда предпочитала жаре холод и хмурое небо. Внешне мама не напоминала уроженку Средиземноморья: бледная кожа, веснушки и светлые волосы делали ее похожей скорее на норвежку.
Мама любила бежевый цвет. Она не носила яркую одежду и никогда не ходила без чулок. На единственном снимке, сделанном еще до моего рождения, на каникулах в Швеции, она запечатлена в желтом платье. Когда я смотрю на нее, в голову всегда приходит одна и та же мысль: «Это какая-то ошибка. Наверное, мама отвлеклась на что-то другое, когда покупала эту вещь…»
Она любила всякие английские чаи. Любила снег. Снимала его. В семейных альбомах все фотографии сделаны под снегом.
Она редко улыбалась. Часто задумывалась.
Выйдя замуж, мама стала мадам Сёль, но фамилию не поменяла. Почему? Я могу только догадываться.
Я ее единственный ребенок. Я долго спрашивал себя, почему родители не хотели больше «воспроизводиться» – из-за меня или виновата фамилия отца?[27]
Сначала мама работала парикмахершей, потом занялась цветоводством. Она вывела несколько сортов морозоустойчивых роз. Похожих на нее саму.
Помню, как-то раз мама сказала, что ей нравится продавать цветы, даже если их покупают для украшения могил. Мол, роза – это роза, что на свадьбе, что на похоронах. У всех флористов в витринах магазинов выставлена табличка: «Бракосочетания и траур». Одно без другого немыслимо.
Не знаю, думала ли она о незнакомце, с которым захотела разделить вечный покой.
Но я уважаю ее выбор, как она всегда уважала мои решения.
Покойся с миром, дорогая мама.
25
Любовь матери – сокровище, которое Господь дает человеку раз в жизни.
Леонина появилась на свет, дождавшись, когда я перекрашу стены.
В ночь со 2 на 3 сентября 1986 года меня разбудила первая схватка. Филипп Туссен спал рядом. Моя дочь выбрала хорошую ночь, чтобы прийти в этот мир: была суббота, девятичасовой поезд уже прошел, утренний ожидался в 07.10. У Филиппа было четыре часа, чтобы отвези меня в роддом и вернуться на пост, к шлагбауму.
Леонина родилась в полдень, и отцу не удалось услышать ее первый крик.
Мою душу затопили волны любви и ужаса: теперь я ответственна за жизнь, куда более ценную, чем моя. Я смотрела на Леонину, и у меня перехватывало дыхание, по телу пробегала дрожь, зубы выбивали дробь.
Моя девочка напоминала маленькую старушку. На несколько секунд я почувствовала себя ребенком, а ее – праматерью рода.
Она лежит у меня на животе, тянется губами к соску. Я поддерживаю ее маленькую головку ладонью под затылок. Родничок, черные волосики, зеленая слизь на теле, рот сердечком – землетрясение, и это еще слабо сказано!
С появлением Леонины моя молодость разбилась вдребезги, как фарфоровая ваза о кафельный пол. Ребенок похоронил мою беззаботность. За несколько минут я перешла от смеха к слезам, от солнечной погоды – к дождливой, уподобилась капризному мартовскому небу, которое то обрушивается на землю проливным дождем, то проясняется. Все мои чувства проснулись и обострились, как у слепца.
Всю жизнь при взгляде в зеркало я спрашивала себя, на кого из родителей похожа. Леонина посмотрела на меня своими огромными глазами, и я подумала: «Она похожа на небо, на Вселенную, на легендарное чудовище, моя дочь – уродина и красавица, неистовая и смиренная, близкая и чужая, чудо и яд в одном существе». Я заговорила с ней легко и просто. Как если бы мы продолжили начатую давным-давно неспешную беседу.
Я сказала: «Добро пожаловать, милая!» Я гладила ее, ласкала, пожирала взглядом, вдыхала нежный запах, исследовала каждый сантиметр кожи.
Медсестра забрала Леонину, чтобы взвесить, измерить, помыть, и я сжала кулаки, почувствовав себя маленькой, безоружной и никудышной, и позвала маму. Нет, я не впала в горячку, но все-таки позвала женщину, которую никогда не знала.
Перед глазами мгновенно пронеслось детство. Как мне уберечь Леонину от бед и невзгод, выпавших на мою долю? А вдруг ее у меня отнимут? Как только Лео появилась, я раз и навсегда смертельно испугалась. Что, если мы разлучимся или она покинет меня? Пусть уж лучше исчезнет сейчас и вернется, когда я повзрослею.
Филипп Туссен пришел навестить нас между 15.07 и 18.09. Я его разочаровала. Он хотел сына. Он не промолвил ни слова. Он взглянул на нас. Он улыбнулся. Он поцеловал меня в голову. Он взял Леонину и показался мне невыносимо прекрасным. Я попросила: «Не оставляй нас. Никогда…» – «Конечно…» – пообещал он.
Потом случилось второе землетрясение. Лео было два дня. Я покормила ее. Положила на сдвинутые колени, и маленькие ступни уперлись в мой живот. Ручками она крепко держалась за мой указательный палец. Я смотрела на ее лицо и искала прошлое, словно надеялась разглядеть черты своих родителей. Акушерки шутили: «Смотрите не прожгите в малышке дырку!» Лео смотрела на меня, я что-то рассказывала – не помню, что. Говорят, младенцы улыбаются только ангелам. Уж не знаю, какое существо с крыльями она сквозь меня разглядела, но взгляд зафиксировала и… улыбнулась.
Накануне выписки явились расфуфыренные родители Филиппа. Она – с золотыми кольцами на пальцах, он – в баснословно дорогих мокасинах с помпончиками. Папаша Туссен поинтересовался, собираюсь ли я крестить «ребенка», его жена вынула спящую Леонину из прозрачной колыбельки, не спросив разрешения, как будто девочка принадлежала ей. Мадам Туссен держала внучку на руках неестественно неловко. Я не могла видеть родничок, прижатый к блузке, чуть не захлебнулась ненавистью и больно ущипнула себя за щеку, чтобы не разреветься.
В тот день я поняла: отныне Виолетта Трене – непробиваемая, у нее появился иммунитет против хищников, и все, что касается дочери, касается и ее.
Мать Филиппа укачивала Лео и почему-то называла ее Катрин. «Мою дочь зовут Леонина…» – поправила я. «Катрин гораздо красивее…» – ответила она. Папаша Туссен счел нужным вмешаться: «Это уж слишком, Шанталь…» Так я узнала имя матери Филиппа…
Лео захныкала – от старухи пахло слишком крепкими духами, у нее были скрюченные, как у ведьмы, пальцы и шершавая кожа. Я сказала: «Дайте мне Леонину». Она поступила по-своему – положила вопящую девочку в кроватку.
А потом мы вернулись в «дом поездов» – такое название даст ему Леонина, когда подрастет. Я взяла дочь в постель, прижала к себе. Филипп спал на правой стороне кровати, Леонина – на левой, я – между ними. Первые два месяца я расставалась с дочерью только для того, чтобы открыть или закрыть шлагбаум, переодевала ее под одеялом, топила комнату жарко-жарко, чтобы купать малышку каждый день.
Зимой пришлось надевать на Лео вязаную шапочку, шарфик и накрывать ее одеялком, вывозя в коляске на прогулку. Первые зубки, первый осознанный смех, первый отит. Прогулки между двумя поездами. Люди наклонялись взглянуть, говорили: «Она похожа на вас…» – а я отвечала: «Нет, моя дочь похожа на своего отца…»
Потом пришла первая весна, плед, расстеленный на траве между домом и рельсами, в тенечке. Вокруг разбросаны игрушки. Лео уже хорошо сидит, тянет в рот все, что видит, улыбается, шлагбаум поднимается и опускается, Филипп Туссен каждый день уезжает на мотоцикле, но к ужину возвращается. А потом снова уматывает. Лео его очень забавляет – но не дольше десяти минут.
Я хорошо справлялась с ролью матери, несмотря на юный возраст, умела слушать, знала, как прикоснуться, говорила нежные слова. Со временем страх потерять дочь притупился. Я в конце концов поняла, что для расставания нет никаких причин.
26
Ничто не противится ночи, но ей нет оправданий.
- Раз за ветрами нету горы
- Раз забвения тень одолела
- Раз понять невозможно
- Раз мечтать бесполезно
- То приходится жить «так уж вышло»
- Потому что понятно
- Потому что известно
- Вот уж отдано все, а фортуне все мало
- Раз на свете есть место, где цветет ее сердце
- Раз мы любим так нежно, что держать и не надо…
- Потому ты уходишь…[28]
Именно эту песню чаще всего исполняют на похоронах. В церкви и на кладбище.
Чего я только не слышала за двадцать лет. От «Аве Мария» до «Жажды желать» Джонни Холлидея. Помню, родственники одного усопшего заказали песенку в исполнении американской порноактрисы Пайпер Перри, так им любимой. Пьер Луччини и наш прежний кюре резко им отказали. Пьер объяснил, что не может выполнять все последние желания – ни в доме Господа, ни в Саду душ (так он называет мое кладбище). Семья была раздосадована, что им попался гробовщик без чувства юмора, рьяно блюдущий похоронный ритуал.
Один посетитель регулярно оставляет на могиле включенный плеер, но звук приглушает, как будто не хочет беспокоить соседей.
Есть дама, которая приносит на могилу мужа маленький транзистор – чтобы он «был в курсе событий», а очень юная девушка надевает наушники на крест, чтобы похороненный под ним лицеист слушал последний альбом Coldplay.[29]
Некоторые люди празднуют на кладбище дни рождения усопших, приносят цветы и оживляют обстановку музыкой из мобильника.
Каждый год, 25 июня, женщина по имени Оливия приходит петь для человека, чей прах был развеян в Саду воспоминаний. Она появляется точно к открытию, пьет на моей кухне чай без сахара и молча удаляется. Иногда я удостаиваюсь замечания о погоде. В 09.10 она идет на кладбище – одна, потому что прекрасно знает дорогу. Если на улице солнечно и в доме открыты окна, ее голос доносится до меня. Она всегда поет одно и то же – Blue Room[30] Чета Бейкера: We’ll have a blue room, a new room for two, room where ev’ry day’s a holiday because you’re married to me…[31]
Она не торопится. Поет громко, но медленно, растягивает удовольствие, после каждого куплета выдерживает долгую паузу, словно кто-то ей отвечает, откликается эхом, потом несколько минут сидит на земле.
В июне прошлого года пришлось дать ей зонт – с неба лило так, словно начался второй потоп. Она совершила привычный ритуал и на обратном пути заглянула, чтобы вернуть его и поблагодарить. Я похвалила ее голос и спросила: «Вы певица?» Она сняла пальто. Села рядом. И начала рассказывать обо всем так подробно, как если бы услышала от меня кучу вопросов, хотя за двадцать лет знакомства я позволила себе один-единственный.
Ее друга звали Франсуа. Они встретились, когда она училась в Маконе. Была лицеисткой. А он преподавал там французский. Она влюбилась сразу, на первой же лекции. Потеряла аппетит. Жила, чтобы видеть его. Каникулы стали катастрофой. Сидела она всегда в первом ряду, занималась только французским и стала лучшей ученицей, заново открыв для себя родной язык. Получила высший балл за сочинение на тему «Любовь – обман?». На десяти страницах уместилась история любви преподавателя к студентке. Любовь, которую он отрицает, отталкивает от себя, не приемлет. Оливия придумала детективную историю, а себя вывела преступницей, изменила фамилии действующих лиц (своих соучеников) и перенесла место действия в английский колледж.
– Почему 19, мсье? Почему не 20? – с вызовом спросила она, получив проверенную работу.
– Потому что совершенства не существует, мадемуазель… – ответил он.
– А если так, зачем существует высший балл?
– Его ставят математикам за решение задач. Во французском языке, как учебном предмете, очень мало безупречных вариантов.
Он сделал приписку красной ручкой – неразборчивым почерком, рядом с отметкой 19/20: «Превосходный прямой стиль. Вы сумели использовать ваше богатейшее воображение для создания безупречной литературной конструкции. Сюжет разработан блестяще. Легкость сочетается с юмором и серьезностью. Браво, мадемуазель, вы проявили зрелое мастерство!»
Она тысячу раз ловила на себе его взгляд, сгрызла чертову прорву колпачков от биковских ручек, слушая, как он объясняет классу эволюцию чувств Эммы Бовари.
Она свято верила, что эта любовь взаимна. И вот ведь какая странность – они были однофамильцами: Оливия Леруа и Франсуа Леруа.
За несколько дней до бакалаврского экзамена по французскому языку Оливия набралась смелости и сказала:
– Если мы поженимся, мсье Леруа, нам даже не придется менять документы.
Все расхохотались, а Франсуа покраснел.
Оливия получила 19 баллов за устный французский, 19 за письменный и написала Франсуа: «Мне не присудили 20 баллов, потому что вы все еще не нашли решения нашей проблемы».
Он попросил о встрече наедине. Долго молчал – она сочла это любовным смятением, а потом сказал:
– Оливия, брат и сестра не могут пожениться…
Она издала радостный смешок – он впервые назвал ее по имени, а не «мадемуазель», – и сразу онемела под напряженным взглядом Франсуа и никак не отреагировала, услышав, что у них общий отец. Франсуа родился от предыдущего брака, двадцать лет назад, в Ницце. Его родители прожили вместе два года и развелись, причем расставались трудно.
Много лет спустя Франсуа выяснил, что его отец снова женился и у него есть дочь, малышка Оливия.
Отец скрыл от второй семьи старшего сына, но Франсуа захотел увидеться, поговорить, а потом и вовсе переехал в Макон.
Придя в класс и знакомясь с ученицами по журналу, он назвал фамилию Леруа, подумал: «Совпадение…» – девочка подняла палец, выдохнула: «Здесь», и посмотрела ему в глаза. Франсуа испытал шок. Он узнал сестру – они были очень похожи. Она ничего не знала.
Сначала Оливия не поверила. Отец не мог так поступить! Зачем было прятать Франсуа? Эта история – отвлекающий маневр, учитель решил положить конец заигрываниям капризной девчонки. Поняв наконец, что он ее не обманывает, она бросила небрежным тоном:
– Не имеет значения, матери ведь у нас разные. Я люблю вас. По-настоящему.
Он ответил, пытаясь сдержать холодную ярость:
– Прекратите! Никогда больше не говорите ничего подобного!
Он вел занятия в выпускном классе, они встречались в лицее, и ей всякий раз хотелось броситься к нему в объятия. Не по-сестрински.
Франсуа пытался избегать ее. Не смотрел в глаза. Она бесилась, делала крюк по коридорам с одной-единственной целью – поздороваться с ним в полный голос:
– Здравствуйте, мсье Леруа!
Он робко отвечал:
– Добрый день, мадемуазель Леруа.
Оливия не решилась допрашивать отца, да это и не потребовалось: в день вручения дипломов она перехватила его взгляд в сторону Франсуа и ответную улыбку сводного брата. На глазах выступили слезы. Ей оставалось только забыть.
Потом был праздник. Выпускники и преподаватели по очереди выходили на сцену. Франсуа спел Blueroom а капелла, не уступив в страстности самому Чету Бейкеру.
Он пел для нее, и она поняла, что никогда не полюбит другого мужчину и что эта запретная любовь взаимна.
Она уехала. Училась, получила диплом преподавателя литературы, побывала в разных странах. Вышла замуж и сменила фамилию.
Прошло семь лет. Оливии исполнилось двадцать пять, и она вернулась, чтобы быть рядом с Франсуа. Однажды утром постучала в его дверь и сказала: «Теперь мы можем жить вместе, у меня другая фамилия. Мы не поженимся, не заведем ребенка, но никто нас не разлучит». Франсуа ответил: «Я согласен».
Они продолжали говорить друг другу «вы», как будто хотели соблюсти дистанцию, остаться в самом начале, на пороге первого свидания. Оливия и Франсуа прожили вместе двадцать лет – та же разница была у них в годах.
Оливия сделала глоток портвейна и закончила рассказ: «Родные отказались от нас, но мы не очень переживали. Наша семья состояла из него и меня. Когда Франсуа умер, мать кремировала его здесь, в своем родном городе, – как будто хотела наказать нас, а чтобы окончательно стереть память о нем, развеяла прах в Саду воспоминаний. Но Франсуа никогда не исчезнет, он всегда будет во мне, потому что был моей родной душой».
27
Догорающая заря орошает поля меланхолией заходящих солнц.
Как только родилась Леонина, я купила школьный учебник, чтобы заново научиться читать: День малышей. Метод Боше. Авторы – М. Боше, В. Боше, Ж. Шапрон, преподаватели, и М. Ж. Карре[32]. В конце беременности я случайно услышала по радио передачу об этом методе. Выступавшая преподавательница рассказала, что один из ее учеников дважды дублировал подготовительный курс по причине малограмотности. Что он пытался не читать, а догадываться. Говорил бог знает что, пользовался хорошей памятью, чтобы симулировать чтение, а на самом деле рассказывал заученное наизусть. Именно так я сама всегда и делала. Педагог применила к мальчику метод Боше, и через полгода он читал почти так же хорошо, как его одноклассники. Этот очень старый метод, полностью силлабический, исключал возможность схитрить, узнать или угадать слова и фразы.
Грудная Леонина лежала в коляске. А я часами читала ей вслух слова. Лео смотрела на меня широко открытыми глазками и не осуждала ни за медлительность, ни за запинки и повторы, ни за ошибки произнесения. Каждый день я повторяла одни и те же слоги, пока не добивалась идеальной легкости «исполнения».
Иллюстрации в книге были очень яркие, веселые и наивные. Моя дочь очень скоро начала хватать их своими маленькими пальчиками. А тетрадку заляпала всевозможными «субстанциями» – слюнками, шоколадом, томатным соусом. Она рвала странички. Мяла их. Даже грызла обложку.
В первые годы я прятала учебник. Не хотела, чтобы Филипп Туссен случайно его увидел. Даже мысль о том, что он узнает мою тайну, была совершенно невыносима. Я не могла допустить, чтобы подтвердилась правота его матери, презиравшей меня за происхождение.
Я доставала книгу, когда Филипп уматывал на мотоцикле, и Леонина издавала радостные крики – она знала, что сейчас начнется чтение. Мой голос успокаивал дочку. Рисунки она знала наизусть, но не уставала ими восхищаться. Маленькие девочки с золотистыми волосами в красных платьицах, куры, утки, новогодние елки. Зелень, цветы. Сцены повседневной жизни для малышей. Простецкие, но счастливые жизни.
Я положила себе три года на то, чтобы научиться читать бегло: когда Леонина пойдет в детский сад, я буду во всеоружии. Я добилась цели намного раньше: когда Лео задула свою первую деньрожденную свечу, я была уже на странице 60.
Благодаря методу Боше я перестала спотыкаться на словах. Мне очень хотелось связаться с женщиной, выступавшей на радио, и сказать, что она изменила мою жизнь. Я позвонила на RTL, объяснила оператору, что в августе 1986 года случайно включила радио и в передаче Фабриса услышала выступление учительницы младших классов, воспользовалась ее советом и жажду сказать «спасибо». К сожалению, точной даты я не помнила, и мне не помогли.
Учиться читать – все равно что учиться плавать. Освоил брасс, больше не боишься утонуть – и готов покорить не только бассейн, но и океан. Вопрос дыхания и тренировки.
Я очень быстро дошла до предпоследней страницы и прочла отрывок из сказки Андерсена «Ель», которую Леонина полюбила больше всех остальных текстов.
В лесу стояла чудесная елочка. Место у нее было хорошее, воздуха и света вдоволь; кругом же росли подруги постарше – и ели и сосны. Елочке очень хотелось поскорее вырасти. …Крестьянские дети присаживались под елочку отдохнуть и всегда говорили: «Вот славная елочка! Хорошенькая, маленькая!» Таких речей деревце и слушать не хотело.
«Ах, если бы я была такой же большой, как и другие деревья!» – вздыхала елочка. … «Да, расти, расти и поскорее сделаться большим старым деревом – что может быть лучше этого!» – думалось елочке. Каждую осень в лесу появлялись дровосеки и рубили самые большие деревья… Потом их укладывали на дровни и увозили из леса. Куда? Зачем?
…Один аист сказал: «Я встречал на море много новых кораблей с великолепными высокими мачтами»…
Незадолго до Рождества срубили несколько совсем молоденьких елок… Все деревца были прехорошенькие, их не очищали от ветвей, а прямо уложили на дровни и увезли из леса. «Куда?» – спросила ель.
…Подошло очередное Рождество, и елочку срубили первую… Явились двое разодетых слуг, взяли елку и внесли ее в огромный великолепный зал; повсюду были расставлены кресла-качалки… Явились слуги и молодые девушки и стали наряжать ее… «Как заблестит, засияет елка вечером, когда зажгутся свечи!» – сказали все.
А поутру ее вытащили из комнаты, поволокли по лестнице и сунули в самый темный угол чердака, куда даже не проникал дневной свет… И она прислонилась к стене и все думала, думала…
Она вспоминала счастливую молодость в лесах, веселую рождественскую ночь и вздыхала. «Все прошло, прошло! – сказало бедное дерево. – И хоть бы я радовалась, пока было время! А теперь все прошло!»[33]
Я купила настоящие детские книги и сотни раз читала и перечитывала их Леонине. Ни одной девочке на свете не рассказывали столько историй. Это стало нашим ежедневным ритуалом, моя дочь никогда не засыпала без истории. Даже днем она прибегала с книжкой в руках и лепетала: «История, история…» Я сажала ее на колени. Мы вместе открывали книгу. И Лео затихала, завороженная словами.
Я закрыла «Правила виноделов» на двадцать пятой странице и спрятала в ящик как обещание, а снова открыла, когда Леонине исполнилось два года. И больше не закрывала. Я и сегодня перечитываю Ирвинга несколько раз в году. Его герои стали моей приемной семьей. Доктор Уилбур Ларч – мой любимый отец. Приют Сент-Клауд в Мейне воображение превратило в дом моего детства. Сироту Гомера Уэлиса – в старшего брата, а нянек Эдну и Анджелу – в теток.
Такова королевская привилегия сироты. Он волен делать что хочет, в том числе выбирать себе родителей.
Роман Ирвинга «удочерил» меня. Не знаю, почему никто ни разу не сделал этого в реальной жизни и зачем соцработники переводили меня из одной опекунской семьи в другую. Неужели родная мать периодически давала знать, что никогда не откажется от родительских прав?
В 2003 году я поехала в Шарлевиль-Мезьер с твердым намерением узнать ее имя. Увы – папка с делом, как я и предполагала, оказалась пустой. Ни письма, ни памятной безделушки, ни фотографии. Ни слова «прости». Эту папку могла бы открыть и моя мать, если бы захотела. Я положила внутрь мой роман о воображаемом обретении семьи.
28
Нет такого одиночества, которое нельзя разделить.
Тем утром хоронили Виктора Бенжамена (1937–2017).
Без отца Седрика – так распорядился усопший. Жак Луччини установил аппаратуру рядом с могилой. Зазвучала песня Даниэля Гишара[34] «Мой старик»:
- В потертом стареньком пальто,
- Все в нем – зимой и летом,
- Он зябнуть по утрам привык…
- Знакомьтесь – мой старик.
Ни креста, ни цветов, ни венков – только таблички от друзей и коллег, жены и детей. Один из сыновей держал на поводке собаку, чтобы она тоже простилась с хозяином.
Даниэль Гишар все пел:
- Ту песню помнят все вокруг —
- Ты костерил хозяев тут!
- Крыл левых, правых, буржуа,
- Творца и то настиг – да, мой старик…
Пес сидел и, ни разу не заскулив, слушал до конца.
Когда церемония закончилась, родственники пошли к выходу. Пес Виктора следовал за ними, рядом бежала Элиана – ей явно понравился этот кобелек, но она вскоре вернулась в дом, к своей уютной корзине. Старость – не радость, какая уж тут любовь…
Я вернулась домой в отвратительном настроении. Ноно это почувствовал. Он сходил за свежим багетом, фермерскими яйцами, и мы соорудили роскошный омлет с тертым сыром конте.
На столе, в куче рекламных буклетов о лучших сортах семенного салата и посадочном материале для прививки кипарисов, под каталогами от Willem&Jardins, лежало письмо. Марка с замком Иф, отправлено из Марселя.
Виолетте Трене-Туссен
Кладбище Брансьон-ан-Шалона (71)
Сона-и-Луара
Я вскрыла конверт, дождавшись ухода Ноно.
Жюльен Сёль начал письмо безо всяких политесов.
Нотариус распечатал написанное мамой письмо – судя по всему, она не была во мне уверена и хотела сделать все по закону. Подозреваю, она опасалась, что я не выполню ее последнюю волю.
А хотела она одного – лежать рядом с Габриэлем Прюданом на вашем кладбище. Я попросил нотариуса повторить незнакомое имя. Габриэль Прюдан.
Я сказал: «Здесь какая-то ошибка. Моя мать была замужем за моим отцом, которого звали Поль Сёль. Он похоронен на кладбище Сен-Пьер в Марселе!» Нотариус ответил, что никакой ошибки нет и речь действительно идет о завещании Ирен Файоль, по мужу Сёль, родившейся 27 апреля 1941 года в Марселе.
Я сел в свою машину и ввел в GPS новый адрес: «Брансьон-ан-Шалон, дорога на кладбище», потому что «кладбище» не фигурировало в предлагаемом списке. Триста девяносто семь километров в противоположную от Марселя сторону, никуда не сворачивая. По автостраде до Макона. Свернуть у Сансе и еще десять километров рулить по сельским дорогам. Что там забыла моя мать?
Остаток дня прошел впустую, и в девять вечера я отправился в путь, через несколько часов остановился недалеко от Лиона. Хотелось кофе, нужно было заправиться и поискать в Интернете Габриэля Прюдана. Википедия «помогла» определением слова «осторожность»[35].
Я направлялся к давно умершему и погребенному человеку и пытался восстановить в памяти моменты общения с матерью в последние годы. Несколько воскресных обедов, кофе время от времени, если я по службе оказывался в ее квартале, на улице Паради. Она никогда не спрашивала, счастлив я или нет, интересовалась только политическими событиями и моей работой, правда, ответы ее разочаровывали. Мама ждала рассказов о кровавых разборках и преступлениях по страсти, а я мог поведать только о карманных кражах и грабежах. В крайнем случае, о торговле наркотой. Мы прощались в коридоре, она целовала меня и говорила: «Ты там поосторожнее…»
О личной жизни матери я не знал ничего и не мог припомнить даже тени Прюдана в моих воспоминаниях.
До Брансьон-ан-Шалона я добрался в два часа ночи, припарковался у закрытых ворот кладбища, выключил мотор и задремал. Мне снились кошмары, потом я замерз, включил печку, снова погрузился в сон и открыл глаза в семь утра.
В доме зажегся свет. И я постучал в дверь, не ожидая увидеть вас. Думал, что смотритель кладбища окажется пузатым стариком с багровым лицом. Знаю, знаю, избитые представления глупы до невозможности, но кто был бы готов к встрече с такой женщиной, как вы? Думаете, легко выдержать взгляд, подобный вашему, – недоверчивый, испуганный и нежный одновременно?
Вы впустили меня. Угостили кофе. У вас было хорошо. В кухне вкусно пахло. И от вас тоже хорошо пахло. Вы были в сером халате – старушечьем, совершенно не подходящем для трогательно моложавой женщины. Я не могу подобрать слов, чтобы описать самое первое впечатление: в вас чувствовалась энергия, неподвластная времени. А халат… он напоминал маскировку. Как будто девочка примерила одежду своей бабушки.
Волосы вы в тот день убрали в пучок. Не знаю, в чем было дело, что повлияло сильнее – шок, испытанный в кабинете нотариуса, бессонная ночь в дороге, уставшие глаза, – но вы показались мне нереальным созданием. Призраком. Привидением.
Увидев вас, я почувствовал, что мама впервые приобщила меня к своей странной, параллельной жизни, призвала меня туда, где действительно существовала.
А потом вы достали эти потрясающие регистрационные журналы похорон, и я понял, что вы не такая, как все. Что особенные женщины действительно существуют. Вы были личностью, а не чьей-то копией.
Вы попросили немного подождать, я вернулся в машину, включил двигатель, закрыл глаза, но заснуть не смог. Воображал вас за дверью дома, куда был допущен всего на час, и прокручивал в памяти встречу с вами, вслушивался в музыку сцены.
Увидев вас снова – в темно-синем пальто, за решеткой ограды, – я подумал: нужно обязательно выяснить, откуда она взялась и что тут делает.
Вы отвели меня на могилу Габриэля Прюдана. Шли, держась очень прямо, и ваш профиль был прекрасен. При каждом шаге под синим пальто угадывался красный цвет, словно подошвы ваших туфель скрывали какую-то тайну. И я снова подумал: нужно обязательно выяснить, откуда она взялась и что тут делает. Мне следовало грустить тем октябрьским утром на вашем мрачном, насквозь простуженном кладбище, но я чувствовал нечто совсем иное.
У могилы Габриэля Прюдана я казался себе мужчиной, влюбившимся в подружку невесты в день собственной свадьбы.
Во время второго посещения Брансьона я долго за вами наблюдал. Вы протирали портреты усопших и беседовали с ними. Меня в третий раз посетила мысль, что нужно обязательно выяснить: откуда она взялась и что тут делает.
Расспрашивать мадам Бреан не пришлось – она сама, с большой охотой, поведала мне, что вы живете одна, а ваш муж «исчез». Я решил, что «исчез» – значит «умер», и обрадовался, подумав: она одинока. Когда мадам Бреан уточнила, что ваш муж неожиданно… испарился двадцать лет назад, я почувствовал, что он может вернуться, и то состояние нереальности, в котором вы пребывали во время нашей первой встречи, вызвано именно этим обстоятельством. Бесконечными часами, проведенными в состоянии «подвешенности» между жизнью и другой жизнью. Вы сидели в зале ожидания, и никто не окликал вас по имени. Казалось, что Туссен и Трене перебрасываются мячом, а вы замаскировались, спрятали свою молодость под унылым серым халатом.
Я захотел выяснить правду ради вас. Освободить принцессу. Изобразить героя комикса. Сорвать темно-синее пальто и увидеть красавицу в красном платье. Пытался ли я через вас узнать то, чего не знал о моей матери и собственной жизни? Конечно! Я вломился в вашу «прайвеси» в поисках утешения и прошу за это прощения.
Извините меня…
За двадцать четыре часа мне удалось выяснить то, что двадцать лет оставалось для вас тайной. Я без труда получил копию вашего заявления об исчезновении мужа, поданного в жандармерию. Из записей бригадира, беседовавшего с вами в 1998 году, я узнал, что ваш супруг регулярно отлучался из дома. Исчезал на много дней, даже недель, и не сообщал, где находится. Филиппа Туссена не искали, потому что никто не встревожился. Его психологический и моральный профиль, как и состояние здоровья, позволяли предположить, что он скрылся совершенно добровольно. Я узнал, что «исчезновение» – легенда. Ваша и всех остальных брансьонцев.
Совершеннолетний гражданин волен прервать все контакты с близкими, а если адрес нового местонахождения будет выяснен, сообщить его родственникам можно лишь с согласия этого человека. Я не имею права дать вам координаты Филиппа Туссена, но мне плевать. Вы сами сказали: «Жизнь стала бы очень скучной, если бы мы делали только то, что предписывают наши полномочия…»
Сделайте с этим адресом что захотите: я записал его на листке, спрятал в конверт и прилагаю к письму.
Преданный вам Жюльен Сёль».
Это первое любовное письмо за всю мою жизнь. Странное, но все-таки любовное. В нескольких строчках Жюльен почтил память своей матери, и слова явно дались ему непросто. Его послание занимает страницы – изливать душу незнакомому человеку гораздо легче, чем собравшимся за столом родственникам.
Я смотрю на запечатанный конверт с адресом Филиппа Туссена. Кладу его между страницами «Роузес Мэгэзин». Пусть лежит, пока я не решу, что с ним делать: хранить (не читая), выбросить или прочесть. Филипп Туссен живет в ста километрах от моего кладбища… Не могу поверить! Я думала, он где-то за границей, на краю света. Того самого, который давно перестал быть моим.
29
Листья опадают, одно время года сменяет другое, вечно лишь воспоминание.
Филипп Туссен женился на мне 3 сентября 1989 года, в тот день, когда Леонине исполнилось три года. Нет, он не опускался на одно колено, чтобы сделать предложение по всем правилам. Бросил как-то вечером – между делом: «Нужно пожениться – ради малышки…» Конец истории.
Через несколько недель он спросил, позвонила ли я в мэрию, чтобы условиться о дате. Да-да, именно так и сказал: условиться о дате. Слова не из его лексикона. Так я поняла, что он повторил эту фразу за кем-то другим. Филипп Туссен женился на мне по наущению матери, чтобы я не получила единоличную опеку над дочерью, если мы разбежимся, или не исчезла с концами, как поступают «такие девки». Да, в глазах мамаши Туссен я всегда буду «другой», старуха даже не называет меня по имени, говорит «она». Я тоже никогда не смогу произнести ее имя – Шанталь.
Мы попросили подменить нас на переезде (впервые за все время), чтобы расписаться в Мальгранж-сюр-Нанси. Филиппа Туссена устраивало, что мы не можем уйти в отпуск вместе, а поскольку привычек своих он не менял, лично я в отпуске работала.
Мэрия находилась в трехстах метрах от нашего переезда, на Гран-Рю, и мы пошли туда пешком: Филипп, его родители, Стефани, кассирша из «Казино», Леонина и я. Мадам Туссен была свидетельницей сына, Стефани – моей.
После рождения Лео супруги Туссен навещали нас дважды в год. Когда огромный автомобиль подъезжал к дверям, наш домик «исчезал». На короткое время их достаток затмевал наше… «лишенство». Мы не были нищими, но и богачами нас никто бы не назвал. Вот именно – мы. С годами я узнала, что у Филиппа много денег, но лежат они на отдельном счете, который находится в доверительном управлении у его матери. Само собой разумеется, что расписались мы, заранее оговорив условие раздельного владения имуществом. Отец Филиппа очень огорчился, узнав, что мы не будем венчаться, но сын не уступил его просьбам.
Мать моего мужа звонила нам часто и почти всегда в неудачный момент: когда я купала малышку, или мы собирались садиться за стол, или нужно было выйти из дома, чтобы опустить шлагбаум. Эта женщина набирала номер по несколько раз в день, желая достать сына, который часто бывал в отсутствии. Я снимала трубку, слышала раздраженное сопение и голос, хлесткий, как бич: «Передайте трубку Филиппу». Коротко и ясно. Зачем тратить лишние слова? У мадам слишком много дел и без «этой»! Каждый разговор матери с сыном заканчивался мною: я знала это, потому что Филипп всегда выходил из комнаты и понижал голос, как будто опасался меня, считал врагиней. Что именно он мог обо мне рассказывать? Я и сегодня иногда об этом думаю. Какой он видел свою жену? Видел ли вообще? Я была женщиной, которая готовила ему еду, стирала и гладила, работала за двоих, делала ремонт и воспитывала дочь. Возможно, он придумывал иную Виолетту Трене, с другими привычками и маниями? Или описывал матери «собирательный образ», основываясь на портретах многочисленных любовниц?
Церемонию вел помощник вице-мэра. Он зачитал три фразы из Гражданского кодекса, а когда задал вопрос: «Вы клянетесь хранить верность и помогать друг другу, пока смерть не разлучит вас?» – гудок пассажирского в 14.07 заглушил его голос. Леонина воскликнула: «Мама, поезд!» Она не поняла, почему я не иду опускать шлагбаум. Филипп Туссен ответил «Да». Я тоже. Он наклонился, чтобы поцеловать меня. Помощник вице-мэра надел пиджак – его ждали в другом месте – и сказал: «Объявляю вас мужем и женой». Помощники всегда работают по профсоюзному минимуму, если невеста не в белом платье. Единственную фотографию сделала Стефани (я до сих пор храню ее) – мы с Филиппом Туссеном на ней очень красивые.
Все отправились обедать к Джино, в пиццерию эльзасцев, ни разу не бывавших в Италии. Все веселились, громко смеялись, Лео задула три свечки. Ее глаза просияли, когда она увидела высокий именинный торт, который я для нее приготовила. Я и сегодня могу, если захочу, перечувствовать каждое мгновение того счастливого застолья.
Лео сделала из меня любящую мать. Я не спускала ее с рук, и Филипп часто бросал, походя: «Может, дашь ей хоть немного свободы?»
Мы с дочерью перемешали наши подарки и очень веселились, когда открыли их. Во всяком случае я. Подвенечное платье мне не досталось, но улыбка Лео облачила меня в самый прекрасный из всех нарядов – прелесть ее детства.
Среди подарков оказались кукла, набор кухонной посуды, пластилин, сборник кулинарных рецептов, цветные карандаши, годовая подписка на «Франс Луазир», приданое принцессы и волшебная палочка.
Я одолжила ее у Лео, взмахнула рукой и произнесла, обращаясь к гостям: «Пусть фея Леонина благословит этот союз!» – но никто не услышал, кроме моей дочери. Она засмеялась, протянула пухлую ручонку и прокричала: «Она моя, моя, моя!»
30
Ты любила мечтать у этой реки с серебристыми рыбами, так сохрани же наши воспоминания, чтобы они остались жить вечно.
Сегодня утром у меня большой сбор. Ноно рассказывает истории отцу Седрику и трем апостолам. Братья Луччини редко собираются все вместе. Кто-то один всегда остается в лавке, но вот уже десять дней никто не умирает.
Май Уэст спит, свернувшись клубочком на коленях у Элвиса, который, как всегда, смотрит в окно, что-то напевая себе под нос.
Ноно смешит публику.
– А иногда случалось так: качаем мы воду, вскрываем могилы или склеп, а там под завязку! Приходилось опускать туда вот такущий шланг!
Ноно машет руками, изображая диаметр шланга.
– Ну вот, – продолжает он, – его приходилось держать, а Гастон положил его в аллею… поверх маргариток… шланг раздувался, раздувался и – БАМ! – вода повсюду. Гастон и Элвис облили дамочку, у нее даже волосы намокли, и очки, и крокодилячья сумка! Нужно было это видеть! Она три года не навещала покойного мужа, пришла наконец – и нате вам! Больше точно не явится…
Элвис оборачивается, и мы слышим:
- Кентукский дождь все льет и льет.
- Впереди очередной городок, через который я пройду
- С дождем в моих ботинках, в поисках тебя,
- Под холодным кентукским дождем,
- Под холодным кентукским дождем[36].
Слово берет Пьер Луччини:
– Помню, помню, я там был! Та еще вышла потеха! Тетка была вдова старшего мастера! Синий чулок, сухарь, непреклонная, как юстиция. Покойник – пока был жив – звал ее Мэри Поппинс, мечтал, что однажды жена куда-нибудь денется, но так и не дождался.
– И все-таки не бывает двух похожих похорон, – снова вступил в разговор Ноно.
– Как и двух одинаковых закатов над морем, – нараспев произносит Элвис.
– Ты что, видел море? – интересуется Ноно.
Элвис молча отворачивается.
– Я повидал много разных похорон, – сообщает Жак Луччини. – На одних была толпа народу, на других присутствовало пять или шесть человек, но поверх земли никого не оставили… Случались стычки из-за наследства прямо у гроба… Хуже всего были две бабы: безумные истерички вцепились друг другу в волосы, так что пришлось их разнимать… моему бедному отцу, да покоится его душа с миром, тогда здорово досталось… Они вопили: «Ты – воровка! Зачем взяла то, почему претендуешь на это?!» – и ругались, как базарные торговки… Ужас, да и только.
– Прямо на кладбище? Ну ничего себе! – вздыхает Ноно.
– Это случилось до вас, Виолетта, – поясняет Жак Луччини. – При Саше, прежнем смотрителе.
Услышав это имя, я чувствую необходимость срочно присесть. Много лет никто не произносил его при мне вслух.
– А кстати, как он поживает? – спрашивает Поль Луччини. – Кто-нибудь знает?
Ноно реагирует мгновенно – переводит разговор на другую тему:
– Лет десять назад выкупили одну очень старую могилу… Пришлось доставать «внутренности»… Мы все вычистили и погрузили в кузов грузовичка: знали, что никто не востребует останки. Уж больно давно упокоились люди. Я нашел табличку с надписью: «Моим дорогим ушедшим», и тоже выбросил. А потом вдруг вижу даму, очень достойную и такую милую, что из уважения умолчу об имени… Ну так вот, достает она эту самую табличку и прячет в пакет. Я спрашиваю: «На что она вам сдалась?» И слышу в ответ: «Подарю супругу, он у меня мужик без яиц!»
Мужчины разражаются громовым хохотом, до смерти перепугав бедняжку Май Уэй, и она, от греха подальше, прячется в моей спальне.
– И куда же смотрит Господь? – сокрушается отец Седрик. – Все эти люди верующие?
Ноно задумывается:
– Некоторые начинают верить в тот день, когда Он избавляет их от придурков. Я встречал веселых вдов и счастливых вдовцов, эти благодарят твоего Всевышнего за помощь, мсье кюре… Да ладно, не сердись, я пошутил! Твой Бог и правда утоляет печали, так что, не существуй Он, мы бы Его обязательно придумали.
Отец Седрик улыбается Ноно.
– Мы все повидали, занимаясь нашим делом, – говорит Пьер Луччини. – Горе, счастье, истинно верующих, быстротекущее время. Нестерпимую боль, несправедливость… Такова жизнь, чего уж там… По большому счету, мы, похоронщики, находимся в самой ее гуще, потому что имеем дело с родственниками, с теми, кто остался на этом свете… Наш отец, да будет земля ему пухом, всегда говорил: «Мы – повитухи смерти, мальчики. Мы принимаем у нее роды, так живите, пока живы, и делайте свое дело…»
31
В любви нас было двое.
Оплакиваю я тебя в одиночестве.
Мотоцикл Филиппа Туссена умчал его недалеко от Брансьона. Он живет ровно в ста километрах от моего кладбища, так что сменил только департамент.
Я часто спрашиваю себя: Почему он остановился в той, другой жизни и остался в ней? Попал в аварию или влюбился? Почему не предупредил меня? Не сообщил об увольнении, отставке, разрыве? Что произошло в день его отъезда? Он знал, что не вернется? Я сказала не то, что следовало, или, наоборот, чего-то не сказала? Впрочем, в самом конце я вообще ничего не говорила. Только готовила еду.
Он не сложил дорожную сумку. Ничего не унес. Не взял никакую одежду, безделушку на память, фотографию нашей дочери.
Сначала я думала, что он «задержался» в постели другой женщины. Одной из тех, которые с ним разговаривают.
Месяц спустя в голове мелькнула мысль о несчастном случае, а через два я пошла в полицию, чтобы заявить об исчезновении мужа. Я знать не знала, что Филипп Туссен опустошил свои банковские счета, которыми управляла его мать.
Прошло полгода, и я начала бояться, что он вернется, потом привыкла к одиночеству и задышала полной грудью, как человек, долго пробывший под водой в бассейне. Уход Филиппа позволил мне оттолкнуться ногой от дна, всплыть и глотнуть воздуха.
Через год я сказала себе: Если он вернется, убью его.
Через два: Если он вернется, я не приму его.
Через три: Если он вернется, я вызову полицию.
Через четыре: Если он вернется, я попрошу помощи у Ноно.
Через пять: Если он вернется, будет иметь дело с братьями Луччини. С бальзамировщиком Полем.
Через шесть: Если он вернется, я задам ему все вопросы, какие только придут в голову, а потом убью.
Через семь: Если он вернется, я уйду.
Через восемь: Он не вернется.
Я побывала у мэтра Руо, брансьонского нотариуса, и попросила его написать Филиппу Туссену. Он отказался и посоветовал обратиться к адвокату по семейному праву, знакомому с процедурой.
Мы с мэтром Руо старые знакомые, и я сказала: «Пожалуйста, выберите адвоката сами и напишите ему письмо, чтобы мне не пришлось ничего объяснять, просить, настаивать. Пусть информирует Филиппа Туссена о моем намерении вернуть девичью фамилию Трене».
Я добавила, что не претендую на денежное содержание, так что речь идет о простой формальности. Мэтр Руо упомянул «денежную компенсацию за оставление домашнего очага», но я отрезала: «Нет!»
Я ничего не хочу.
Мэтр назидательным тоном указал на тот факт, что «на склоне лет я могу пожалеть о принятом решении». Но я проведу остаток жизни на моем кладбище, и бо́льшие удобства мне не понадобятся.
– Знаете, дорогая Виолетта, – заметил он, – однажды вам придется оставить работу и уйти на покой.
– Это ничего не меняет.
– Ну что же, тогда я начну действовать.
Нотариус записал адрес Филиппа Туссена – я в конце концов открыла конверт, присланный Жюльеном Сёлем.
69500 Брон,
авеню Франклина Рузвельта, 13
Господину Филиппу Туссену,
дом Франсуазы Пелетье
– Позвольте спросить, Виолетта, как вы его раздобыли? Я полагал, что ваш супруг пропал, если это не так, он должен был где-то работать, а значит, есть номер социального страхования!
Он был прав. Мэрия перестала платить Филиппу через несколько месяцев после его исчезновения, о чем я узнала много позже. Туссены получали уведомления о зарплате и сами заполняли налоговые декларации сына. Работая на переезде, а потом на кладбище, мы имели бесплатное жилье и не делали отчислений на соцобеспечение. Питались мы на мои деньги. Филипп Туссен говорил: «Я даю тебе крышу над головой. Тепло и свет. Ты меня кормишь».
Все годы нашей совместной жизни он тратился только на свой драгоценный мотоцикл. Одежду ему и Леонине покупала я.
– Вы уверены, что речь идет именно о вашем муже? Туссен из Брона может оказаться однофамильцем, нельзя исключать и случайное сходство.
Я согласилась, что такое вполне вероятно, но трудно обознаться, если прожил с человеком много лет. Даже если Филипп Туссен растолстел и облысел, я не спутаю его ни с одним другим мужчиной.
Я рассказала мэтру Руо о встрече с Жюльеном Сёлем (его ДЕЙСТВИТЕЛЬНО так зовут!), о его матери и Габриэле Прюдане, о том, как он разыскал Филиппа (не спросив моего согласия!) и выяснил, что тот живет в ста километрах от кладбища. И все это было сделано только потому, что комиссара наповал сразило мое красное платье под синим пальто! Я не стала скрывать, что одолжила машину Ноно – «Норбер Жоливе. Могильщик», – доехала до Брона и припарковалась на авеню Франклина Рузвельта рядом с домом № 13. Он чем-то напоминал мое жилище в Мальгранж-сюр-Нанси, но был двухэтажным, на окнах с двойными дубовыми рамами висели красивые шторы. Напротив находился бар Карно, где я выпила три чашки кофе, пока ждала… сама не знаю чего. А потом увидела, как он переходит улицу.
Он был с каким-то мужчиной, оба улыбались, о чем-то оживленно разговаривали. Когда они вошли в кафе, я опустила голову и прикрыла лицо ладонью.
Я узнала запах Филиппа: смесь кароновского одеколона «Pour un homme» с ароматом кожи «других женщин». Он вечно носил его на себе. Не избавился и теперь. Прошло много лет, но чуткий нос меня не обманул.
Они заказали два блюда дня и принялись за еду. Я видела в зеркале, как жует Филипп, и говорила себе: «Да, он улыбается, ну и что, каждый волен изменить свою жизнь, мы с Леониной давно о нем не слышали. Появился в одной жизни, исчез из другой. Можно начать сначала – не важно, здесь и сейчас или в другом месте. Никому не заказано поступить так, как сделал Филипп Туссен, который уехал прошвырнуться и не вернулся».
Он изменился. Поправился. Стал улыбчивым. А вот глаза остались прежними – во взгляде отсутствовал интерес к собеседнику. Филипп жил на авеню Франклина Рузвельта – и наверняка понятия не имел, кто такой этот самый Рузвельт. Жизнь-то он поменял, но сам остался прежним.
Я поняла, как мне повезло, что этот человек ушел навсегда и даже не обернулся.
Спутник называл Филиппа патроном, а когда они закончили, гарсон спросил: «Записать на ваш счет, господин Пелетье?» – и Филипп Туссен ответил: «Конечно…»
Они вышли на улицу. Я осторожно следовала за ними до гаража, находившегося метрах в двухстах от бара. Гаража Пелетье.
Я спряталась за машиной, до смешного напоминавшую меня, Виолетту Трене, в тот тяжелый момент, когда ее бросил Филипп Туссен: кузов помят, исцарапан, стоит на боку в ожидании своей судьбы, на дне бака плещется немного бензина. Стартуй и закончи путешествие.
Филипп направился в кабинет со стеклянными перегородками, снял трубку, набрал номер. Он выглядел как патрон, но когда через десять минут появилась Франсуаза Пелетье, мгновенно стал мужем хозяйки. Филипп смотрел на нее и улыбался. Смотрел с любовью. Смотрел и видел. Я отправилась восвояси. Дошла до машины Ноно и увидела на ветровом стекле штрафную квитанцию на сто тридцать пять евро за парковку в неположенном месте.
– Вечная история моей жизни… – Я улыбнулась нотариусу.
Несколько секунд мэтр Руо не мог вымолвить ни слова, потом покачал головой и сказал:
– Знаете, дорогая моя Виолетта, я давно живу на свете и многое повидал: дядьев, выдающих себя за сыновей, сестер, не желающих знать друг друга, фальшивых вдов и вдовцов, подложных детей и родителей, но подобную историю слышу впервые.
На этом наша встреча закончилась. Мэтр пообещал все уладить и проводил меня до двери.
Он очень тепло ко мне относится, потому что я ухаживаю за цветами на могиле его жены: они очень редкие, африканские, теплолюбивые, и их нужно беречь от заморозков. Ее звали Мари Руо, в девичестве Дарден (1949–1999).
32
Мои дорогие друзья, когда я умру, посадите на кладбище иву.
Мне нравятся вечно исплаканная листва этого дерева и его нежная бледность.
Тень ивы на земле, в которой я упокоюсь, будет легкой, невесомой.
В апреле я маленькой кисточкой рассаживаю личинок божьих коровок на розовых кустах и могилах, по одной на каждый листок. Весной мое кладбище обновляется, меняет цвет, а я словно бы выстраиваю лестницы между небом и землей. Я не верю ни в призраков, ни в привидения, только в божьих коровок – они уничтожают тлю.
Если эта яркая букашка приземляется на мою ладонь, я чувствую: чья-то душа подает знак. В детстве я воображала, что это мой умерший отец, что мать бросила меня, потеряв его. Все люди свободны, когда мечтают, и я представляла отца похожим на Роберта Конрада, героя «Дикого дикого Запада»[37]: красивым, могущественным, нежным и обожающим свою дочку. Небесным защитником.
Я придумала себе ангела-хранителя, который почему-то «опоздал на работу» в день моего рождения. А потом повзрослела. И поняла, что «договор на обслуживание» с крылатым стражем был краткосрочным, что он будет частенько сваливать работу на Национальное агентство занятости и, как поет Жак Брель[38], «напиваться каждую ночь дешевым вином». Мой отец «Роберт Конрад» постарел некрасиво.
Операция «Божья коровка» растягивается на десять дней как минимум, да и то, если ничем другим не заниматься. Не отвлекаться на похороны. Рассаживая клопиков по розовым кустам, я чувствую, что распахиваю двери солнцу, впускаю его на мое кладбище. Выдаю пропуск светилу. Но люди в апреле все равно умирают, а их близкие приходят на могилы и нуждаются в моей помощи.
Я снова его не услышала. Он у меня за спиной. Жюльен Сёль стоит, замерев, и наблюдает за мной. Интересно, давно он здесь? Комиссар прижимает к груди урну с прахом. Его глаза сверкают, как заиндевевший черный мрамор в солнечную погоду. Я лишилась голоса… Не могу улыбнуться, но сердце отчаянно стучит, как малыш в запертую дверь любимой кондитерской.
– Я вернулся рассказать, почему мама захотела лежать рядом с Габриэлем Прюданом.
– Мне не привыкать к исчезающим мужчинам… – Ничего умнее я не придумала. – Проводить вас к его могиле?
Я аккуратно кладу кисточку на плиту с именами членов семьи Монфор и отправляюсь к мэтру Прюдану.
Жюльен идет следом и говорит извиняющимся тоном:
– Я полный кретин по части ориентирования на местности, а уж на кладбище…
Мы молча шагаем к аллее № 19, а когда оказываемся на месте, комиссар Сёль ставит урну на могилу, начинает двигать ее туда-сюда, как последний элемент пазла, и в конце концов прислоняет к стеле.
– Мама предпочитала тень свету…
– Хотите прочесть речь, которую написали? Я могу оставить вас одного…
– Не стоит. Мы поступим иначе: когда все посетители уйдут, вы произнесете мое… сочинение. У вас наверняка получится лучше.
На урне золотыми буквами по темно-зеленому фону написано: «Ирен Файоль (1941–2016)». Жюльен на минуту задумывается. Я терпеливо жду продолжения.
– Никогда не умел просить… Забыл о цветах. Вы мне поможете?
– Да.
Жюльен выбирает светло-желтые нарциссы в горшке и говорит, что хочет купить табличку в магазине похоронных принадлежностей братьев Луччини.
– Съездим вместе?
Я сразу соглашаюсь – никогда там не была, хотя вот уже двадцать лет объясняю другим, как туда попасть.
Мы садимся в машину. Салон пропах сигаретным дымом. Комиссар молча поворачивает ключ в замке зажигания, вставляет диск в плеер, и нас оглушает голос Алена Башунга[39]: он орет «Эльзасский блюз». Ффу, напугал! Жюльен делает тише, и мы хохочем, как два безбашенных подростка. Впервые эта потрясающе красивая и жутко печальная песня так подействовала на слушателей.
Останавливаемся у магазина Луччини, зажатого между моргом и «Фениксом», единственным китайским рестораном Брансьон-ан-Шалона. Ни о чем другом жители городка не шутят чаще, что не мешает им каждый день после полудня набиваться в зал.
В витрине выставлены таблички и искусственные цветы. Терпеть их не могу! Пластмассовая роза подобна ночнику, который возомнил себя солнцем. В зале выставлены гробы – выбирай по цвету, как паркет в магазине стройматериалов. Самые дорогие, из ценных пород дерева, – первый сорт. Из мягкой древесины – второй, а из крепкой, но простые, фанерованные, – третий. Я всегда надеялась, что мера любви к живому человеку не измеряется качеством материала, из которой сделана домовина.
Почти на всех табличках написана стандартная фраза-образец: «Птичка-завирушка, если летаешь вокруг этой могилы, спой ему самую красивую из твоих песен…» Пьер Луччини консультирует Жюльена, и тот останавливается на лаконичном «Моей матери», латунными буквами на черном фоне. Он решил обойтись без стихов и эпитафий.
Пьер удивлен моим приходом и не знает, что сказать: он много лет, по нескольку раз в неделю, бывает у меня в доме, для него немыслимо – быть на кладбище и не зайти хотя бы поздороваться.
О Пьере я знаю почти все: в каких мешочках он хранит свои стеклянные шарики, как звали его первую любовь, имя мадам Луччини, болезни детей, тоску по умершему отцу и даже названия средств от облысения, – а в магазине, среди табличек и мертвых цветков, чувствую себя чужой.
Комиссар расплачивается, и мы уходим.
На обратном пути Жюльен приглашает меня поужинать и выслушать историю его матери и Габриэля Прюдана.
Он хочет выразить мне свою благодарность и заслужить прощение за «самодеятельность» – не стоило без разрешения искать Филиппа Туссена.
– Я согласна, но поужинаем у меня. Нам никто не помешает, мяса не обещаю, но будет вкусно.
– Хорошо, – отвечает Жюльен, – встретимся в восемь вечера, а сейчас я заскочу к мадам Бреан и предупрежу, что буду ночевать.
33
Знаешь, со временем все проходит, забываешь о страстях, не помнишь, как звучал голос, тихо просивший: не возвращайся поздно и, главное, не простудись.
Ирен Файоль и Габриэль Прюдан встретились в Экс-ан-Провансе в 1981 году. Ей было сорок, ему – пятьдесят лет. Он защищал заключенного, который помог сбежать сокамернику. Ирен пришла на заседание суда по просьбе своей служащей (и подруги) Надии Рамирес, жены подсудимого. «Мы не выбираем тех, в кого влюбляемся, – сказала она Ирен, закончив подкрашивать корни и приступая к укладке. – Это было бы слишком просто».
Итак, Ирен оказалась в зале, когда мэтр Прюдан произносил речь. Он говорил о том, как звякают ключи на поясе охранника, о свободе, о неукротимом желании вырваться из стен, где царит вековое отчаяние, снова увидеть небо, заглянуть за горизонт, выпить кофе в бистро. Он объяснял, что вынужденный промискуитет жизни в заключении способен рождать солидарность и мужское братство, что лишиться свободы – все равно что потерять близкого человека и навсегда надеть траур, а понять это может лишь переживший нечто подобное.
Ирен Файоль слушала адвоката и не могла отвести взгляд от его рук – совсем как героиня рассказа Стефана Цвейга «Двадцать четыре часа из жизни женщины». Руки у мэтра Прюдана были крупные, с белыми, идеально отполированными ногтями. Он выразительно жестикулировал, а Ирен думала: Вот ведь странность – руки этого человека не постарели. Остались молодыми. Руки пианиста. Обращаясь к присяжным, адвокат Прюдан широко разводил руки. Адресуя реплики заместителю прокурора, стискивал ладони, и они вдруг обретали свой истинный возраст. Говоря с председателем, мэтр «усмирял» руки, поворачиваясь к публике, взмахивал ими, как перевозбудившаяся девица, а опрашивая подзащитного, соединял пальцы в почти молитвенном жесте… За несколько секунд его руки переходили от замкнутости к веселости, тянулись к свободе, просили, укоряли. Эти руки повторяли, дополняли, усиливали произнесенное слово.
В перерыве Ирен и Надия вышли из зала и отправились в Экс, пока жюри заседало. Погода стояла прекрасная, как, впрочем, и всегда, но Ирен была скорее равнодушна к теплу и солнечному свету.
Надия решила поставить свечку в церкви Святого Духа, а Ирен зашла в первое же кафе и поднялась на второй этаж, чтобы посидеть в тишине, почитать – накануне вечером, когда ее муж Поль заснул, она начала новый роман.
Мэтр Прюдан любил солнце – в отличие от нее, – но не толпу и потому устроился один за угловым столиком, у закрытого окна, и курил одну сигарету за другой. Густой дым тянулся к потолку, вился вокруг светильников. Ирен завороженно уставилась на его правую руку, тушившую окурок в пепельнице.
В первой главе книги она прочла зацепившую ее фразу: «Невидимая нить связывает тех, кому суждено встретиться, и нить эта может запутаться, но ни за что не порвется…»
– Вы сейчас были в суде… – не спросил, а констатировал Габриэль Прюдан, увидев Ирен Файоль. Публики в зал набилось много, она сидела в предпоследнем ряду. Как же он ее приметил? Ирен не спросила, даже не кивнула в ответ, но Габриэль угадал, о чем она подумала, и принялся описывать, как были одеты присяжные, секретари, подсудимые и зрители. Все присутствовавшие на заседании. Мэтр красочно живописал цвета брюк, юбок и пуловеров: «малина», «ультрамарин», «мел», «пепельно-серый», «коралл», – уподобясь то ли красильщику, то ли торговцу тканями с рынка Сен-Пьер. Адвокат даже ухитрился заметить, что у дамы, сидевшей в третьем ряду, слева, у прохода – «черноволосой, с пучком, в сером льняном костюме и маково-красном шарфике», – к лацкану была приколота брошка в виде скарабея. Свой гипнотизерский фокус Габриэль Прюдан сопровождал жестами, а слово «зеленый» не произнес, а показал, как будто оно было запретным, зато со вкусом выговаривал названия оттенков: «изумрудный», «жидкая мята», «фисташковый» и «оливковый».
Ирен Файоль слушала молча, задаваясь единственным вопросом: почему знаменитый адвокат с таким удовольствием описывает наряды окружающих?
И снова он угадал ее мысли и объяснил, что в суде все можно понять по манере людей одеваться. Невиновность, сожаление о содеянном, вину, ненависть и готовность простить. Каждый очень тщательно выбирает, что надеть на заседание – независимо от того, судят его самого или другого человека. Совсем как на похороны или свадьбу. Случайностям нет места. Мэтр признался, что способен определить по костюму и платью, кто на чьей стороне находится, отец перед ним, брат, мать, сосед, свидетель, возлюбленная, друг, враг или сторонний наблюдатель, и подстраивается, меняя формулировки вопросов. «Вот вы, например, непредвзяты, мой клиент вам чужой. Ирен Файоль – дилетантка…»
Да-да, именно так он ее и назвал! Ответить Ирен не успела – явилась Надия, подсела за столик, удивилась: «Зачем в такую погоду сидеть в зале? Нет чтобы выбрать место на террасе… если моего парня оправдают… уж мы с ним отпразднуем. Все кафешки и бары обойдем…» Ирен слушала рассеянно, не вникая, и думала: Моя мечта – продолжить чтение книги, лежащей на дне сумки… или улететь в Исландию, позвав с собой мужчину с красивыми руками, который сидит вон там и прикуривает одну сигарету от другой.
Надия пошла поздороваться с мэтром Прюданом, повосторгалась его речью и подтвердила, что, как и обещала, будет платить понемногу, но каждый месяц, потому что ее Жюля наверняка оправдают. Адвокат ответил – очень серьезно, между двумя затяжками:
– Это станет ясно после вердикта. Вы прекрасно выглядите, вам очень идет это ярко-розовое платье. Уверен, оно взбодрило вашего мужа.
Ирен допила чай, Надия – абрикосовый сок, Габриэль Прюдан – разливное пиво без пены. Когда они закончили, он оплатил счет и откланялся, держа в руках папки с делами. «Господи, какие же они крупные и красивые…»
На оглашение приговора Ирен не попала – пускали только родственников, – но не ушла, стояла перед зданием суда и разглядывала цвета одежды выходящих. Увидела ультрамариновый пуловер, коралловое платье, юбку цвета бледной мяты и скарабея дамы с пучком волос цвета воронова крыла.
Она вернулась в Марсель одна. Надия Рамирес осталась в Эксе: Жюля оправдали, и они начали праздничный поход по кафе.
Несколько недель спустя Ирен Файоль рассталась с парикмахерской, чтобы заняться садоводством. Ей надоело стричь и красить волосы, мыть головы и – главное – слушать болтовню клиентов. По характеру она была скорее молчалива и слишком сдержанна для парикмахерши, в ее характере недоставало природного любопытства, веселости и благодушия.
Много лет Ирен влекли к себе земля и розы. На вырученные за салон деньги она купила хороший участок в 7-м округе Марселя и превратила его в розарий. Научилась сажать, выращивать, поливать и черенковать, начала создавать новые сорта роз – карминные, гранатовые, цвета само – и все время вспоминала руки Габриэля Прюдана.
Ее цветы распускались и закрывались, ориентируясь на погоду…
Ровно через год Ирен Файоль снова поехала с Надией Рамирес в Экс-ан-Прованс: ее мужа взяли на наркоте, и он ждал суда. На сей раз Ирен проконсультировалась с подругой, как одеться, чтобы не выглядеть «дилетанткой», но, к великому своему разочарованию, узнала, что мэтра Прюдана не увидит. Адвокат переехал, и Надия очень тревожилась.
– Какая муха его укусила? – спросила Ирен тоном обиженного ребенка, узнавшего, что на каникулах не будет моря.
Надия пожала плечами. Причина – развод, больше ей ничего не известно.
Прошло много месяцев, и однажды в розарий пришла женщина. Она заказала венок из белых роз и попросила отправить его в Экс-ан-Прованс. Заполняя квитанцию, Ирен узнала, что цветы требовалось доставить на кладбище Сен-Пьер, для мадам Мартины Робен, супруги Габриэля Прюдана.
Впервые Ирен повезла заказ в Экс 5 февраля 1984 года, где всю ночь подмораживало и было очень холодно. Розы – хрупкий товар, поэтому она бережно упаковала венок и разместила его в задней части своего пикапа «Пежо».
Муниципальный служащий позволил ей доехать по аллеям до выкопанной могилы: было 10.00. А церемонию назначили на полдень.
Надпись на мраморе гласила: «Мартина Прюдан, в девичестве Робен (1932–1984)». Под фамилией уже прикрепили фотографию: красивая брюнетка лет тридцати улыбалась в объектив.
Ирен решила подождать. Ей хотелось увидеть Габриэля Прюдана. Хотя бы издалека. Пусть и из «засады». Она должна была выяснить, стал ли он вдовцом, его ли жену предадут земле. В извещениях о смерти Мартины Робен не оказалось ни слова о муже.
«Мы с великой печалью сообщаем о скоропостижной кончине Мартины Робен, покинувшей этот мир в возрасте пятидесяти двух лет, в Экс-ан-Провансе. Мартина была дочерью усопших Гастона Робена и Мишлин Больдюк. О ней скорбят ее дочь Марта Дюбрей, брат и сестра Ришар и Морисетта, тетя Клодина Больдюк-Бабе, свекровь Луиза, многочисленные кузены, племянники, племянницы и близкие друзья Натали, Стефан, Матиас, Нинон и многие другие».
Ни слова о Габриэле Прюдане. Его словно бы вычеркнули из числа гипотетических скорбящих.
Ирен покинула кладбище, села в машину, проехала триста метров и остановилась у первого придорожного бистро, подумав вскользь: Надо же было додуматься – открыть кафе между кладбищем и городским бассейном… Напоминает сбившийся с курса корабль.
Она закрыла «Пежо» и едва не передумала, разглядев грязные окна и занавески, помнящие лучшие времена. От роковой ошибки ее удержала тень человека за столиком. Он сидел чуть сгорбившись, но Ирен узнала его. Это и правда он. Устроился у закрытого окна, курит и смотрит в пустоту.
На несколько секунд Ирен засомневалась: может, ей померещилось, приняла желаемое за действительное, вообразила себя героиней романа. Реальная жизнь далека от обещаний, которые дает себе романтичная школьница, а она видела мэтра один раз, три года назад.
Когда Ирен вошла, адвокат поднял голову. В бистро сидели четверо мужчин: трое – у стойки, один – за столиком. Габриэль Прюдан. Он сказал:
– Вы присутствовали на суде над Жан-Пьером Рейманом и Жюлем Рамиресом, в Эксе, в тот год, когда выбрали Миттерана… Вы – дилетантка.
Ирен не удивилась, что он узнал ее. Восприняла это как нечто само собой разумеющееся.
– Вы не ошиблись. Я – подруга Надии Рамирес.
Габриэль кивнул, прикурил очередную сигарету, сказал: Я помню – и заказал официантке два кофе и два кальвадоса, даже не предложив ей присесть. Ирен Файоль никогда в жизни не пила кофе – только чай – и кальвадос в десять утра, но, загипнотизированная мужскими руками, даже не подумала возразить и опустилась на стул напротив него. Его потрясающие руки не постарели.
Сначала говорил он. Долго. Рассказал, что вернулся в Экс на похороны Мартины, бывшей жены, но не выносит святош и попиков, не желает выглядеть виноватым, а потому не пошел на отпевание, решил дождаться в бистро возвращения кортежа на кладбище. Еще Габриэль заявил, что два года жил в Маконе, с другой женщиной, жену, то есть первую жену, не видел с момента расставания, дочь выросла и собачится с ним – не простила, что он бросил мать. Он признался, что был раздавлен известием о смерти Мартины, но никто в это не верит, для всех мэтр Прюдан – дежурный негодяй, а бывшая отомстила подлецу, так сказать, post-mortem[40] (хотя не исключено, что это сделала дочь!), выгравировав его имя на памятнике. Забрала с собой в вечность.
– Вот вы могли бы сотворить подобное? – спросил он.
– Не знаю…
– Живете в Эксе?
– Нет, в Марселе. Сегодня утром я привезла на кладбище венок для вашей бывшей жены, замерзла и решила выпить чаю. А теперь от вашего кальвадоса у меня кружится голова, и я вряд ли смогу вести машину… Извините за нескромность – обычно я так себя не веду, но как вы познакомились с вашей нынешней женой?
– Ничего оригинального, во всем «виноват» клиент, которого я защищал годами. Объяснял положение дел его супруге, он раз за разом снова садился, ну, мы и влюбились. С вами такого не случалось?
– Какого – такого?
– Взять и влюбиться.
– Я влюбилась в мужа, его зовут Поль Сёль, нашему сыну Жюльену десять лет.
– Вы работаете?
– Сейчас я садовод, была парикмахером. Я не только торгую цветами, главное мое увлечение – гибридизация.
– Что вы разводите?
– Создаю новые сорта роз.
– Зачем?
– Мне нравится смешивать сорта.
– И какие цвета получаются? Еще кофе и кальвадос два раза, пожалуйста!
– Карминный, малиновый, гранатовый, само. И разные белые.
– Объясните.
– Снежно-белые. Я обожаю снег, и мои цветы не боятся холода.
– А вы сами никогда не носите яркую одежду? На процессе в Эксе вы были в бежевом.
– Предпочитаю сочные цвета на красивых девушках и в розах.
– Но вы чертовски красивы, так зачем прятаться от жизни?! Чего улыбаетесь?
– Это не улыбка. Я напилась.
В полдень они заказали два омлета-салата, тарелку жареной картошки и чай для нее. Он сказал: «Не уверен, что чай сочетается с омлетом». Она ответила: «Чай с чем угодно сочетается, как черное и белое».
За едой Габриэль облизывал пальцы. Вокруг него в солнечных лучах танцевали пылинки, как снег в стеклянном шаре. Они взяли еще картошки, и кофе, и кальвадоса. При любых других обстоятельствах, случайно оказавшись в подобном жалком заведении, Ирен Файоль непременно протерла бы стаканы манжетой куртки. На сей раз ей это и в голову не пришло.
Похоронный кортеж проехал мимо в 15.10. Ирен не заметила, как пролетело время. Они провели вместе пять часов, а ей показалось – десять минут.
Они вскочили. Габриэль поспешно расплатился. Ирен сказала: «Садитесь в мой пикап, я вас отвезу…» Она ведь уже знала местоположение могилы, приготовленной для Мартины Робен.
В машине он спросил ее имя: мне надоело обращаться к вам на «вы»!
– Ирен. Меня зовут Ирен.
– Я Габриэль.
Он не вышел, когда она притормозила у ограды.
– Давайте подождем здесь. Главное, что Мартина знает о моем присутствии. На остальных мне начхать.
Габриэль попросил разрешения закурить. Конечно, пожалуйста. Он опустил стекло, откинулся затылком на подголовник, взял левую руку Ирен в ладонь и закрыл глаза. Они ждали в тишине, смотрели на посетителей кладбища. В какой-то момент им послышалась музыка.
Когда все разошлись и мимо проехал пустой катафалк, Габриэль открыл дверцу и попросил Ирен пойти с ним. Она колебалась. Ну пожалуйста! Ирен сдалась, и они пошли по аллее, плечо к плечу.
– Я сказал Мартине, что ухожу к другой женщине, – и соврал. Другие, те, ради кого мы расстаемся с прежними спутниками жизни, – не более чем предлог, алиби. С людьми расстаются из-за них самих. Только и исключительно.
На могиле Габриэль поцеловал фотографию. Обхватил руками крест, венчающий стелу. Прошептал несколько слов. Ирен не расслышала, потому что не хотела услышать.
Ее белые розы лежали в самом центре, было много других цветов, как и слов любви. Даже гранитная птичка, совсем как живая, присела отдохнуть.
– Кто вам все это рассказал?
– Я прочел мамин дневник.
– Она вела дневник?
– Да. На прошлой неделе я нашел его в одной из коробок, когда убирал ее вещи.
Жюльен Сёль встал.
– Два часа ночи, мне пора. Я устал. Поеду завтра, рано утром. Спасибо за ужин, все было очень вкусно. Спасибо. Я давно так хорошо не ел. И не говорил ни с кем по душам. Я повторяюсь, но, когда мне хорошо, я повторяюсь.
– Вы не рассказали, что они делали после похорон. Я хочу узнать конец истории.
– А может, у нее нет конца…
Он берет мою руку, целует, и это выходит волнующе нежно. Нет никого трепетнее галантного мужчины.
– Вы чудесно пахнете.
– Это «Eau du ciel» от Анник Гуталь.
Он улыбается.
– Не меняйте духи. Спокойной ночи.
Он надевает пальто, идет к двери, ведущей на улицу, оглядывается с порога.
– Я вернусь дорассказать. Сейчас не стану, иначе вы не захотите снова увидеться.
Ложась спать, ловлю себя на мысли, что не хотела бы умереть на середине любимого романа.
34
Ты всегда будешь жить в наших сердцах.
В 1992-м – мы были женаты уже три года – у железнодорожной Франции случился паралич. Сдвинулось все расписание, бастующие возвели баррикаду в двухстах метрах от нашего переезда. Поезд, который обычно проходил мимо нас в 13.30, в 16.00 остановился на путях. Все купе были заполнены, день выдался ужасно жаркий, так что люди очень быстро открыли все окна и двери.
В «Казино» никогда не приходило столько покупателей. Запасы воды раскупили за несколько часов, а в конце дня Стефани уже раздавала бутылки прямо у дверей вагонов. Первый и второй классы смешались, пассажиры высыпали наружу. Контролеры и машинист, члены профсоюза железнодорожников исчезли одновременно и как по волшебству.
Поняв, что поезд дальше не пойдет, люди начали звонить соседям и друзьям – некоторые от нас или из автомата, за несколько часов всех «разобрали».
В девять вечера Гран-Рю опустела, двери супермаркета закрылись, и выбившаяся из сил Стефани опустила решетки. Издалека доносились голоса бастующих: они собирались ночевать прямо за баррикадой.
Наступила ночь, Филипп Туссен отправился на традиционный «прошвырон», и тут я обнаружила, что в головном вагоне остались две пассажирки, женщина и девочка, ровесница Леонины. Я спросила, могут ли за ней приехать, и она объяснила, что живет в семистах километрах от Мальгранжа, а сейчас едет из Германии, где забрала внучку, в Париж, и до завтрашнего утра никого не сумеет предупредить.
Я пригласила ее на ужин. Она отказалась – ну что вы, что вы, это неудобно, – но я просто взяла ее чемоданы, даже не спросив разрешения, и им ничего не оставалось, как только последовать за мной.
Лео уже крепко спала.
Я открыла все окна, чтобы хоть чуть-чуть остудить дом. Накормила малышку Эмми, которая совсем выбилась из сил, а потом уложила рядом с дочерью. Стояла, смотрела на девчушек и думала, что хотела бы родить второго ребенка. Но Филипп Туссен не согласится. Ни за что. Скажет, что у нас и так тесно. Точно скажет. А ведь теснота ни при чем, это наша любовь стала куцей.
Я сказала Селии, бабушке Эмми, что не отпущу ее ночевать в пустой вагон, это слишком опасно, и объяснила, что благодаря забастовке впервые за много лет оказалась в отпуске и принимаю у себя гостью, так пусть поезда не ходят как можно дольше. Если моя мечта исполнится, я наконец просплю больше восьми часов подряд и мне не придется бежать к шлагбауму.
Селия спросила: «Вы живете вдвоем с дочерью?» Я улыбнулась и открыла бутылку очень хорошего красного вина, которую хранила «на случай», который все никак не выпадал.
Мы разлили вино, чокнулись, и после двух бокалов Селия согласилась остаться на ночь в моем доме. Я решила устроить гостью в нашей спальне – мы с Филиппом можем поспать и на диван-кровати, как поступаем два раза в год, когда нас навещают его родители. Они забирают Лео к себе на неделю между Рождеством и Новым годом, а потом на десять дней летом, чтобы съездить на море.
Выпив третий бокал, Селия заявила, что диван-кровать займет она – или уйдет в свое купе.
У этой пятидесятилетней женщины были чудесные голубые глаза и нежный голос уроженки Юга, умиротворяющий душу и сердце.
Я сказала: «Договорились, диван в вашем распоряжении!» – и правильно поступила. Когда Филипп Туссен вернулся, он сразу прошел в спальню и рухнул на кровать, даже не посмотрев в нашу сторону.
«Это мой муж…» – сказала я. Она улыбнулась и промолчала.
Мы сидели в гостиной и разговаривали при открытых окнах. Селия рассказала, что живет в Марселе, и я пошутила: «Солнце вошло в дом следом за вами, обычно ему не удается преодолеть невидимый заслон!»
К часу ночи мы допили бутылку вина, и я постановила: «Так и быть, спите на диване, но я лягу рядом: у меня никогда не было ни подруги, ни сестры, так что я брала в постель только дочку, пока ей не исполнилось полгода, а с подружкой ни разу не ночевала!» Селия ответила: «Согласна, девочка, будем спать вместе».
Этой ночью сбылось одно из моих заветных желаний: пусть и с опозданием, но я поняла, что такое дружба, и компенсировала все те ночи в детстве, когда мечтала остаться ночевать у лучшей подруги, чтобы в комнате по соседству спали ее родители, или украдкой сбегать из дома, чтобы перелезть через забор и присоединиться к мальчикам на мопедах.
Мы не умолкали до шести утра. Задремала я перед рассветом, а в девять меня разбудила Лео:
– Мамочка, в моей кроватке девочка, она не умеет говорить по-французски.
– Эмми немка, милая, – объяснила я, и дочь засыпала меня вопросами.
– А ты почему тут спишь? А папа почему не разделся? А кто эта дама? Почему больше не ходят поезда? Кто эти люди, мама? Эта девочка – наша родственница? Они останутся у нас?
Увы, нет. Через два дня Селия и Эмми уехали.
Когда они поднялись в вагон № 7, я подумала, что умру от огорчения, как будто расставалась с давними друзьями. Все забастовки когда-нибудь прекращаются. Каникулы тоже. Но я встретила первую в моей жизни подругу. Селия высунулась в окно и сказала:
– Приезжай в Марсель, Виолетта, будешь жить с нами, я найду тебе работу… Обычно я никого не сужу, но, раз уж Франция бастует, будем считать участницей стачки и меня. Скажу откровенно – этот муж тебе не подходит. Брось его.
Я ответила, что ни за что не поступлю с Лео так, как судьба обошлась со мной, лишив родителей. Пусть Филиппа Туссена можно назвать отцом с большой натяжкой, но он все-таки отец.
Неделю спустя я получила длинное письмо. Селия вложила в конверт три билета туда и обратно на поезд Мальгранж-сюр-Нанси – Марсель.
Она написала, что у нее есть домик в бухте Сормиу, и мы можем там поселиться. «В холодильнике будет полно продуктов. Не упрямься. Виолетта, приезжай, устрой себе настоящий отпуск, насладись морем вместе с дочерью! Я никогда не забуду твои «стол и кров» и очень хочу, чтобы ты каждый год приезжала ко мне. Ведь ты моя подруга!»
Филипп Туссен заявил, что не поедет, что у него есть «дела поинтересней общения с лесбиянкой». Так он называл всех женщин, с которыми не спал.
«Вот и хорошо, – ответила я, – поработаешь на переезде, пока мы с Лео будем отсутствовать». Идея ему не понравилась: как это так – они будут развлекаться, а он открывать-закрывать шлагбаум? У моего мужа случился внезапный прилив любви, он впервые за шесть лет обратился в профсоюз, и нам моментально нашли подмену.
Две недели спустя, 1 августа 1992 года, мы открыли для себя Марсель. Селия встречала нас на вокзале Сен-Шарль. Я кинулась в ее объятия и сказала: «Боже, как здесь хорошо, на перроне…»
Средиземное море я увидела с заднего сиденья машины. Опустила стекло и расплакалась, как ребенок, испытав самое сильное потрясение за всю мою жизнь. Потрясение величественностью.
35
Все стирается, даже воспоминания.
Любовные письма, часы, помада, колье, роман, детские сказки, мобильник, пальто, семейные фото, календарь за 1966 год, кукла, бутылка рома, пара обуви, ручка, букет засушенных цветов, гармоника, серебряная медаль, сумочка, солнечные очки, кофейная чашка, охотничье ружье, амулет, пластинка на 33 оборота, журнал с Джонни Холлидеем на обложке. Вы бы удивились, узнав, как много всего обнаруживается в гробах!
Сегодня хоронили Жанну Ферней (1968–2017). Поль Луччини по просьбе усопшей положил в гроб групповой снимок ее детей. Последнюю волю людей, как правило, выполняют. Мы не решаемся противоречить мертвым – боимся, что они за непослушание нашлют на нас беды и невезение.
Я только что заперла ворота кладбища и прохожу мимо убранной цветами могилы Жанны, снимаю с букетов целлофан, чтобы дышали.
Покойся с миром, дорогая Жанна.
Возможно, ты уже родилась в другом месте, другом городе, по другую сторону мира. Тебя окружает новая семья. Она празднует твое рождение. Тебя разглядывают, целуют, осыпают подарками, говорят, что ты похожа на мать. Здесь тебя оплакивают. Ты спишь и готовишься все изменить в новой жизни. Здесь ты мертва. Здесь ты – воспоминание, там – будущее.
Машина Селии въехала на узкую извилистую дорогу, спускавшуюся к бухте Сормиу, и «мой взор затмила красота». Лео жаловалась на тошноту, я посадила ее на колени и сказала: «Смотри на море, детка, мы почти приехали».
Мы открыли ставни, чтобы впустить в дом солнце, свет и ароматы.
Цикады – я слышала их голоса только по телевизору – трещали, перекрывая наши голоса.
Мы не стали разбирать чемоданы и надели купальники. Море ждало и манило, обещая счастье, еще сто метров, и вот оно – прозрачно-зеленое, а издалека казалось синим. Это вам не хлорированная жижа городских бассейнов!
Я надула Лео круг в виде лебедя, и мы пошли в воду, взвизгивая от восторга.
Филипп Туссен смешил нас, брызгался, плескался, поцеловал меня солеными губами, и Лео обрадовалась.
У меня закружилась голова, как у всадницы на манеже. Я нырнула, открыла глаза, и соль обожгла их.
Мы провели на море десять дней. Я почти не спала, переизбыток эмоций не давал сомкнуть глаз, и Лео разделяла мою радость.
Мы купались весь день напролет. Ели. Или вслушивались в природу. Или созерцали красоту. Или дышали полной грудью, а вслух произносили всего три фразы: «Чу́дно пахнет», «Чу́дная водичка», «Чудно-чудно-чудно…» Счастье превращает людей в идиотов. Казалось, мы попали в другой мир и родились заново, при ярком свете.
За десять дней Филипп Туссен ни разу с нами не расставался. Занимался со мной любовью, и я отвечала. Мы загорели, напитались солнцем и изображали счастливую пару. Вроде как начали все сначала, но без любви. Мы наслаждались жизнью и делали вид, что забыли про иные небеса.
Лео отбивалась, если я пыталась намазать ее защитным кремом. Брыкалась, когда я затаскивала ее в тень. Моя девочка решила жить обнаженной, в воде. Хотела превратиться в маленькую сирену. Мультяшную героиню.
Все десять дней мы ходили босиком, и я решила, что отпуск и есть босоногость.
Отпуск – это награда, первая премия, золотая медаль. Ее нужно заслужить. И Селия решила, что моя жизнь в приемных семьях, и следующая, с Филиппом Туссеном, заслуга первого порядка!
Несколько раз Селия «инспектировала» наше счастье и удалялась довольная, выпив со мной кофе.
Я осыпа́ла ее словами благодарности, как мужья любимых жен – драгоценностями. Сочиняла панегирики, венки, виньетки, хвалебные оды и не знала устали. В день отъезда я не смогла заставить себя закрыть ставни, попросила Филиппа, не хотела почувствовать, что меня хоронят заживо. Жак Брель пел: «Я сочиню для тебя безумные слова, которые ты поймешь…» Так я и поступила, чтобы утешить Лео.
– Птенчик мой золотой, пора ехать, через сто двадцать дней Рождество, и эти дни пройдут очень быстро. Давай завтра же начнем составлять список подарков для Пер-Ноэля[41], иначе не успеем, а здесь нет ни ручки, ни карандаша, ни бумаги. Только море. Значит, нужно вернуться домой. Поставим елку, украсим ее разноцветными шарами и сами вырежем гирлянды! Если будешь хорошей девочкой, мы перекрасим стены в твоей комнате. В розовый? Как скажешь, маленькая. Ну-ка, вспомни, что будет перед Рождеством? ТВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ! Совсем скоро мы надуем шарики и будем готовиться к празднику. Обувайся, дусечка, быстро-быстро-быстро, соберем чемоданы – и в путь. Снова будем смотреть на поезда, может, какой-нибудь даже остановится и привезет к нам Селию. Ура, домой! А через год вернемся в Марсель. Со всеми твоими подарками.
36
Все знакомые будут тебя оплакивать.
Ирен Файоль и Габриэль Прюдан ушли от могилы Мартины Прюдан, в девичестве Робен. Габриэль погладил выбитые на мраморе буквы и сказал Ирен: «Странно видеть свою фамилию на могильной плите…»
Они брели по аллеям кладбища Сен-Пьер, останавливались у памятников, разглядывали фотографии незнакомых людей, даты их жизни и смерти.
– Я хочу, чтобы меня кремировали, – сказала Ирен.
На парковке Габриэль спросил:
– Чем собираетесь заняться?
– А чем, по-вашему, можно заниматься – после всего этого?
– Любовью. Хочу сорвать с вас бежевые тряпки и увидеть Ирен Файоль в ярких тонах.
Она промолчала. Они сели в пикап и тронулись в путь, переполненные любовью, с алкоголем и печалью в крови. Ирен подвезла Габриэля к вокзалу в Эксе.
– Так вы не хотите заняться со мной любовью?
– В номере отеля, как воры… по-моему, мы заслуживаем лучшего…
– Станете моей женой?
– Я замужем.
– Увы мне…
– Да.
– Почему вы не взяли фамилию мужа?
– Потому что его зовут Поль Сёль. Стань я Ирен Сёль, допустила бы орфографическую ошибку[42].
Они обменялись рукопожатием, не поцеловались, не сказали друг другу ни «до свидания», ни «прощай», и Габриэль покинул пикап. За этот бесконечный день его черный «похоронный» костюм помялся, и выглядел он не лучшим образом. Ирен взглянула на его руки, пообещав себе: «Это не повторится!» Адвокат помахал ей и пошел на платформу.
Она поехала назад в Марсель. Движение на шоссе было свободным, так что через час она окажется дома, где ее ждет Поль. И потекут годы их общей жизни.
Ирен увидит Габриэля «в телевизоре», он будет объяснять, что его подзащитный, несомненно, невиновен. «Все это дело сфабриковано, и я камня на камне не оставлю от обвинений!» Он скажет: «Я докажу, что прав!» – и будет выглядеть возмущенным несправедливостью происходящего, и покажется ей усталым, осунувшимся, даже постаревшим.
По радио зазвучит песня Николь Круазиль «Он весел, как итальянец, если влюблен и пьян», и ноги у Ирен станут ватными, и она упадет в кресло, и вспомнит придорожное кафе и 5 февраля 1984 года. В памяти всплывут обрывки фраз, перед мысленным взором пройдут линялые шторы, тарелка с жареной картошкой, пиво, похороны, белые розы, омлеты и кальвадос.
– Что вы любите больше всего на свете?
– Снег.
– Снег?
– Да. Снег красивый и безмолвный. Когда идет снег, мир замирает и выглядит напудренным… Для меня это чудо, магия, понимаете? Ну а вы чем восхищаетесь?
– Вами. Думаю, с вами ничто не сравнится. Люблю вас, хоть это и странно – встретить женщину своей жизни в день похорон бывшей жены. Возможно, она умерла ради нашей встречи…
– Вы говорите ужасные вещи.
– Может, и так. Все может быть. Я всегда любил жизнь. Я обжора и эротоман. Люблю двигаться и удивляться. Если пожелаете разделить мое жалкое существование, осветить его вашим блеском, добро пожаловать!
Думая о Габриэле Прюдане, Ирен всегда будет вспоминать его щегольство и рисовку.
«Довольно! Живи настоящим, забудь о сослагательном наклонении…» – скомандовала она себе, включила поворотник, развернулась и на полной скорости понеслась обратно.
Ирен бросила пикап у вокзала, на служебной стоянке, и побежала на перрон. Лионский поезд ушел, но Габриэль остался. Он сидел в кафе и курил. Когда он доставал из пачки первую сигарету, официантка предупредила: «Здесь не курят, мсье!» Он ответил: «Я не воспринимаю безличную форму глаголов…»
Увидев Ирен, Габриэль улыбнулся.
37
Я тебя любила, я тебя люблю, я буду тебя любить.
Элвис поет Don’tBeCruel[43] для Жанны Ферней (1968–2017). Я слышу его голос издалека. Гастон отправился за покупками. Три часа дня, пустое кладбище заполняет песня Элвиса: Don’t becruel to aheart that’s true, I don’t want no other love, baby, it’s just you I’m thinking of…[44]
Он часто проникается симпатией к покойнику-«новобранцу» и чувствует, что обязан сопроводить его в лучший мир.
Погода стоит изумительная, и я, пользуясь случаем, высаживаю хризантемы. Им понадобится пять месяцев, чтобы набрать цвет ко Дню Всех Святых.
Я не слышу, как он входит и закрывает за собой дверь. Пересекает кухню, поднимается в мою комнату, растягивается на моей кровати, спускается, пинает ногой кукол и выбирается из дома через заднюю дверь в мой личный садик. Я выращиваю их и продаю каждый день, чтобы немного укрепить наше финансовое благосостояние, ведь сам он о нас не заботился.
– Baby, if I made you mod, for something I might have said, please, let’s forget the past…[45]
Знал ли он, что Ноно сегодня отсутствует? Что на этой неделе братья Луччини не придут? Что никто не умер? Что мы окажемся одни?
– Thefuturelooksbrightahead…[46]
Я не успеваю среагировать. Встаю – руки в земле, у ног рассада и лейка, – оборачиваюсь к его огромной, угрожающей тени… получаю удар ледяным кинжалом в сердце и застываю. Филипп Туссен смотрит мне в глаза из-под козырька мотоциклетного шлема.
«Он вернулся, чтобы убить. Он вернулся. Ты дала себе слово, что не будешь страдать!»
Я успеваю проговорить это про себя. Думаю о Лео. Не хочу, чтобы она увидела, но голос пропал.
Кошмар или реальность?
– Don’t be cruel to a heart that’s true, I don’t want no other love, baby, it’s just you I’m thinking of…
Я не понимаю, что выражает его взгляд – презрение, страх или ненависть. Думаю, он оценивает меня как меньше, чем ничто. Словно за прошедшее время я стала еще ничтожнее. Так относились ко мне его родители. Особенно мать. А я успела забыть…
Он хватает меня за руку и очень крепко сжимает. Делает больно. Намеренно. Я не вырываюсь. Не кричу, потому что превратилась в соляной столб, как жена Лота. Не верила, что однажды его руки снова коснутся меня.
– Don’t stop thinking of me, don’t make me feel this way, comt on over here and love me…[47]
То, что я сейчас переживаю, навсегда внушает человеку спасительную убежденность: «У меня все хорошо!» Мы от природы наделены фантастической способностью самовосстановления. Мы выжигаем страдания и сбрасываем их, как отжившую кожу, слой за слоем. Колодец забвения неисчерпаем. Как и «запасные» жизни.
– You know what I want you to say, don’t be cruel to a heart that’s true…[48]
Я закрываю глаза. Не хочу на него смотреть. Довольно того, что придется слушать.
– Я привез письмо, которое получил от твоего адвоката… Слушай внимательно, очень внимательно… Ты больше НИКОГДА не напишешь мне на этот адрес, поняла? Ни ты, ни твой адвокат. НИКОГДА. Я не желаю встретить твою фамилию даже на грязном клочке бумаги, иначе я тебя… я тебя…
– Why should we be apart? I really love you, baby, cross my heart…[49]
Он заталкивает конверт в карман моего фартука и исчезает. Я падаю на колени. Слышу, как отъезжает мотоцикл. Больше он не вернется. Теперь нет, я уверена. Он простился со мной. Все кончено. Завершено.
Я разворачиваю письмо юриста, которого нанял мэтр Руо. Его зовут Жиль Легардинье[50], как писателя. Он информирует Филиппа Туссена, что Виолетта Туссен, в девичестве Трене, подает в суд высшей инстанции Макона прошение о разводе по взаимному согласию.
Поднимаюсь наверх принять душ. Вычищаю землю из-под ногтей. Отскребаю его ненависть, которую он передал мне как вирус. Собираю кукол, снимаю покрывало и запихиваю его в пакет, чтобы отнести в чистку. Так поступают, когда дом осквернили преступлением и хозяева пытаются изничтожить все следы.
Преступление – это он. Его шаги у меня за спиной. Его присутствие в моих комнатах. Воздух, который он вдыхал и выдыхал на стены. Я проветриваю. Разбрызгиваю розовую воду.
Захожу в ванную, смотрюсь в зеркало и вижу бледное до прозрачности лицо. Кажется, кровь больше не циркулирует по жилам. Рука посинела, на запястье остались следы его пальцев. Ничего, я очень быстро «наращу новую кожу». Я это умею – всегда так делала.
Прошу Элвиса заменить меня на час. Он смотрит – и как будто не понимает.
– Ты меня слышал, Элвис?
– Ты белая как мел, Виолетта. Совсем белая.
Я вспоминаю молодых ребят, которых напугала несколько лет назад. Сегодня мне не понадобился бы костюм-саван, хулиганы сбежали бы, увидев мое лицо.
38
Воспоминания о счастливых днях смягчают боль.
И мы вернулись домой, чтобы наделать гирлянд для новогодней елки. Оставили море за спиной, но не забыли о нем.
В поездах, которые везли нас на переезд в Мальгранж-сюр-Нанси, мы с Лео рисовали кораблики на волнах бирюзовыми фломастерами, купленными в киоске на вокзале. Рисовали солнышки, рыб и цикад, а Филипп Туссен проверял качество своего загара на девушках из нашего вагона, на тех, с кем сталкивался на перронах, в вагоне-ресторане. Мой муж притягивал взгляды всех женщин.
«Подменщики» ждали нас на пороге, едва поздоровались, а прощаясь, буркнули что-то невнятное. Не дали времени даже чемоданы разобрать, сказали, что все прошло нормально, и отчалили, оставив после себя немыслимый бардак. Слава богу, хоть в комнате Лео не нагадили. Она села на свою маленькую кровать и составила два списка: один деньрожденный, другой – новогодний.
Я взялась за уборку, а Филипп Туссен поехал прошвырнуться. Хотел наверстать упущенное время. Потерянное со мной в хижине на берегу моря.
На следующий день я все вычистила, и жизнь вошла в привычное русло. Я по расписанию поднимала и опускала шлагбаум, Филипп ездил на мотоцикле.
Мы с Лео вместе принимали пенные ванны и без конца разглядывали летние фотографии. Мы развесили их по всему дому, чтобы не забывать.
В сентябре, в перерыве между двумя поездами, я перекрасила стены в розовый цвет. Лео помогала – возилась с плинтусами (я потом незаметно подправила все огрехи).
Она пошла в первый класс. Очень скоро похолодало, и наступила зима.
Мы вырезали гирлянды из цветного картона и купили синтетическую елку, чтобы каждый год не губить живые деревья.
Я сказала себе, что к следующему Рождеству моя дочь перестанет верить в Пер-Ноэля. Кто-нибудь из детей постарше расскажет ей, что «никакого бородатого старика не существует». Всю жизнь находятся взрослые, готовые нас разочаровывать.
Меня устраивало, что Филипп Туссен охотится на всех «особей в юбках». Я больше не хотела близости с ним. Мне требовался отдых, а поспать удавалось недолго, между последним вечерним и первым утренним поездом. Я нуждалась в покое, а его когда-то столь желанное тело вызывало отторжение, стало обузой.
Иногда, слушая по радио песни, я мечтала о принце. Мужские и женские голоса произносили нежные, безумные, яростные слова, они обещали счастье. По вечерам я рассказывала Лео истории. Ее комната была моим убежищем, земным раем, где в феерическом беспорядке спали растрепанные куклы и медведи, валялись вперемешку жемчужные бусики, фломастеры и книжки.
Я могла бы страдать из-за того, что мне было не с кем поговорить – кроме дочери и Стефани, кассирши из «Казино». Она вечно комментировала мои дежурные покупки. Советовала взять новую жидкость для мытья всего и вся: «Видела рекламу по телевизору? Разбрызгиваешь по раковине, ждешь пять минут. Смываешь, и жира как не бывало. Попробуй, не пожалеешь!»
У нас не было тем для разговора. Мы не могли сблизиться по-настоящему. Иногда она приходила ко мне выпить кофе, и я радовалась. Стефани была милой и доброй, она приносила пробники шампуней и кремов для тела. Часто говорила: «Ты – хорошая мать, это точно, очень внимательная», – и возвращалась на кассу или шла раскладывать товар по полкам.
Каждую неделю приходило пространное письмо от Селии, и я угадывала между строк ее улыбку. Если не было времени написать, мы перезванивались – вечером, по субботам.
Филипп Туссен ужинал со мной, после того как я укладывала Лео. Мы обменивались парой банальных фраз и никогда не ругались. Наши отношения были сердечными и… никакими. Впрочем, люди, которые не кричат, не впадают в гнев и безразличны друг другу, иногда способны на ужасную жестокость. Мы не били посуду. Нам не приходилось закрывать окна, чтобы не беспокоить своими скандалами соседей. Мы жили тихо.
Доев, Филипп уезжал проветриться или садился к телевизору, а я открывала книгу Ирвинга. За десять лет совместной жизни Филипп Туссен так и не заметил, что я читаю один и тот же роман. Случалось, мы вместе смотрели какой-нибудь фильм, но даже тут наши вкусы расходились. Филипп часто засыпал в кресле.
Последний поезд Нанси – Страсбург проходил в 23.04, следующий, Страсбург – Нанси, в 04.50, в этом промежутке я и спала. Подняв шлагбаум перед утренним пассажирским, я шла в детскую взглянуть на спящую дочку. Многих успокаивает и утешает вид моря, а у меня была Лео.
Я много лет жила с Филиппом и не злилась на его частые отлучки. Я не чувствовала одиночества – оно отскакивало от меня, не причиняя боли. Одиночество и скука рождаются в пустой душе, мою заполняло множество разных жизней: моя дочь, мое чтение, моя музыка и – главное – воображение. Проводив Лео в школу и закрыв книгу, я включала музыку, бралась за стирку-уборку-готовку и мечтала. Знали бы вы, сколько разных судеб я придумала себе, живя в Мальгранж-сюр-Нанси!
Леониной я занималась каждый день, по многу часов. Филипп Туссен сделал мне лучший из всех возможных подарков, а в дополнение передал дочери свою красоту. Вот только привлечь внимание отца надолго наша малышка не могла – через пять минут он отвлекался на что-нибудь другое. Если Лео задавала Филиппу вопрос, отвечала я. Заканчивала за него фразы. Их отношения были скорее приятельскими, и он даже катал ее на мотоцикле вокруг дома. Недолго, минут десять, потому что скорости Леонина боялась.
Думаю, что с сыном Филипп Туссен легче нашел бы общий язык, а баб он за людей не держал, будь им три года или тридцать лет. Баба никогда не заменит парнишку, с которым можно поиграть в футбол и суперзвуковой космолет. Он не распускает нюни, упав на поле, и ловко управляется с рычагами и рулем. А Леонина – девчонка, ярко-розовая, в блестках.
Она была записана в библиотеку Мальгранж-сюр-Нанси. Ее зал примыкал к мэрии и был открыт дважды в неделю, в том числе в среду после обеда. И каждую среду, пропустив поезд в 13.27, мы брались за руки и отправлялись сдавать прочитанные книги и пополнять запас на неделю. На обратном пути мы заходили в «Казино», Стефани дарила Лео леденец, а я покупала знаменитый «мраморный» кекс от папаши Броссара. В 16.05 я поднимала шлагбаум, заваривала Лео настойку из апельсиновых цветов, наливала себе чай, и мы полдничали.
В три года Леонина начала выходить на крыльцо, чтобы помахать пассажирам каждого проходящего мимо нас поезда. Это стало ее любимой игрой. Некоторые люди тоже ждали встречи с «девчушкой» и смотрели в окно.
В Мальгранж-сюр-Нанси поезда не останавливались, первая станция была с семи километрах, в Бранже. Стефани много раз отвозила нас туда на машине, а возвращались мы поездом Бранж – Нанси: Лео обожала эти «путешествия».
Никогда не забуду, как она пищала от восторга в самый первый раз, наверное, даже парк аттракционов доставил бы ей меньшее удовольствие. Мы проехали мимо нашего дома, и отец помахал ей с крыльца. Поразительно, как радует детей смена ролей…
Рождество 1992 года мы отпраздновали втроем, как и каждый год. Филипп Туссен дал мне чек и сказал: «Покупай что хочешь, но не очень дорогое». Я подарила ему «Pour un homme» от «Карона» и красивые шмотки.
Иногда мне казалось, что я одеваю мужа и выбираю ему косметику, чтобы он продолжал нравиться другим женщинам. И самому себе, что важнее. Потому что, любуясь собственным отражением в зеркалах, ловя на себе восхищенные взгляды, он не замечал меня. Именно этого я и хотела. Мужчина не бросает женщину-невидимку, которая не устраивает сцен, не шумит, не хлопает дверями. Очень практичный вариант.
Для Филиппа Туссена я была идеальной женой, которая не создает проблем. Он никогда не оставил бы меня из-за страсти: я интуитивно понимала, что мой муж одерживает победы, но не влюбляется, женщины «метят» его своими запахами, но не затрагивают душу.
Думаю, у меня в мозгу изначально существовала доминанта: Не вздумай никого беспокоить! Ребенком, в приемных семьях, я говорила себе: Веди себя тихо, может, они тебя и оставят.
Я знала, что наша с Филиппом любовь давно угасла, покинула стены дома и уже не вернется. Хижина на берегу Средиземного моря и соленые поцелуи были всего лишь коротким рецидивом, я привечала Филиппа Туссена, как соседа по комнате в студенческом общежитии, понимая, что раздражать мужа опасно: с него станется исчезнуть и забрать Лео.
Моя дочь получила все заказанные на Рождество подарки: личные книги, пластинку с песней «Голубой пес» в исполнении группы «Nadja»[51], платье принцессы, видеокассеты, куклу с рыжими волосами и новый набор юной колдуньи с двумя волшебными палочками, магическими игральными картами и колодой для гадания. Лео всегда обожала показывать всякие трюки и с детства мечтала стать фокусницей, доставать из шляпы кроликов и отправлять предметы в параллельный мир.
Следующий день был праздничный, поезда ходили реже – один из четырех. Я отдыхала, играла с дочкой и восхищалась ее «исчезательными» трюками с разноцветными платками.
Вечером я собрала ее чемодан. Утром 26 декабря, как и каждый год, родители Филиппа Туссена приехали за Леониной, чтобы увезти ее на неделю в Альпы. Пробыли они в доме недолго, но мать с сыном все-таки уединились на кухне, чтобы пошептаться. Она наверняка отдала ему подарочный чек, я получила конфеты «Пьяная вишня». Не Mon Chéri, классом ниже – Mon Trésor.
На сей раз я стояла на крыльце и махала Лео, когда машина Туссенов-старших отъезжала. Дочка улыбалась, на коленях у нее лежал набор юной колдуньи. Она опустила стекло и сказала: «Увидимся через неделю, мамочка!» – и послала мне три воздушных поцелуя. Я их сберегла.
Каждый раз, когда огромная машина исчезала из виду, я содрогалась от мысли, что могу не дождаться дочь обратно, пыталась не думать о плохом, но заболевала, у меня даже температура поднималась.
Всю следующую неделю я наводила порядок в детской: розовые стены и куклы меня утешали.
Тридцать первого декабря мы с Филиппом Туссеном встретили Новый год у телевизора, ели его любимые блюда. Стефани, как обычно, подарила нам нереализованные подарочные наборы. «Виолетта, – предупредила она, – это нужно употребить до послезавтра, потом все…»
Леонина позвонила 1-го утром.
– С Новым годом, мамочка! С Новым годом, папочка! Я сегодня сдам на первую звезду!
Она вернулась 3-го, сияя румянцем и счастьем. Я успокоилась. Родители Филиппа уехали через час. Лео с гордостью продемонстрировала мне звездочку, приколотую к свитеру.
– Смотри, мамочка!
– Браво, милая!
– Я теперь умею спускаться с горы.
– Браво-браво-бис!
– Можно мне поехать на каникулы с Анаис?
– Кто такая Анаис?
39
Мы не способны разглядеть главное.
– Сейчас никто не умирает.
Отец Седрик, Ноно, Элвис, Гастон, Пьер, Поль и Жак беседуют на моей кухне. У братьев Луччини уже месяц не было клиентов. Все пьют кофе, расположившись за столом, и едят мой шоколадный торт, наслаждаясь, как будто он именинный.
Я закончила с хризантемами. Из открытой двери доносятся голоса.
– Все дело в погоде. Когда на улице хорошо, смертей становится меньше.
– Я сегодня вечером иду на родительское собрание, терпеть это не могу. Каждый учитель наверняка заявит, что мой парень ни черта не делает – кроме глупостей.
– Мы занимаемся очень человечным делом. Встречаемся с растерянными родственниками, для них очень важно, чтобы церемония прошла безупречно, тогда они смогут с достоинством носить траур. Мы не имеем права на ошибку!
– В прошлое воскресенье я крестил двух детей, близнецов, было очень трогательно.
– Наша профессия отличается от других, мы трудимся в сфере эмоционального, а не рационального.
– Но мы и глупостей понаделали немало!
– Ты о чем?
– Да об ошибках, будь они неладны! У каждой семьи свой пунктик, что подходит одним, не годится для других. Бог в деталях, во всяком случае, так говорят. Взять, к примеру, моего последнего клиента: ему было важно одно – чтобы часы надели на правую руку.
– Смотрел вчера по телевизору отличный фильм, с этим актером, блондинистым, ну, вы знаете, фамилия на языке вертится…
– Нельзя делать орфографические ошибки, когда выписываешь свидетельство о смерти, имена и фамилии нужно проверять дважды.
– До скольких работает «Брикомарше»? Нужно купить одну деталь для газонокосилки.
– Все дело в отношении к покойному. Мужа к жене, детей к родителям.
– Я недавно встретил эту милую даму… мадам Дегранж, ее муж работал у Тутагри.
– Осторожно, Гастон, кофе проливаешь.
– И не забывай о религиозном аспекте и о чувствах.
– Парикмахер, ну ты его знаешь, Жанно, жаловался, что у жены проблемы со здоровьем.
– Парадоксально, но из тех, кто к нам приходит, плачут немногие, остальные думают о гробе, кладбище, отпевании.
– А ты что об этом скажешь, старушка Элиана? Хочешь кусочек пирога или тебя приласкать?
– А когда заговариваешь с ними про музыку, тексты, всякие там знаки внимания – много чего надо сделать, – они готовы предоставить свободу выбора нам.
– Что-то мы давно не видели Виолеттиного комиссара…
– Я каждый раз удивляюсь, когда меня благодарят: «Было очень красиво…» Это все-таки похороны, не праздник какой-нибудь.
– Говорю вам, легавый влюбился! Заметили, как он смотрит на нашу Виолетту?
– Людей хоронят пять тысяч лет, но рынок наш сейчас в процессе обновления. Мы, так сказать, отряхиваем с него пыль времен.
– Вчера вечером Одиль приготовила нам утку в карамели.
– Наши похоронные обряды изменились, раньше на День Всех Святых могилы просто усыпали цветами. А теперь люди не живут там, где остались их родители и бабушки с дедушками.
– Не представляю, кто будет нашим следующим президентом… Но только не блондинка[52].
– Теперь и с памятью поступают иначе: кремируют. Обычай меняется, цены растут, люди заранее организуют собственные похороны.
– Да не морочься ты, все они одинаковы, и правые, и левые, только о том и думают, как бы набить карманы… Важно, что остается у нас в кошельке к концу месяца, а это никогда не изменится.
– Можешь представить: к 2040 году двадцать пять процентов французов будут оставлять распоряжения о похоронах?
– Не согласен! Не забывайте, что законы принимают они.
– Все зависит от семьи. Для некоторых разговоры о смерти – табу. Как секс.
– Для тебя, господин кюре, все едино.
– Мы представители смерти на земле, потому и кажемся людям печальниками.
– Вкусный салат с теплым козьим сыром, моллюсками и капелькой меда.
– Если похороны закрытые, говорят: «Гроб стоит в погребальном зале», – а если гражданские, то в «похоронном».
– Я уже вытащил в сад мангал.
– Туалет, одевание, бальзамирование по полному разряду. Закона пока нет, но его скоро примут, это вопрос гигиены.
– Они откроют новый магазин на месте Карна. Скорее всего, булочную.
– Проект закона: нельзя держать усопших дома.
– Вчера все пробки вылетели, наверное, стиральная машина барахлит, вот и коротит.
– По мне, есть место для живых и место для мертвых. Оставляешь покойника в доме – рискуешь испортить себе траур.
– До чего же она хороша! Уж я бы не растерялся, окажись эта штучка у меня в койке!
– У меня одно правило – слушаться сердца.
– Поедешь отдыхать этим летом?
– Когда открылись, я решил: Не буду делать дорогие гробы для кремации. Типичная ошибка дебютанта. Отец спросил: «С чего ты взял, что могила лучше печи? Если семье хочется вложить состояние в дорогущий гроб, который пойдет в огонь, это их заморочки, но запретить людям так поступать ты не вправе. Жизнь их тебе неведома, так уж будь любезен, не указывай!»
– А я вам говорю, что пенсия – начало конца.
– Со временем я понял правоту отца… Многие тратят астрономические суммы на гроб. Зачем? Понятия не имею…
– Мы едем в Бретань, к деверю.
– Это устраивают парни из города, в начале июля. Лично я люблю рыбную ловлю, никто тебе не надоедает, а рыб я выпускаю назад в реку.
– По закону на похороны отводится шесть дней.
– Он дает уроки игры на пианино. Уже три года здесь. Дылда, всегда одет, как франт, как будто собрался выступать на телевидении.
– Прах делить на части нельзя, для закона он все равно что тело.
– Добавляешь лук и тушишь грибочки в сметане. Пальчики оближешь!
– Над морем прах рассеивают только в кино, в жизни так не делают: судно движется, ветер дует, прах всплывает на поверхность. Если решил исполнить волю покойного, покупай биорастворимую урну и выбрасывай в море в километре от берега.
– Скольких детишек ты учишь Закону Божьему, господин кюре? Небось нагрузка не душит?
– С этими похоронными контрактами люди больше не желают тратить тысячи евро на семейные могилы, особенно если дети переехали в Лион или Марсель. Многие говорят: «Мы были против кремации, но теперь передумали, пускай дети пользуются деньгами, пока мы живы». Я соглашаюсь.
– У меня три венчания в июле и два в августе.
– И все-таки странно организовывать свои похороны, видеть свое имя на памятнике, стоя рядом с ним.
– Я сказал мэру, что с движением нужно что-то делать, уже сейчас день на день не приходится, а дальше будет только хуже.
– Те, кто придумывает план собственных похорон, не горюют, не переживают свежую утрату и тратят вдвое меньше денег.
– Вот уж кто будет доволен, так это ветеринар!
– В похоронном бизнесе запрещено запрещать. И все-таки я не советую родным присутствовать на эксгумациях.
– Вы видели второй гол? Шедевр… Прямо под верхнюю стойку.
– Нужно сохранять красивый образ любимого человека. Терять близких тяжело, хоронить невесело… Хорошо, что искусство бальзамировки совершенствуется, в девяти случаях из десяти удается добиться прекрасных результатов, создать впечатление, что человек спит. Я наношу макияж, придаю коже естественный вид, одеваю, брызгаю духами или одеколоном, которым пользовался усопший.
– Не знаю, нужно взглянуть, может, дело в прокладке головки блока цилиндров. Если да, ремонт влетит в копеечку.
– Это ужас, но не ужасный ужас. Две недели назад я сорвал крыло катафалка, разбил мобильник, в доме случилась протечка… Неприятно, но не катастрофа.
– На днях Элвис открыл дверь бытовки и наткнулся на шефа, Дармонвиля, тот имел матушку Реми. Простите, господин кюре. Элвис сбежал.
– Чаще говорить людям, что любишь их, пока они живы, и больше общаться. Я сегодня радуюсь жизни больше чем раньше. На многое смотрю как бы со стороны.
– Lovemetender…
– Я не утверждаю, что нужно быть равнодушным крокодилом. Я понимаю чужую боль, но не надеваю траур. Я не был знаком с усопшим.
– Если знал человека, переживаешь сильнее.
40
Бабушка очень рано научила меня собирать звезды: поставь ночью таз с водой посреди двора – и они у твоих ног.
Я отправилась к мэтру Руо и попросила ничего больше не предпринимать. Сказала, что он, конечно же, прав, Филипп Туссен исчез, на этом и нужно остановиться. Не ворошить прошлое.
Мэтр Руо не стал мучить меня вопросами. Он позвонил адвокату Легардинье и сообщил, что клиентка хочет остановить процедуру и ей все равно, какую фамилию она сегодня носит – Трене или Туссен.
Обращаясь ко мне, люди говорят: «Виолетта» или «мадемуазель Виолетта». Возможно, слово «мадемуазель» вычеркнули из французского языка, но не на моем кладбище.
На обратном пути я прошла мимо могилы Габриэля Прюдана. Одна из моих сосен отбрасывала тень на урну с прахом Ирен Файоль. Прибежала Элиана, что-то глухо проворчала на своем собачьем языке и уселась у моих ног. Следом за ней из ниоткуда материализовались Муди Блю и Флоранс, потерлись о меня и растянулись на могильной плите. Я наклонилась, погладила зверушек по теплым мохнатым животам и спросила себя: «Интересно, это Габриэль и Ирен общаются со мной через кошек? Подают знак – как Лео, машущая с крыльца пассажирам проходящих мимо поездов?»
Я представила себе вокзал в Эксе, Ирен бежит по платформе, смотрит вслед уходящему поезду, а Габриэль сидит в кафе. Почему она не ушла от Поля Сёля, зачем вернулась домой? И почему захотела после смерти лежать рядом с ним? Воображала, что у них впереди не жизнь, а вечность? Вернется ли Жюльен Сёль, чтобы рассказать мне продолжение истории?
Все эти вопросы неизбежно переключили мои мысли на Сашу.
Появился Ноно. Спросил:
– Мечтаешь, Виолетта?
– Можно и так сказать…
– У братьев Луччини клиент.
– Кто?
– Жертва автоаварии… Кажется, в плохом состоянии.
– Ты его знал?
– Никто не знал. Документов при нем не оказалось. Неопознанный.
– Странно.
– Городские нашли его в кювете, похоже, бедняга пролежал там дня три, не меньше.
– Три дня?
– Угу… Мотоциклист.
В похоронном бюро Пьер и Поль Луччини объясняют, что ждут полицейского заключения. Через несколько часов тело отвезут в Макон. Судебный медик настаивает на вскрытии.
Обстановка напоминает съемочную площадку дешевого детектива с третьесортными артистами и неумело поставленным светом. Поль показывает мне тело погибшего. Только тело, не лицо. «Лица не осталось…» – объясняет он.
– Вообще-то, я не должен никого к нему допускать. Но на тебя запрет не распространяется. Мы никому не скажем. Думаешь, узна́ешь его?
– Нет.
– Так зачем смотреть?
– Для очистки совести. Он был без шлема?
– Надел, но не застегнул.
На столе лежит обнаженный мужчина. Поль прикрыл салфетками лицо и промежность. Все тело – один сплошной кровоподтек. Впервые вижу мертвеца воочию. Обычно я имею дело с усопшими, когда они уже «упакованы», как говорит Ноно. Мне становится дурно, ноги подкашиваются, глаза заволакивает темная пелена.
41
Земля тебя скрывает, но от моего сердца спрятать не может.
Третьего января 1993 года, перед тем как уехать, мамаша Туссен дала мне брошюру. Анаис – подруга Катрин (свекровь ни разу не назвала мою дочь Леониной!), девочка из «очень хорошей семьи», мы познакомились в Альпах. Отец – врач, мать – рентгенолог. Свекровь всегда произносит слова «врач» и «адвокат» с придыханием. Они вызывают у нее такой же восторг, как у меня – плавание в Средиземном море с маской и в ластах.
Анаис была в одной лыжной группе с Лео, они вместе получили первую звезду. По счастливой случайности семья Анаис жила в Максвилле, недалеко от Нанси.
Мне сообщили, что Анаис каждый год отправляют на каникулах в Ла Клейет, что в департаменте Сона-и-Луара, и будет замечательно, если Леонина поедет с ней в июле. Родители Анаис предложили отвезти ее на своей машине, и Шанталь согласилась, даже не посоветовавшись с нами, потому что будет ужасно, если бедная малышка Катрин проведет этот жаркий месяц у железной дороги… Мадам Туссен всегда говорила о внучке жалостливым тоном, как будто свято верила, что только она может избавить ее от несчастья быть моей дочерью.
Я не стала отвечать. Не сказала, что «бедной малышке» в любое время года нравится ее жизнь в доме у переезда. Что летом мы много чем занимаемся между поездами, например, надуваем бассейн и ставим его в саду, он хоть и маленький, но купаться в нем весело, и мы смеемся. Слово «смех» не входило в лексикон родителей Филиппа.
Я сказала:
– В августе мы будем в Сормиу, а в июле Лео может поехать с подружкой – если захочет.
Они отбыли, а я открыла рекламный буклет летнего лагеря Нотр-Дам-де-Пре в Ла Клейет. «Отдыха не знает только наше серьезное отношение к делу» – под этим слоганом, на фоне голубого неба, были перечислены условия записи в лагерь. Видимо, автор буклета напрочь исключил дождь из программы. На первой странице он разместил фотографии очень красивого замка и большого озера. На следующей был представлен буфет – за столами сидели дети лет десяти, мастерская, где ребятишки учились рисовать, пляж у озера – там они купались. На снимке самого большого формата юные «курортники» сидели на пони, на цветущем лугу.
Почему все маленькие девочки мечтают прокатиться на пони?
Лично я стала их бояться после фильма «Унесенные ветром», меня меньше пугали даже прогулки на мотоцикле, когда Филипп сажал Лео себе за спину и катал вокруг дома!
Бабушка Туссен заморочила Лео голову: «Этим летом ты будешь ездить верхом на пони вместе с Анаис». Магическая фраза, заставляющая мечтать любую семилетку.
Шли месяцы, проходили мимо поезда. Леонина поняла разницу между сказкой, газетой, словарем, стихотворением и изложением. Она решала задачки: «Мне подарили тридцать франков на Рождество. Я купила свитер за десять франков и пирог за два франка, потом мама дала мне карманные деньги – пять франков. Сколько у меня осталось к Пасхе?» Моя дочь изучала Францию по карте, запомнила названия больших городов, место нашей страны в Европе и мире. Она отметила красным фломастером Марсель. Показывала фокусы и «колдовала»: заставляла исчезать все предметы. Неизменным оставался только беспорядок у нее в комнате.
Наступил день, когда Лео с гордостью предъявила мне дневник с записью: «Переведена во второй класс».
Тридцатого июля 1993 года родители Анаис заехали за моей дочерью.
Они оказались очаровательными людьми. Как будто сошли со страниц рекламного буклета. Их глаза были голубыми, как небо. Лео и Анаис жарко обнялись. Малышки смеялись, не умолкая. Я даже подумала: Со мной она так не веселится.
– Я устала и хотела бы отдохнуть…
Жюльен Сёль плохо выглядит, наверное, все дело в лампах дневного света и стенах больничной палаты гнусно-неопределенного цвета. Ноно вызвал комиссара, когда я потеряла сознание у братьев Луччини. Он считает нас любовниками и справедливо решил, что Жюль обо мне позаботится. Весельчак Ноно заблуждается: никто не поможет мне, кроме меня самой.
Комиссар выглядит встревоженным, но я в силах выговорить одно: «Я устала и хотела бы отдохнуть».
Не поверни Ирен Файоль назад с полдороги между Эксом и Марселем, чтобы перехватить на вокзале Габриэля Прюдана, Жюльен Сёль не оказался бы на моем кладбище. Если бы Жюльен Сёль не разглядел подол красного платья, выглядывающий из-под темно-синего пальто, когда я вела его утром к могиле Габриэля Прюдана, он не влез бы в мою жизнь. И не нашел бы Филиппа Туссена. А тот не получил бы письма с просьбой о разводе и ни за что не вернулся бы в Брансьон. Вот от какой малости зависит иногда наша судьба.
Я никому, даже Ноно, не сказала, что Филипп Туссен навестил меня на прошлой неделе, но Жюльен Сёль, войдя в палату, сразу приметил синяки у меня на руках. Ищейка есть ищейка! Он ничего не сказал, но посмотрел выразительно.
Случилась немыслимая вещь: выйдя из моего дома, Филипп Туссен убился на том самом месте, где погибла Рен Дюша (1961–1982), в трехстах метрах от кладбища. Кое-кто уверяет, что именно ее призрак бродит летними ночами по обочине дороги.
Видел ли ее Филипп Туссен? Почему он не застегнул шлем, если не удосужился снять его, входя и выходя? Почему при нем не оказалось документов?
Жюльен Сёль встает – ему пора. Обещает вернуться, спрашивает:
– Вам что-нибудь нужно?
Я молча качаю головой, закрываю глаза и в тысячный, может, больше, а может, и меньше раз вспоминаю.
Родители Анаис уехали не сразу – захотели поближе познакомиться. Дать девочкам время заново освоиться друг с другом.
Мы пошли к Джино, в пиццерию эльзасцев, ни разу не бывавших в Италии. Филипп Туссен остался дома, чтобы обслужить поезда в 12.14, 13.08 и 14.06. Он был не против, потому что терпеть не мог общаться с незнакомыми людьми и называл бабскими разговоры об отпуске, детях и пони.
Девочки ели пиццу с глазуньей, болтая о пони, купальниках, втором классе, первой лыжной звезде, фокусах и солнцезащитных кремах.
Родители, Анаис Армель и Жан Коссен, взяли блюдо дня. Я последовала их примеру, подумав, что платить за всех придется мне. Это самое малое, чем я могу ответить людям, бесплатно везущим Леонину в лагерь. Деньги за путевку я уже послала, так что после этого обеда могу остаться на бобах.
Эта мысль терзала меня неотступно, я спрашивала себя, как буду разбираться с банком, и подсчитывала: Три блюда дня, два детских меню плюс напитки. Помню, что сказала себе: Слава богу, что им сразу в дорогу и можно не заказывать вино. Филипп Туссен по-прежнему ничего мне не давал. Мы втроем жили на мою зарплату.
Помню еще, что Коссены спросили: «Вы такая молодая, сколько же вам было лет, когда родилась Катрин?» Эти люди не знали, что Леонину зовут Леонина. Лео размазывала желток ломтиком пиццы и смеялась.
Я сказала себе: Ну вот, она выросла и у нее появилась настоящая подруга. Мне для этого понадобилась забастовка железнодорожников, и случилось это в двадцать четыре года.
Я отвечала: «Да… нет… о… а… конечно… это восхитительно» – время от времени смотрела в голубые глаза собеседников, но не слушала их. Не могла отвести взгляд от Лео и считала: Три блюда дня плюс два детских меню плюс пять напитков.
Лео болтала и смеялась. У нее выпали два зуба, и ее улыбка напоминала клавиатуру пианино, забытого на чердаке. В тот день я заплела ей две косички – в дороге так будет удобнее.
Перед уходом из ресторана моя дочь «испарила» бумажные салфетки. Лучше бы сделала это со счетом! Я расплатилась чеком, дрожа от страха: «Умру от стыда, если не хватит денег». Вот ведь как странно: весь Мальгранж знал, что муж мне изменяет, но взгляды прохожих на Гран-Рю меня не волновали, а если станет известно, что я выписываю необеспеченные чеки, придется запереться дома.
Мы вернулись к шлагбауму. Лео села в машину Коссенов, на заднее сиденье, рядом с Анаис. Своего маленького плюшевого тудукса[53], любимого с младенчества, она незаметно спрятала в сумку – не хотела выглядеть маленькой перед Анаис.
Я дала Лео коккулин, потому что ее укачивало, а проехать предстояло сто сорок восемь километров, и положила в карман пузырек на обратную дорогу.
Армель Коссен сказала:
– Мы будем на месте ближе к вечеру, и я сразу вам позвоню.
Убирая вещи дочери, я нашла список, составленный две недели назад, чтобы ничего не забыть, складывая чемодан.
Карманные деньги, 2 купальника, 7 маечек, 7 пар трусиков, сандалии, кроссовки (сапоги для верховой езды предоставляются), защитный крем, шляпка, солнечные очки, 3 платья, 2 спортивных костюма, 2 пары шортов, 3 пары брюк, 5 футболок (простыни и полотенца предоставляются), 2 махровые простыни, 3 комикса, шампуни – «без слез» и от вшей, зубная щетка, клубничная паста, 1 теплый свитер, 1 жакет на вечер + ветровка + 1 ручка и тетрадка.
Фотоаппарат-мыльница + набор колдуньи.
Тудукс.
Около девяти вечера позвонила перевозбудившаяся Лео. Все оказалось СЛИШКОМ ХОРОШО. Она уже видела пони – «ужас какие милые!», кормила их хлебом и морковкой, «все замечательно, мамочка, комнаты такие красивые, кровати двухъярусные, Анаис будет спать внизу, я – наверху». После еды она показывала фокусы, все здорово веселились. «Воспитательницы тоже очень милые, одна очень похожа на тебя».
Я сказала, что с папой она поговорить не сможет – он поехал прокатиться.
«Люблю тебя, мамочка, целую. И папу поцелуй».
Я повесила трубку и вышла в садик. В надувном бассейне плавала на спине Барби. Вода зацвела, и я вылила ее под розовые кусты, подумав: «Наполню через неделю, когда Лео вернется».
42
Любовь – это когда встречаешь человека, который сообщает вам новости о… вас.
Жюльен Сёль забрал меня из больницы. Мы добрались до дома в полном молчании, он высадил меня и поехал в Марсель, сказав на прощание, что скоро вернется, и поцеловав мне руку. Второй раз за время знакомства.
Элиана ждала на крыльце. Элвис, Гастон и Ноно – в доме, в микроволновке стоял обед, приготовленный женой Гастона. Ноно развеселил общество, сказав, что не надеялся стать свидетелем паранормального явления – «кладбищенской сторожихи, упавшей в обморок при виде покойника!».
Я будничным тоном поинтересовалась новостями насчет личности погибшего, и мне сказали, что тело «неизвестного мотоциклиста увезли в Макон», никто его не опознал, двухколесный друг не был зарегистрирован, а серийный номер кто-то сбил. Наверняка ворованный! Полиция объявила мужчину в розыск.
Ноно показал мне газетную статью с броским названием «Про́клятый поворот».
Трагический случай произошел в том самом месте, где в 1982 году погибла Рен Дюша. Мотоциклист в незастегнутом шлеме ехал на недопустимо высокой скорости и разбился. Его лицо сильно изуродовано, что затрудняет составление фоторобота.
Я разглядывала карандашный набросок. Филиппа Туссена узнать невозможно. Подпись гласит: «Мужчина, около пятидесяти пяти лет, светлая кожа, шатен, голубые глаза, рост 1,88 м, ни татуировок, ни других особых примет. Был одет в белую футболку и джинсы Levi’s, черные сапоги и черную кожаную куртку Furygan. Ни часов, ни колец, ни цепочки не обнаружено. За сведениями обращаться в ближайший комиссариат или набрать номер 17».
Кто будет его искать? Франсуаза Пелетье, кто же еще? Когда мы жили вместе, у него были любовницы, но не друзья, разве что пара приятелей-байкеров в Шарлевиле и Мальгранже. И родители. Но они умерли.
Я откладываю газету и поднимаюсь наверх, принять душ и переодеться. Открываю гардероб лето-зима и задумываюсь, что выбрать: розовое платье и плащ или все-таки черное платье. Я ведь вдова, хоть никто этого и не знает.
Я узнала Филиппа, когда мне показали его в морге. Узнала тело. А сознание потеряла от отвращения, ужас тут ни при чем. В садике он схватил меня за руки, чтобы запугать, и заразил ненавистью.
Я всегда надевала яркие вещи под темную верхнюю одежду – в насмешку над смертью. Так восточные женщины красятся под бургу[54]. Сегодня мне хочется поступить иначе: вниз – черное, наверх – розовое! Но я никогда так не поступлю из уважения к окружающим, посетителям моего кладбища, да и розового пальто у меня никогда не было…
Я возвращаюсь на кухню, осторожно обходя коробки с куклами, наливаю себе глоток портвейна и мысленно желаю себе здоровья. Выпив, отправляюсь на обход вместе с Элианой. Обследую все четыре крыла – «Лавры», «Бересклеты», «Кедры» и «Тисы» – и нахожу порядок безупречным. Начали появляться божьи коровки. Могила Жюльет Монтраше (1898–1962) изумительно красива.
Я поправляю перевернувшиеся цветочные горшки. Жозе-Луиш Фернандез поливает розы жены в компании Тутти Фрутти. Дамы Пинто и Дегранж заняты уборкой. Молча прореживают траву вокруг могил своих мужей, выдергивают несуществующие сорняки.
Мимо проходит пара, знакомая мне только внешне. Женщина иногда посещает могилу сестры, Надин Рито (1954–2007). Мы раскланиваемся.
Дождь перестал. Потеплело. Я проголодалась. Смерть Филиппа Туссена не отбила мне аппетит. Шелк розового платья ласкает ноги. Лео не придется хоронить отца. Мне тоже.
Филипп Туссен сделал свой выбор, исчезнув из моей жизни, а теперь избавил от своей смерти. Я не буду убирать могилу и украшать ее цветами. Вспоминаю, как в молодости мы занимались любовью. Тысячу лет этого не делала.
Вот и «Тисы», здесь находятся детские могилы, в основном белые. Ангелы повсюду – на памятниках, плитах, в цветах. Розовые сердечки. Плюшевые медведи, свечи и множество стихов.
Родителей сегодня нет. Они приходят после работы, в пять или шесть вечера, в основном одни и те же люди. Отупевшие. Пришибленные горем. Вусмерть пьяные. Живые мертвецы. Проходит время, жизнь берет свое, я реже вижу этих людей на моем кладбище и радуюсь. Смерть отступила от них.
Здесь есть очень старые захоронения, самым первым – полтора столетия.
- Через сто пятьдесят лет никто и не вспомнит
- О том, что любил и потерял.
- Так выпьем пива за уличных воришек!
- Все мы ляжем в землю, Боже, какое разочарование!
- Только взгляни на эти скелеты —
- Они смотрят на нас искоса. Они насмехаются.
- Не злись, не воюй с ними,
- От нас останется не больше, чем от них.
- Так улыбайся же!
Я опускаюсь на колени перед могилами:
Анаис Коссен (1986–1993)
Надеж Гардон (1985–1993)
Осеан Дега (1984–1993)
Леонина Туссен (1986–1993)
43
Смерть похитила ее в расцвете юности, как буря ломает цветок в саду.
Ты не представляешь себе, доченька, как я корила себя за тот последний новогодний подарок – набор юной волшебницы! Фокус удался – ты исчезла. И забрала с собой трех подружек, в том числе Анаис.
На другие комнаты замка огонь не перекинулся, никто не пострадал. А может, всех успели вывести. Не знаю. Забыла.
Помню только, что ваша была ближе всего к кухне.
Короткое замыкание. Или непогашенная конфорка.
Или пирог, забытый в духовке и сгоревший.
Или утечка газа.
Или тлеющий окурок.
Потом, я все выясню потом.
В твоем колдовстве не было обманных трюков, даже люка в полу. Никто не аплодировал, чтобы ты вернулась под оглушительную барабанную дробь и приветственные крики.
Небытие, пепел, конец света.
Четыре детские жизни, обратившиеся в прах. Вы, четыре крошки, не дотягивали вместе ростом до трех метров, на троих вам было тридцать один год.
И улетели, когда та ночь подошла к концу.
Оставшиеся ищут утешения, говоря себе: «Они не мучились…» Вы задохнулись во сне, и огонь лизал всего лишь пустые оболочки. Вы остались в снах.
Надеюсь, ты сидела на пони, дорогая, или плавала в бухте, как маленькая русалка.
Пропустив поезд в 05.05, я прилегла на диван и задремала, а услышав телефон, вскинулась – испугалась, что пропустила время, 07.04. Сердце билось в горле, я схватила трубку, пытаясь стряхнуть остатки кошмара. Во сне старуха Туссен дарила мне плюшевого мишку без глаз и рта, и я пыталась нарисовать их фломастерами.
Позвонивший жандарм попросил меня представиться, я услышала твое имя, слова «Нотр-Дам-де-Пре… Ла Клейет… четыре неопознанных тела…».
Я услышала слова «драма», «пожар», «дети».
Я услышала: «Соболезную», снова твое имя, «появились слишком поздно… пожарные были бессильны…».
Я вспомнила, как ты размазывала желток по пицце и «испаряла» салфетки, а в голове у меня звучал голос: Три блюда дня плюс два детских меню плюс пять напитков.
Я могла бы не поверить тому человеку. Могла бы сказать: «Вы ошибаетесь, Леонина – волшебница, она снова появится, все это подстроила мамаша Туссен, она забрала мою дочь, подменила на тряпичную куклу, та и сгорела!» Могла потребовать доказательств: «Ваша шутка очень дурного тона…» Могла бы… Но сразу поняла, что он сказал правду.
Я с детства привыкла не шуметь, чтобы приемные родители не отослали меня, чтобы остаться в семье. Твое детство я покидала с воплями.
Прибежал Филипп Туссен, выхватил у меня трубку, поговорил минуту с жандармом и тоже заорал. Не так, как я. Он оскорблял собеседника. Твой отец в одной фразе произнес все гадкие, грубые слова, которые запрещал употреблять мне. Твоя смерть уничтожила меня, и я надолго замолчала. Его она… раздражала.
Когда пришел поезд в 07.04, ни один из нас не вышел, чтобы опустить шлагбаум.
Бог, который в ту ночь оставил без присмотра Нотр-Дам-де-Пре, соизволил заглянуть на наш переезд, сочтя, что одной драмы довольно. Ни одна машина не врезалась в проходивший состав, никто не погиб, хотя обычно на этой дороге интенсивное движение.
Потом Филипп отправился за помощью, прислали человека, не знаю, кого именно.
А я легла в твоей комнате и застыла, как умерла.
Приехал доктор Прюдом, которого ты ужасно не любила и говорила: «Этот дядька плохо пахнет!» – когда он приезжал лечить твои ангины, отиты и ветрянку.
Он сделал мне укол.
Еще один. И еще один.
Не в тот самый день.
Филипп Туссен призвал на помощь Селию – не знал, что делать с моей болью, и переложил ее на другого человека.
Кажется, приехали его родители. Ко мне они не зашли – и правильно сделали. В первый и последний раз. Оставили меня совсем одну, забрали сына и поехали в Клейет. К тебе. К твоим жалким останкам.
Селия появилась позже, не знаю когда – я утратила чувство времени. Помню только, что уже стемнело, когда она вошла и сказала: «Это я, я здесь, с тобой, Виолетта». Ее голос прозвучал совсем бесцветно. Да-да, даже сочный голос Селии угас, когда ты умерла.
Она не решилась прикоснуться ко мне. Я лежала на твоей кровати. Никакая. Селия заставила меня что-то съесть. Дала попить. Меня вывернуло наизнанку.
Филипп Туссен позвонил и сообщил Селии, что от четырех тел практически ничего не осталось. Один пепел. Ужас. Кошмар. Идентификация невозможна. Я подам жалобу. Будет выплачена компенсация. Всех остальных детей родители забрали домой. Здесь повсюду легавые. Девочек похоронят вместе – с нашего разрешения. Он повторил: похоронят вместе. Чтобы избежать хаоса и журналюг. Церемония будет закрытая, только родственники, на маленьком кладбище Брансьон-ан-Шалона, это в нескольких километрах от Ла Клейет.
Я попросила Селию перезвонить Филиппу Туссену и сказать, чтобы забрал твой чемодан. Она ответила, что все сгорело, и повторила: «Они не страдали, умерли во сне». Я ответила: «Мы будем мучиться вместо нее». Селия спросила: «Хочешь, чтобы в гроб что-нибудь положили – из одежды или игрушку?» Я ответила: «Меня».
Прошло три дня. Селия сообщила, что утром придется встать очень рано, что она должна отвезти меня в Брансьон-ан-Шалон, на погребение. Она спросила, что я хочу надеть и не стоит ли что-нибудь купить. Я отказалась. И ехать, и покупать. Селия всплеснула руками: «Ты не можешь не присутствовать на похоронах! Это немыслимо…» «Еще как могу, – ответила я, – и не поеду на церемонию, где будут закапывать мою испепеленную дочь. Она уже далеко». – «Но это необходимо, ты должна проститься с Леониной, иначе не сможешь горевать», – возразила Селия. «Нет! – отрезала я. – Хочу в Сормиу, в бухту…» Я собиралась воссоединиться с тобой в море.
Я уехала с Селией на ее машине, но ничего не помню, меня накачали лекарствами. Вокруг был густой туман, все чувства атрофировались. Все, кроме боли. Наверное, в таком состоянии пребывает пациент на операционном столе. Я едва могла дышать. Стрелка на шкале измерения боли зашкаливала.
Моя боль была невыносимой и нескончаемой.
Я превратилась в кусок мяса, от которого весь день отрезали куски.
Я говорила себе: «Мое сердце не выдержит, не выдержит, скорее бы…» Моим единственным желанием было умереть. Я надеялась, что все скоро кончится.
Я прижимала к себе две бутылки сливовой водки – Филипп держал их у телевизора – и время от времени отпивала глоток. Алкоголь обжигал горло и внутренности.
Обрывистую дорогу в бухту Сормиу называют огненной. В прошлом году я не обращала внимания на крутые виражи, мне не было страшно.
Я вошла в воду не раздеваясь. Погрузилась, закрыла глаза и услышала тишину. Наш последний отпуск, счастье, слезы наоборот.
Я сразу почувствовала твое присутствие – как ласки дельфина, гладившего мой живот, бедра, плечи, лицо. В воде вокруг меня чувствовалась благодать, и я поняла, что тебе хорошо там, куда ты попала, что тебе не страшно. Что ты не одна.
Я ясно услышала твой голос, а потом Селия схватила меня за плечи и потянула наверх. Голос был женский, какого я никогда не услышу. Кажется, ты сказала: «Мама, ты должна выяснить, что случилось той ночью». Ответить я не успела. Селия закричала:
– Виолетта, Виолетта!!!
Люди, курортники в купальных костюмах, помогли ей вытащить меня на берег.
44
Птичка-славка, если летаешь над этой могилой, спой ей самую нежную песню.
Погода стоит потрясающая. Майское солнце пригревает землю, которую я вскапываю. Три старых кота вспомнили молодость и гоняются за воображаемыми мышами между листьями настурций. Недоверчивые дрозды поют, отлетев от греха подальше. Элиана спит на спине, лапами вверх.
Я заканчиваю с помидорной рассадой под передачу о Фридерике Шопене. Приемничек, купленный несколько лет назад на чердачной распродаже, лежит на деревянной лавочке. Иногда я ее перекрашиваю – то в синий, то в зеленый цвет. Время украсило дерево благородной па́тиной.
Ноно, Гастон и Элвис ушли обедать. Кладбище выглядит пустым. Оно расположено ниже моего сада, но некоторые аллеи не видны из-за разделяющей их каменной стены.
Я сняла серую шерстяную куртку, «выпустив на волю» цветы моего легкого платья. Обула старые сапоги.
Я люблю давать жизнь. Сеять, сажать, поливать, собирать урожай. И так каждый год. Мне нравится моя сегодняшняя жизнь. Согретая и освещенная солнцем. Я люблю быть в гуще событий. Этому меня научил Саша.
Я накрыла стол в саду. Сделаю салат из разноцветных помидоров и еще один, из чечевицы, купила несколько кусков разного сыра и свежий багет. Открыла бутылку белого вина и поставила в ведерко со льдом.
Я люблю фарфоровую посуду и матерчатые скатерти. Хрустальные стаканы и серебряные приборы. Люблю материальную красоту, потому что не верю в красоту человеческих душ. Я люблю мою сегодняшнюю жизнь, но она ничего не стоит, если ее нельзя разделить с другом. Поливая сеянцы, я думаю об отце Седрике – друге, которого жду. Мы обедаем вдвоем каждый вторник, это наш ритуал. Если не бывает похорон.
Он не знает, что дочь покоится на моем кладбище. Никто не знает, кроме Ноно. Даже мэр.
Я часто говорю с другими людьми о Леонине, потому что не делать этого значило бы дать ей умереть. Снова. Не произносить ее имя – все равно что сдаться на милость молчанию. Я живу с воспоминанием о ней, но никому не говорю, что она стала воспоминанием. Я поселила Леонину в другом месте.
Когда кто-нибудь спрашивает, есть ли у меня фотографии дочери, я показываю детский снимок, тот, где у нее «щербатая» улыбка. Все говорят, что мы похожи. Это не так. Леонина – вылитый отец, от меня она ничего не взяла.
– Здравствуйте, Виолетта.
Отец Седрик улыбается, в руках у него коробка пирожных.
– Гурманство – серьезный недостаток, но не грех.
От его одежды пахнет ладаном, от меня – старинными розами. Мы не обмениваемся рукопожатием, не обнимаемся, но чокаемся, когда выпиваем.
Я мою руки и присоединяюсь к отцу Седрику. Мы садимся лицом к огороду и, как обычно, сначала говорим о Боге, как о старом приятеле, с которым давно не виделись. Я считаю Его мерзавцем и не верю ни на грош, священник почитает как сверхъестественное создание, безупречное и заботливое. Потом мы обсуждаем международные события и то, что происходит в Бургундии, а напоследок оставляем лучшее – книги и музыку.
Обычно мы не вторгаемся в интимную сферу, даже после двух бокалов вина. Я не знаю, влюблялся ли отец Седрик, занимался или нет любовью, а ему ничего не известно о моей личной жизни.
И вдруг сегодня наш кюре решается спросить, что у меня с Жюльеном Сёлем, он «просто друг» или нечто большее. Я отвечаю, что между нами ничего нет и все дело в истории, которую он начал и должен рассказать до конца. Историю Ирен Файоль и Габриэля Прюдана. Имен я, естественно, не называю.
– Значит, потом вы перестанете видеться?
– Ну конечно.
Я иду в дом за десертными тарелками. Воздух теплый и ароматный. От вина кружится голова.
– Вы все еще хотите ребенка?
Отец Седрик доливает себе и сгоняет Мэй Уэй с коленей.
– Хочу так сильно, что просыпаюсь по ночам. Вчера смотрел по телевизору «Дочь рудокопа» и проплакал весь вечер: герои говорили только об отцовстве, родственных чувствах и связях.
– Отец, вы очень красивый мужчина, можете кого-нибудь встретить и завести ребенка.
– Покинуть Господа? Никогда!
Мы едим пирожные, я молчу, но отец Седрик чувствует мое сердитое несогласие и улыбается.
Он часто говорит мне: «Не знаю, о чем вы за завтраком поспорили с Богом, но Он вас здорово разозлил». Я всегда отвечаю: «Он никогда не вытирает ноги, перед тем как войти в дом».
– Я един со Всевышним. Я живу на земле, чтобы служить Ему. Но вы, Виолетта, почему бы вам не начать жить заново?
– Потому что это невозможно. Возьмите листок бумаги и порвите его, а потом соберите все клочки и склейте скотчем – все равно останутся заломы и разрывы.
– Вы правы, но писать на нем все равно можно.
– Неужели?
– Да, если фломастер хороший.
Мы смеемся.
– А как же ваше желание завести ребенка?
– Я о нем забуду.
– Это невозможно, особенно если оно животное, нутряное.
– Я постарею – как и все люди, и оно угаснет само собой.
– А что, если нет? Старость не гарантирует забывания.
Отец Седрик начинает напевать:
– Со временем, со временем проходит все, проходит. И тот, кого ты обожал, и под дождем искал, и узнавал по взгляду…
– Вы уже любили кого-нибудь?
– Бога.
– Я не о Нем, о человеке.
Он отвечает с набитым ртом:
– Бога.
45
Считается, что смерть – это отсутствие.
В действительности она есть тайное присутствие.
Леонина продолжала колдовать, и вещи исчезали, ее комната потихоньку пустела. Одежду и игрушки я мешками отдавала Паоло. Всякий раз, когда его грузовичок с изображением «аббата Пьера»[55] останавливался у моего дома и я расставалась с куклами, юбочками, туфельками, домиками, жемчужным ожерельем, плюшевыми любимцами и цветными карандашами, чтобы они достались другим детям, мне казалось, что я расстаюсь с частью тела дочери.
Лео заставила исчезнуть Рождество. Нейлоновая елка навсегда осталась худшим приобретением за всю мою жизнь. Пасха, Новый год, праздник Матерей, день Отцов, дни рождения… Ни одна свечу на торте я не задула после смерти моей девочки.
Я погрузилась в алкогольную кому. Мое тело, желая защититься от боли, пьянело, стоило мне сделать хоть глоток. Честно говоря, я пила без просыху, вливала в себя спиртное, как в бездонную бочку, жила в замедленном ритме – неуклюжая, нелепая, похожая на Тинтина с постера, висевшего в комнате Леонины.
Я прикончила гренадин, и в ход пошли «Ле Принс Аббе» и «Саванна». Потом я сварила и съела макаронные ракушки и приняла адвил[56]. Встала, опустила шлагбаум, легла, снова встала, накормила Филиппа Туссена, подняла шлагбаум, опять легла.
Я благодарила людей на Гран-Рю за «искренние соболезнования». Отвечала на письма и открытки. Собрала в голубой альбом рисунки, подаренные одноклассниками Лео. Выбрала голубой цвет, словно она была не она, а мальчик, словно девочка Леонина никогда не жила на свете.
Я делала покупки в «Казино», бродила между полками с тележкой, стараясь не встретиться взглядом со Стефани. Я никогда не становилась в очередь к ее кассе, чтобы не видеть лица подруги, ее печали и отчаяния. Стефани горевала, но ни разу даже головой не покачала, пробивая бутылки, называла сумму, говорила «пожалуйста», я набирала пин-код и прощалась – «до завтра».
Стефани больше не предлагала мне «топовые» товары: «Я испробовала это на себе, милая!» Не нахваливала деликатное средство для мытья посуды, ароматный стиральный порошок, «отлично работающий даже в холодной воде, не говоря уж о 30°!». Не соблазняла потрясающим вкусом замороженного кускуса с овощами, магическими свойствами особой щетки для пола или масла с высоким содержанием «Омега-3». Зачем все это матери, потерявшей ребенка? Что она станет делать с купонами и новым товаром по сниженной цене? Ей продают виски, не глядя в глаза…
Выходя на улицу, я чувствовала, что Стефани смотрит мне вслед.
Нам пришлось иметь дело со страховщиками и адвокатами, мы узнали, что состоится суд над управляющими Нотр-Дам-де-Пре, заведение закроют навсегда, а нам – конечно же! – возместят ущерб.
Сколько стоит жизнь весом в семь с половиной лет?
Каждую ночь я слышала голос Лео – взрослый голос, говорящий: «Мама, ты должна узнать, что случилось той ночью, ты должна узнать, почему моя комната сгорела…» Эти слова заставляли меня держаться, но понадобились годы, чтобы выполнить просьбу дочери. Тогда я не имела физических сил что-то предпринять. Боль была слишком сильной, она не реанимировала – убивала.
Мне требовалось время. Не для того, чтобы стало лучше, этого не случится, но двигаться снова я начну.
Каждый год, на две недели, с 3 по 16 августа, профсоюз присылал нам замену, и Филипп Туссен, не желавший впадать вместе со мной в «патологический психоз», седлал мотоцикл и отправлялся к дружкам в Шарлевиль. Я ездила в Сормиу. Селия встречала меня на вокзале Сен-Шарль, отвозила в хижину и оставляла наедине с воспоминаниями. Время от времени она заезжала выпить кассиса и полюбоваться морем.
Праздник мертвых[57] я теперь отмечала в августе. Ныряла в бухте и ощущала присутствие ушедшей дочери.
Родители Анаис, Армель и Жан-Луи Коссен, ни разу не попытались связаться со мной, не звонили и не писали. Наверное, осуждали за то, что не захотела хоронить превратившихся в пепел детей.
Туссены-старшие регулярно бывали на кладбище и каждый раз брали с собой сына. Их я тоже ни разу не видела после смерти Леонины – по молчаливому соглашению они не заходили в дом.
Филипп Туссен не сломался благодаря гневу и надежде на возмещение ущерба. Он был одержим желанием наказать виновников пожара. Его уверяли, что никаких следов поджигателей не нашли, произошел несчастный случай, но он только сильнее ярился. Правда, не буянил. Филипп хотел денег. Золота – весом в прах нашей дочери.
Он изменился физически: черты лица стали жестче, волосы начали седеть.
Возвращаясь из Брансьон-ан-Шалона – родители высаживали его возле дома, – он ничего мне не говорил. Когда вставал утром, не произносил ни слова. Молчал, отправляясь прошвырнуться. Не издавал ни звука, вернувшись много часов спустя. За столом мы не разговаривали. Звуковой фон создавала только игровая приставка. Периодически раздававшиеся звонки жандармов или страховых адвокатов приводили его в ярость, он орал, грозился, требовал от них отчета.
Мы по-прежнему спали в одной постели, вот только я не спала. Меня мучили кошмары. Ночью Филипп прижимался ко мне, и я воображала, что это Леонина.
Раз или два он говорил: «Заведем еще одного малыша…» – и я отвечала «да, конечно», но принимала противозачаточные таблетки вместе с антидепрессантами и анксиолитиками[58]. Мое чрево умерло, и я ни за что не стану вынашивать живое в погибшем. Лео забрала с собой возможность рождения брата или сестры.
После смерти нашего ребенка я могла уйти, оставить Филиппа Туссена. Не хватило ни сил, ни смелости. Он был моей единственной семьей, живя рядом с ним, я оставалась с Леониной, в его чертах видела ее личико. Я проходила мимо двери в детскую – и касалась вселенной Лео, следа, оставленного моей малышкой на земле. Я до конца дней останусь женщиной, которую покидают.
В сентябре 1995-го я получила посылку без имени отправителя со штемпелем Брансьон-ан-Шалона и в первый момент подумала, что она от Селии, что моя дорогая подруга побывала там, на кладбище. Сообразив, что почерк не ее, открыла посылку и вынуждена была сесть: в коробке лежала белая табличка с очень красивым дельфином и надписью: «Моя дорогая, ты родилась 3 сентября, погибла 13 июля, но для меня навсегда останешься моим 15 августа».
Я сама могла бы написать эти несколько слов. Кто прислал табличку? Неизвестный явно хотел, чтобы она обрела свое место на могиле Леонины, но что за человек так поступил?
Я вернула «подарок» в коробку и убрала в шкаф в моей комнате, под стопку салфеток, которыми мы никогда не пользуемся, и случайно обнаружила между двумя простынями список имен с указанием должностей:
- Эдит Кроквьей, директриса.
- Сван Летелье, повар.
- Женевьева Маньян, прислуга.
- Элоиза Пти и Люси Лендон, воспитательницы.
- Ален Фонтанель, управляющий.
Филипп Туссен нацарапал список персонала Нотр-Дам-де-Пре на обороте счета в ту неделю, когда шел процесс. Счет был за обед на троих в маконском «Кафе дю Пале». Мой муж наверняка обедал с родителями.
Я приняла это за знак от Леонины. Сначала посылка, потом список видевших ее последними.
С того дня я начала выходить из дома и махать пассажирам проходящих мимо поездов. А Филипп решил, что я сошла с ума. Он ничего не понял: я не утратила рассудок – он ко мне вернулся.
Я начала освобождаться от химической смирительной рубашки. Постепенно снижала дозу лекарств. Совсем отказалась от алкоголя. Понимала, что будет тяжело и больно, но от этого не умирают.
Я вышла из дома и минут десять брела, вспоминая, как гуляла с Леониной и она держалась за мой карман. Отныне все карманы на моих вещах будут пусты, но дочь не перестанет меня направлять.
Я толкнула дверь автошколы Бернара: пора получить водительские права.
46
Ты больше не там, где была, но мы не расстаемся.
Я постепенно пробуждаюсь, отхлебывая мелкими глотками обжигающе горячий чай. Лучи утреннего солнца пробираются в кухню через задернутые занавески. Пылинки танцуют на луче, и я нахожу это зрелище прекрасным, почти феерическим. Под сурдинку звучит Жорж Делерю[59], тема из «Американской ночи». В правой руке у меня чашка, левой я глажу Элиану, и она жмурится от удовольствия, тянет шею. Обожаю чувствовать подушечками пальцев жар собачьего тела…
Ноно стучит в дверь и сразу входит. Как и отец Седрик, он не пожимает мне руку и не целует в щеку. Говорит добрый день/добрый вечер, «моя Виолетта». Ноно кладет на стол местную газету, чтобы я могла прочесть заголовок: «Брансьон-ан-Шалон: дорожная драма, мотоциклист опознан». Он наливает себе кофе, а я прошу бесцветным голосом:
– Прочти, пожалуйста, я куда-то задевала очки.
Элиана, почувствовав мою нервозность, прижимается к Ноно и сразу бежит к двери – просится на улицу. Он выпускает собаку и возвращается, ставит стул так, чтобы сидеть напротив меня, вытаскивает из кармана очки (наверняка получены от соцработника!) и начинает читать в манере ученика начальной школы, артикулируя каждый слог. Когда Леонина была совсем маленькая, я вот так же читала ей по методу Боше: «Если бы парни всей земли…» – но сейчас звучат совсем другие слова.
«Жертва несчастного случая со смертельным исходом в Брансьон-ан-Шалоне была опознана его спутницей жизни. Мужчина, проживавший в лионском районе, был найден без признаков жизни 23 апреля. Жандармы предполагают, что его черный мотоцикл, мощный «Хьюсунг Аквила» с объемом двигателя 650 см3 и стершимся номером, съехал на обочину, спровоцировав падение седока, ехавшего в незастегнутом шлеме. Его подруга подала заявление в комиссариат на следующий после исчезновения день, обзвонила все больницы, и связь была установлена».
Мы прерываем чтение, когда на кладбище появляются члены семьи усопшего. Некоторые играют на семиструнных гитарах, у каждого в руке воздушный шар.
– Пойду, – говорит Ноно.
– Я тоже.
Надеваю черное пальто, раздумывая, нужно ли сказать полицейским. Что Филипп Туссен в тот день вышел от меня.
«Только тишина» – часто повторял Саша.
Разве я мало отдала? Неужели не заслужила покоя?
Даже мертвый, Филипп Туссен продолжает меня мучить. Я никогда не забуду его последние слова и синяки, оставшиеся у меня на руках.
Я хочу жить спокойно. С миром в душе. Жить так, как научил меня Саша. Мне нужна Жизнь. А не воспоминания о человеке, оказавшемся совершенно бесполезным существом, чьи родители отняли у меня единственное сокровище.
Похоронный катафалк подъезжает к склепу семьи Гамбини. Сегодня хоронят знаменитого устроителя ярмарок Марселя Гамбини, родившегося в 1942 году в коммуне Брансьон-ан-Шалона. Его родителей депортировали, но они успели спрятать ребенка в деревенской церкви.
Мне почти хотелось, чтобы отчаявшиеся люди отдавали своих детей отцу Седрику. Не всем везет в жизненной лотерее, я, например, предпочла бы нашего кюре всем приемным родителям, вместе взятым.
На церемонию к Марселю пришло больше трехсот человек. У гроба собрались гитаристы, скрипачи и контрабасист, чтобы сыграть композицию Джанго Рейнхардта[60]. Музыка контрастирует с печалью, слезами, угрюмыми взглядами и поникшими плечами. Все умолкают, когда слово берет внучка Марселя, шестнадцатилетняя Мари Гамбини:
– Мой дед был на вкус, как сладкая вата и помидоры. От него пахло блинами и вафлями, алтеем, нугой и чурросами[61], картошкой фри, подсоленной жизнью. Он обожал простые радости. Улыбался, как мальчишка, получивший в подарок золотую рыбку и крепко сжимающий в кулаке целлофановый пакет с новым питомцем. Удочка в одной руке, воздушный шар в другой, верхом на деревянной лошадке. Он был за то, чтобы водить нас в тир и выигрывать плюшевых тигров, играл в прятки в самолете, пожарной машине, экипаже наездников. Мой дед – это первый поцелуй в лабиринте-гусенице и за́мке с привидениями. Этот сахарный поцелуй навсегда прививал нам вкус американских горок, ждавших нас в будущем. Мой дед был голосом, музыкой, богом цыганок, гадающих по руке. В его крови кипел цыганский джаз, и теперь он берет новые аккорды там, где мы не можем его слышать. Линия жизни на его ладони прервалась. Я не прошу тебя покоиться с миром, дорогой дедушка, ты на это не способен. Поэтому развлекайся, и до скорого!
Девушка целует гроб. Остальные следуют ее примеру.
Пьер и Жан Луччини опускают гроб с телом Марселя Гамбини на веревках, и музыканты исполняют «Minor Swing» Джанго Рейнхардта. К небу взмывают воздушные шары. На гроб летят лотерейные билеты и плюшевые игрушки.
Сегодня вечером я не стану запирать ворота в семь часов: многочисленная семья Гамбини попросила разрешения остаться у могилы и устроить поминальный ужин. В благодарность они подарили мне несколько десятков контрамарок на ближайшую ярмарку, которая открывалась в Маконе через две недели. Я не решилась отказаться. Ладно, отдам их внукам Ноно.
Не знаю, можно ли судить о человеке по красоте его похорон, но церемония Марселя Гамбини была одной из лучших, на которых мне довелось присутствовать.
47
Первая звезда появится, когда спустится тьма.
В январе 1996 года, через четыре месяца после того, как пришла посылка, я положила табличку в сумку и сообщила Филиппу Туссену, что ему, в кои веки раз, придется поработать. «Два дня за переезд отвечаешь ты», – сказала я и, не оставив ему времени на возражения, села за руль и уехала. Машину, красный «Фиат Панда» с белым плюшевым тигренком на зеркале, мне, как всегда, дала Стефани.
Обычно я тратила на дорогу три с половиной часа – на этот раз ушло шесть. В моей жизни больше не будет ничего обычного или нормального. Я слушала радио. Несколько раз останавливалась. Пела для Леонины, представляя, как два с половиной года назад она ехала на заднем сиденье автомобиля Коссенов, с баночкой коккулина в кармане и своим тудуксом в руках.
– Сон улетает, взмахнув крылышками, как пчелка, как птичка, как тучка, как ветер, ночь наступает, луна светит, засыпает огонь в очаге, прячется уголек в золе, цветок – под росой, и только туман поднимается…
Я смотрела на дома, деревья, дороги, пейзажи и пыталась представить, что привлекло ее внимание. Или она задремала? А может, колдовала?
Иногда, очень редко, мы садились в машину Селии или Стефани, но чаще ездили поездом, ведь в нашей семье был только мотоцикл Филиппа Туссена. Муж не покупал «Рено» или «Пежо», чтобы не возить нас. Да и куда бы мы поехали?
Я добралась до Брансьон-ан-Шалона к четырем дня. В час полдника. Дверь дома смотрителя кладбища была приоткрыта. Рядом никого не оказалось, и я решила найти Леонину сама, без посторонней помощи.
Это кладбище напоминало карту сокровищ наоборот. Воплощенный ужас.
Проплутав полчаса между могилами с белой табличкой в руках, я нашла детский «квадрат» на участке «Тисы». Сейчас я должна была готовить Леонину к школе, покупать книги, тетради, ручки, карандаши и прочую «утварь», заполнять формуляры, запрещать ей красить глаза, а вместо этого, как неприкаянная душа, чувствующая себя мертвее мертвых, ищу имя дочери на могильной плите.
Я долго мучила себя вопросом: за что мне все это? Перебирала совершенные ошибки, когда не сумела ее понять, раздражалась, слушала невнимательно, не поверила, не догадалась, что ей холодно, жарко или болит горло. Я поцеловала буквы, выбитые на белом мраморе, и попросила прощения за то, что не пришла раньше. Я не обещала, что буду возвращаться часто. Сказала: «Давай встретимся в августе, в Средиземном море, оно подходит тебе лучше этого места тишины и слез. Я узнаю, что случилось той ночью и почему сгорела твоя палата», – и поставила табличку Моя дорогая девочка, ты родилась 3 сентября, умерла 13 июля, но для меня навсегда останешься 15 августа. Среди цветов, стихов, сердец и ангелов. Рядом с другой, на которой кто-то написал: Солнце зашло слишком рано.
Не знаю, как долго я оставалась у могилы, но, когда подошла к воротам, они были заперты на ключ.
Пришлось стучать к смотрителю – в доме горел свет, мягкий, рассеянный, но задернутые шторы не позволяли увидеть, что происходит внутри. Я снова постучала. Никто не отозвался. Оказалось, что дверь приоткрыта, я толкнула створку и вошла, крикнув: «Есть тут кто-нибудь?» – но ответа не дождалась.
На втором этаже кто-то ходил, звучала музыка. Бах, прерываемый голосом диктора. Работало радио.
Дом понравился мне с первого взгляда. Его стены и запахи. Я решила подождать, захлопнула дверь и огляделась. Хозяин обустроил кухню, как чайную лавку. На полках стояло штук пятьдесят банок с этикетками. Названия были написаны чернилами, от руки. Названия на терракотовых чайниках соответствовали тем, что были на банках. Запах ароматических свечей заполнял помещение.
Минуту назад я вела мысленный разговор с прахом дочери, а, войдя в этот дом, оказалась на другом континенте.
Не помню наверняка, но кажется, мне пришлось ждать достаточно долго, потом на лестнице раздались шаги, и я увидела мужчину лет шестидесяти в черных тапочках, черных льняных брюках и белой рубашке. В нем явно смешались две крови – вьетнамская и французская.
Хозяин дома не удивился при виде незнакомой посетительницы, просто сказал:
– Извините, я принимал душ, садитесь, прошу вас.
У него был голос Жана-Луи Трентиньяна. В нем звучали тревога и нежная, чувственная меланхолия. Фраза «Извините, я принимал душ, садитесь, прошу вас» – прозвучала так, словно у нас было назначено свидание. Я подумала, что он принимает меня за кого-то другого, но указать на ошибку не успела.
– Я сделаю вам стакан соевого молока с миндальной пудрой и флёрдоранжем.
Я не возразила, хотя предпочла бы рюмку водки, и смотрела, как он смешивает питье в миксере, переливает в высокий стакан и опускает в него разноцветную соломинку, совсем как на детском дне рождения. Протягивая мне угощение, мужчина улыбнулся. Никто и никогда так мне не улыбался, даже Селия.
Все в этом человеке было длинным. Ноги, руки, ладони, шея, глаза, рот. Природа начертила их, пользуясь двойным метром, – такими в начальной школе измеряют мир на географических картах.
Я начала пить через соломинку и вспомнила детство, которого у меня не было, потом детство Леонины и почувствовала бесконечную, безбрежную нежность. И все благодаря нескольким глоткам через соломинку. Я впервые получала удовольствие с июля 1993 года, когда утратила вкус. Из глаз полились слезы. Я плакала и не могла сдержаться, а когда немного успокоилась, сказала: «Простите, решетка была заперта». Он ответил: «Ничего страшного. Садитесь», – и пододвинул мне стул.
Я не могла остаться. Не могла уйти. Не могла говорить. Не было сил. Смерть Лео отобрала у меня и слова. Я читала, но вслух не могла произнести ни звука. Задыхалась, давилась, лепетала: «Спасибо… добрый день… до свидания… готово… извините, мне пора лечь». Даже на права я сдавала молча – правильно припарковала машину между двумя другими и заполнила тест.
Я так и не села. Слезы капали в стакан с молоком. Хозяин дома намочил носовой платок духами «Le Rêve d’Ossian»[62] и дал мне подышать. «Шлюзы» не закрылись, но от рыданий становилось легче. Слезы вымывали из меня мерзкие вещи, больной пот, отраву. Мне показалось, я все выплакала, но ошиблась – осталась соленая грязь, похожая на воду, застоявшуюся в канаве после давно прошедшего дождя.
Мужчина усадил меня, и, когда его руки коснулись моей кожи, я почувствовала что-то, похожее на сотрясение. Он встал сзади и начал массировать шею, плечи, затылок, голову. Он касался тела, как врач, по спине прокатывались волны жара. Он шепнул: «Ваши мышцы затвердели, как камень, в случае необходимости по ним можно было бы взобраться, как по лестнице».
Никто и никогда не обращался со мной так. От горячих ладоней исходила неведомая энергия и проникала в меня, слегка обжигая. Я не сопротивлялась. Я недоумевала. Этот дом стоит на кладбище, где похоронена моя дочь. Дом напоминает путешествие, которого не было. Позже я узнаю, что его хозяин – целитель. Сам он любил называть себя костоправом.
Я закрыла глаза и уснула. Глубоким черным сном без мучительных кошмаров, мокрых от пота простыней, пожирающих меня крыс и Леонины, шепчущей на ухо: «Мамочка, проснись, я не умерла…»
Следующим утром я проснулась на диване, под пухлым теплым одеялом. Открыла глаза и с трудом вынырнула на поверхность, не сразу поняв, где нахожусь. Потом увидела чайные коробки и стоящий посреди комнаты стул, на котором вчера сидела.
Дом был пуст. На низком столике рядом с диваном стоял горячий чайник. Я налила в чашку обжигающий жасминовый напиток и начала пить маленькими глотками восхитительно вкусную жидкость. Рядом с чайником, на фарфоровой розетке, лежали два куска растворимого сахара, предусмотрительно приготовленные хозяином. Я бросила их в чашку и размешала.
При свете дня дом смотрителя оказался таким же скромным, как мой на переезде, но человек, приютивший меня накануне, превратил его в дворец при помощи улыбки, доброжелательности, миндально-соевого молока, свечей и духов «Мечта Оссиана».
Дверь открылась. Он вошел, пристроил тяжелое пальто на вешалку, подул на пальцы. Повернул ко мне голову и улыбнулся.
– Здравствуйте.
– Мне надо ехать.
– Куда?
– Домой.
– А где ваш дом?
– На востоке Франции, рядом с Нанси.
– Вы мать Леонины?
– …
– Я видел вас вчера на могиле во второй половине дня. Матерей Анаис, Надеж и Осеан я знаю в лицо. Вы здесь впервые.
– Моей дочери на вашем кладбище нет. Здесь только ее прах.
– Я не владелец, а смотритель.
– Не знаю, как вы справляетесь… с этим ремеслом. Оно странное… нет, не так… совсем не странное, но…
Он снова улыбнулся. В его взгляде не было ни обиды, ни осуждения. Потом я узнаю, что он с каждым человеком общался на его уровне.
– А вы кем работаете?
– Я дежурная по переезду.
– Значит, вы не даете людям переправиться на другую сторону, а я им помогаю. Немножко…
Я попыталась улыбнуться, но вышло не слишком хорошо. Я разучилась улыбаться. Этот человек был сама доброта, я же уподобилась сломанной кукле. Я развалилась, рассыпалась, самоуничтожилась.
– Вы вернетесь?
– Да. Я должна узнать, почему палата девочек сгорела в ту ночь… Вы их знаете?
Я достала из сумки и протянула ему список персонала Нотр-Дам-де-Пре, составленный Филиппом Туссеном и записанный на обороте ресторанного счета.
«Эдит Кроквьей, директриса; Сван Летелье, повар; Женевьева Маньян, прислуга; Элоиза Пти и Люси Лендон, воспитательницы; Ален Фонтанель, управляющий».
Он внимательно прочел имена и фамилии. Посмотрел на меня.
– Вы еще приедете на могилу Леонины?
– Не знаю.
Неделю спустя я получила от него письмо:
Уважаемая Виолетта Туссен!
Посылаю вам список фамилий, который вы забыли на моем столе. Я позволил себе приготовить для вас смесь зеленого чая с миндалем и лепестками роз и жасмина. Если не застанете меня в доме, возьмите его, пожалуйста, – дверь всегда открыта – на желтой этажерке, справа от чугунных чайников. На пакете написано: «Чай для Виолетты».
Ваш покорный слуга,
Саша Н.
Мне на мгновение показалось, что этот человек сошел со страниц романа или сбежал из психушки, впрочем, одно вполне равносильно другому. Что он делает на кладбище? Раньше я даже не знала, что существует такая должность – смотритель кладбища, считала, что есть только гробовщики – бледнолицые, в черных одеждах и с вороном на плече (ну, когда не несут гроб).
Но взволновало меня другое: я узнала почерк. Это Саша прислал мне белую табличку с надписью, чтобы я поставила ее на могиле Лео.
Как он узнал о моем существовании? О датах, особенно счастливых? Он был на похоронах? Возможно, но почему заинтересовался девочками? А мной? Зачем завлек меня на свое кладбище? Во что вмешивается этот человек? Что, если он специально запер в тот день ворота, чтобы вынудить меня зайти?
Моя жизнь – поле битвы, изуродованное воронками, и неизвестный солдат прислал мне похоронную табличку и письмо.
Да, война подходила к концу. Я это чувствовала. Я никогда не оправлюсь от смерти дочери, но бомбардировки прекратились. Начинается послевоенное существование. Самое долгое, самое трудное, самое гибельное… Ты поднимаешься – и сталкиваешься нос к носу с девочкой ее возраста. Когда враг убрался и остались лишь выжившие. Скорбь, уныние и опустошенность. Пустые шкафы. Детские фотографии. Деревья и цветы, растущие без нее.
В январе 1996-го я объявила Филиппу Туссену, что теперь буду ездить в Брансьон-ан-Шалон два раза в месяц, по воскресеньям, и проводить там целый день.
Он присвистнул. Закатил глаза, как будто хотел сказать: «А мне придется работать вместо тебя…» – и добавил, что ничего не понимает, ведь на похоронах я не была, а теперь – нате вам! Что за блажь такая? Я не стала отвечать. Что я могла сказать человеку, который считает желание матери погоревать на могиле ребенка блажью?!
Кристиан Бобен[63] писал: «Невысказанные слова криком кричат внутри нас».
Наверное, он сформулировал свою мысль несколько иначе, но мои умолчания орут как резаные. Из-за них я просыпаюсь по ночам. Толстею, худею, старею, плачу, сплю дни напролет, пью, как горчайший пьяница, и бьюсь головой о двери и стены. Но я выжила.
Проспер Кребийон[64] сказал: «Чем горше несчастье, тем большее мужество требуется человеку, чтобы жить». Умерев, Леонина заставила исчезнуть все вокруг меня… кроме меня.
48
Твоя душа улетела без надежды на возвращение, как ласточки с наступлением зимы.
Жюльен Сёль стоит перед моей дверью. Той, что выходит в садик.
– Футболка вас молодит…
– А вы впервые в яркой одежде.
– Я дома, работаю саду. Стена отделяет меня от людей. Вы надолго?
– До завтрашнего утра. Как поживаете?
– Как смотрительница кладбища.
Он улыбается.
– Очень красивый сад.
– Благодаря удобрениям. Рядом с кладбищами все растет очень быстро.
– Не думал, что вы такая язва.
– Вы меня не знаете.
– Возможно, знаю, и гораздо лучше, чем вы думаете.
– Копаться в чужих жизнях – ваша профессия, господин комиссар, но она не предполагает знания человеческих душ.
– Могу я пригласить вас поужинать?
– При условии, что расскажете конец истории.
– Какой?
– Габриэля Прюдана и вашей матери.
– Я зайду за вами в восемь. И не переодевайтесь, останьтесь «в цвете».
49
Эти несколько цветков в память о прошлом.
Я вошла к Саше. Открыла пакет с чаем, закрыла глаза и сделала вдох. Неужели я вернулась к жизни в этом кладбищенском доме? Его запах вытягивал, тащил меня прочь из мрака, в котором я жила – делала вид, что живу, – после смерти Лео.
Пакет чая, как и написал Саша, лежал на желтой этажерке, к нему была прикреплена этикетка наподобие тех, которые дети клеят на тетради: Чай для Виолетты. Под пакетом – этого в письме не было – я нашла адресованный мне крафтовый конверт. Незапечатанный. Внутри лежали несколько листков бумаги, и сначала я решила, что это список фамилий недавно умерших людей, а слово «Туссен» относится к могилам, которые следует украсить цветами к этому празднику, но потом поняла, что ошиблась.
Саша собрал данные всего персонала, находившегося в Нотр-Дам-де-Пре в ночь с 13 на 14 июля 1993 года. Директриса Эдит Кроквьей; повар Сван Летелье; прислуга Женевьева Маньян; две воспитательницы, Элоиза Пти и Люси Лендон; управляющий Ален Фонтанель.
До сих пор мне была известна только директриса, об остальных, видевших мою дочь в последнюю ночь ее жизни, я ничего не знала.
О случившейся драме говорили в вечерних выпусках новостей по всем каналам. Показывали замок, озеро, пони и твердили одни и те же ключевые слова: драма, случайное возгорание, четверо погибших детей, летний лагерь. Много дней подряд местная газета Journal du Saône-et-Loire писала о девочках на первой полосе. Я просмотрела статьи, которые Филипп Туссен принес мне на следующий после похорон день. Портреты детей, щербатые улыбки, зубки, которые унес на счастье мышонок. У нас, родителей, ничего не осталось. Я бы не пожалела жизни, чтобы найти его норку и отобрать зубки и кусочек улыбки Лео. Писаки умолчали только об именах сотрудников Нотр-Дам-де-Пре.
У директрисы Эдит Кроквьей были седеющие, убранные в пучок волосы, она носила очки и с достоинством улыбалась в объектив. Чувствовалось, что фотограф дал ей указания: «Улыбайтесь, но не слишком широко, вы должны внушать симпатию, доверие и спокойствие». Я хорошо знала это клише – фраза была напечатана на обложке рекламного буклета, который много лет назад всучила мне мать Филиппа.
«Только наше серьезное отношение к делу никогда не уходит в отпуск». Сколько раз я корила себя за неумение читать между строк!
Под фотографией Эдит был указан ее адрес.
Снимок Свана Летелье был сделан в автомате. Интересно, как Саша его достал? Это останется тайной, но адрес повара я теперь знаю, правда, не домашний, а ресторана «Земля виноградных лоз» в Маконе. Сван выглядел лет на тридцать пять. Худой, красивый и опасный. Странная внешность – глаза красивого миндалевидного разреза, а взгляд мрачный и губы тонкие.
Фотография Женевьевы Маньян больше всего напоминала те, что делают на свадьбах. На ней была смешная старомодная шляпка. Она слишком сильно и неумело накрасилась. Я бы дала ей лет пятьдесят. Эта маленькая толстушка в фартуке с узором из синих цветов в последний раз накормила Лео. Уверена, моя дочь сказала ей «спасибо», потому что была хорошо воспитана. Этому научила ее я – всегда говорить «здравствуйте», «до свидания», «спасибо»…
Две воспитательницы, Элоиза Пти и Люси Лендон, снялись вместе, перед лицеем. На фотографии они выглядели шестнадцатилетними. Две юные девушки, лукавые и беззаботные. Хорошо бы выяснить, ужинали они за одним столом с девочками или сидели отдельно? По телефону Лео сказала, что одна из воспитательниц «ужасно» на меня похожа, но голубоглазые блондинки Элоиза и Люси ничем меня не напоминали.
Лицо Алена Фонтанеля Саша вырезал из газеты. На нем была майка футбольной команды, он сидел на корточках среди других игроков, позирующих с футбольным мячом. Управляющий явно воображал себя Эдди Митчеллом[65].
Все адреса Саша написал синими чернилами, под фотографиями. Женевьева Маньян и Ален Фонтанель жили вместе.
Да кто он такой, в конце концов, этот смотритель кладбища, и зачем заманил меня в свой дом?
Саша все не приходил. Я положила в сумку чай и конверт с фотографиями и фамилиями тех, кто был в замке в тот вечер, и обошла кладбище в поисках моего странного благодетеля. Я смотрела на незнакомых людей, поливавших цветы, на фланёров и экскурсантов и спрашивала себя, кого они пришли навестить. Пыталась угадать по выражению лиц. Мать? Кузена? Брата? Мужа?
Через час блужданий я оказалась на «детском» участке, миновала ангелов и увидела могилу Лео. Ее имя, которое я вышила под всеми воротничками, прежде чем уложить вещи в чемодан, было выбито на стеле. Со времени моего последнего посещения на мраморе вырос молодой мох – место было тенистое. Я опустилась на колени и протерла плиту рукавом.
50
Много лет назад твоя ослепительная улыбка навечно стала для меня олицетворением розы и продолжением лета.
Ирен Файоль и Габриэль Прюдан вернулись в первый отель, который находился в нескольких километрах от вокзала в Эксе. «Отель дю Пассаж». Они выбрали «голубой» номер, как в романе Жоржа Сименона[66]. Остальные три назывались «Номер Жозефины», «Номер Амадея» и «Номер Ренуара». Прюдан на ресепшен сразу заказал пасту и красное вино на четверых, подумав, что после любви им точно захочется есть. Ирен спросила:
– Зачем так много, нас ведь двое?
– Вас наверняка посетят мысли о муже, меня – о жене, так давайте сразу пригласим их к столу. Это исключит умолчания, слезоточивость и прочая, прочая, прочая…
– Слезоточивость?
– Я придумал это слово для обозначения меланхолии, чувства вины, сожалений, порывов и попыток дать задний ход. Все, что портит нам жизнь, мешает двигаться вперед.
Они поцеловались. Разделись. Она сказала: «Хочу, чтобы было темно». – «Не имеет смысла, – улыбнулся он. – Я уже в суде начал раздевать вас взглядом и знаю наизусть все изгибы вашего тела».
Она не сдавалась. Упрекнула его:
– Вы чертов ловкий говорун!
– А как же, – ответил он.
И задернул голубые шторы.
В дверь постучали.
– Обслуживание номеров.
Они поели, выпили, занялись любовью, поели, выпили и снова любили и наслаждались друг другом. Вино сделало их смешливыми, и они смеялись и плакали.
А потом дружно решили никогда не покидать эту комнату. Их посетила мысль, что умереть вместе, здесь и сейчас, возможно, и есть РЕШЕНИЕ. А еще можно сбежать, исчезнуть, угнать машину, поезд, самолет. Остается решить, в какую страну лететь.
Они выбрали Аргентину. Как военные преступники. Она заснула. Он бодрствовал, курил, заказал бутылку белого вина и пять десертов.
Она открыла глаза, спросила:
– А кто третий гость, кроме моего мужа и вашей жены?
– Наша любовь, – ответил он.
Они сходили в ванную, вернулись – и вдруг решили потанцевать. Включили радио и услышали в новостях, что Клауса Барби[67] экстрадировали во Францию, где он будет предан суду.
– Наконец-то! Справедливость восторжествовала! – обрадовался Габриэль. – Это нужно отпраздновать! – и заказал шампанское.
– Мы знакомы двадцать четыре часа, и я не просыхаю, – хихикнула Ирен. – Может, попробуем встретиться на трезвую голову?
Они станцевали под «Я вернулся за тобой» Жильбера Беко[68].
Она уснула около четырех утра и открыла глаза в шесть. Он дышал тихо, почти бесшумно.
В номере пахло табачным дымом и вином, за окном пели птицы. Она сразу их возненавидела.
«Задержи ночь»… Эта фраза из песни Джонни Холлидея всплыла в ее памяти в шесть утра в голубом номере. Она попыталась вспомнить слова: «Задержи ночь, сегодня, до конца света, задержи ночь…»
Он лежал к ней спиной. Она вдохнула его запах, погладила, разбудила. Они занялись любовью. Уснули.
В десять позвонил портье – узнать, остаются они или освободят номер к полудню.
51
Каждый проходящий день прядет невидимую нить твоей памяти.
На первом этаже, в левом крыле, главный коридор, три смежные комнаты с двумя двухъярусными кроватями, туалетами и раковинами для пансионеров и пять комнат для персонала.
В ночь с 13 на 14 июля 1993 года все они были заняты.
Комнаты Эдит Кроквьей (директора), Свана Летелье (повара), Женевьевы Маньян (прислуги), Алена Фонтанеля (управляющего) и Элоизы Пти (воспитательницы) находились на втором этаже. Комната Люси Лендон (воспитательницы) – на первом.
Анаис Коссен (семь лет), Леонина Туссен (семь лет), Надеж Гардон (восемь лет) и Осеан Дега (девять лет) занимали комнату № 1 на первом этаже. Они покинули ее без разрешения и старались не шуметь, чтобы не разбудить воспитательницу (Люси Лендон), спавшую в одной из соседних комнат. Девочки направились в кухонные помещения, расположенные в пяти метрах от их комнаты, в конце главного коридора. Они открыли один из холодильников и налили молока в двухлитровую кастрюлю из нержавеющей стали, чтобы вскипятить его на восьмиконфорочной плите (две электрические горелки, шесть газовых). Они зажгли газ хозяйственными спичками. Открыли дверь кладовой, расположенной за кухней, чтобы найти порошковый шоколад, взяли в посудном шкафу четыре кружки и разлили горячее молоко.
Каждая взяла кружку, и они вернулись в свою комнату. (Четыре кружки из огнеупорной керамики найдены в комнате № 1.)
Четыре жертвы по недосмотру оставили кастрюлю на плите, не выключив до конца газ. (Кастрюля обнаружена.)
Через десять минут (время установлено приблизительно) огонь с оплавившейся пластмассовой ручки кастрюли перекинулся на шкафчики, висевшие над плитой справа.
Пластиковые панели оказались высокотоксичными, а продукты горения очень летучими.
Было установлено, что дети не закрыли двери ни в кухню, ни в комнату.
Между моментом, когда четыре жертвы покинули кухонные помещения, и моментом, когда ядовитые газы заполнили кухню, коридор и их комнату, прошло двадцать пять – тридцать минут.
Как уже было указано выше, комната № 1 находилась в пяти метрах от кухонь.
От вдыхания токсичных газов дети погрузились в кому и умерли от асфиксии и отравления.
Тела всех жертв найдены сгоревшими в постелях.
Комната № 1 загорелась, когда под воздействием жара лопнули и разлетелись стекла, обеспечив доступ воздуха. Некоторый объем отравляющих газов вырвался наружу. Другие комнаты (все двери были закрыты) первого этажа не пострадали.
Воспитательница (Люси Лендон), занимавшая комнату, ближайшую к комнате четырех жертв, сразу же эвакуировала обитательниц двух комнат первого этажа, где спали восемь детей (они не пострадали).
В комнату № 1 Люси Лендон попасть не смогла.
Удостоверившись, что все обитатели второго этажа (двенадцать детей и пятеро взрослых) целы и невредимы, Люси Лендон вызвала пожарных.
Дозвониться до них оказалось труднее, чем обычно: они обеспечивали безопасность публики в Клейете, в десяти километрах от замка, где в тот вечер устраивали фейерверк.
Ален Фонтанель и Сван Летелье еще раз попытались проникнуть в комнату № 1, но им это не удалось. Температура и высота пламени оказались непреодолимым препятствием.
Между звонком Люси Лендон и приездом пожарных прошло двадцать пять минут. Вызов был сделан в 23.25, пожарные появились в 23.50.
Бо́льшая часть левого крыла была поглощена пламенем.
Чтобы потушить огонь, понадобилось три часа.
Учитывая детский возраст жертв и степень кальцинации тел, идентификацию по зубам провести не удалось.
Вот что установило следствие.
Эти сведения содержались в отчете жандармерии, составленном для Генерального прокурора.
Их же огласили на суде, где я не была и потому удовольствовалась пересказом Филиппа Туссена.
Газеты опубликовали отчеты (я их не читала) о процессе, повторив заключения экспертов.
Точные слова, сухие формулировки. «Ни драм, ни слез, этих жалких нелепых орудий, ведь есть несчастья, которые оплакивают молча, в глубине души»[69].
Эдит Кроквьей получила два года тюрьмы (первый – без права на условно-досрочное освобождение) за то, что доступ в кухонные помещения оказался таким легким, а покрытия полов, стен и потолков Нотр-Дам-де-Пре обветшали. Открытым текстом никто не утверждал, что в пожаре виноваты дети. Никто не решится обвинить жертв семи, восьми и девяти лет от роду, но мягкий приговор можно объяснить только этим.
Прочитав отчеты экспертов, я сразу заметила несоответствие: Леонина не пила молоко, она его ненавидела, ее рвало даже от одного глотка.
52
Здесь покоится красивейший цветок моего сада.
Я смотрю на разноцветных рыб в огромном, во всю стену, аквариуме, закрывающем целую стену китайского ресторана «Феникс», и думаю о бухте в Сормиу. О солнце и красоте, которую оно освещает.
– Вы часто купаетесь у себя в Марселе?
– В детстве купался.
Жюльен Сёль доливает мне вина.
– «Отель дю Пассаж», «голубой» номер, вино, паста, любовь с Габриэлем Прюданом… обо всем этом написано в дневнике вашей матери?
– Да.
Он достает из внутреннего кармана блокнот в твердой обложке темно-синего цвета, напоминающий книгу «Поля славы»[70], получившую в 1990-м Гонкуровскую премию, ее мне подарила Селия.
– Я принес его вам. Вложил цветные листочки между страницами, которые касаются вас.
– Меня?
– Мама пишет о вас в дневнике. Она много раз видела вас на кладбище.
Я наугад открываю страницу, пробегаю взглядом написанные синими чернилами строчки.
– Оставьте у себя. Отдадите, когда прочтете, – говорит комиссар.
Я убираю блокнот в сумку.
– Обещаю бережно с ним обращаться… Что вы почувствовали, открыв для себя другую жизнь матери?
– Мне казалось, что я читаю историю незнакомки. И потом, мой отец умер много лет назад. Срок давности истек, как говорится.
– Вас не огорчает, что родители не будут покоиться рядом?
– Сначала на душе скребло, но теперь все в порядке, ведь, не случись все так, как случилось, я бы никогда не познакомился с вами.
– Повторяю: я не уверена, что мы знакомы, просто встретились, не более того.
– Ну так давайте узнаем друг друга.
– Думаю, мне нужно выпить.
Он наливает, и я залпом проглатываю содержимое стакана.
– Вообще-то, я почти не пью, но сегодня все иначе. Мне не по себе, оттого как вы на меня смотрите. То ли решили задержать, то ли собираетесь сделать предложение.
Он смеется.
– Сделать предложение или задержать… Это почти одно и то же, вам так не кажется?
– Вы женаты?
– Разведен.
– Дети есть?
– Сын.
– Сколько ему?
– Семь.
Пауза затянулась.
– Хотите продолжить знакомство в отеле?
Он удивлен моим вопросом. Разглаживает скатерть кончиками пальцев. Снова улыбается.
– Я планировал это – в средне- или долгосрочной перспективе… Но раз уж вы предложили, можем сократить ожидание.
– Отель – начало путешествия.
– Нет, отель – уже путешествие.
53
Не оплакивайте мою смерть.
Славьте мою жизнь.
Второй раз я увидела Сашу на огороде.
В доме царил ужасный беспорядок. Раковина была полна грязных кастрюль, повсюду стояли чашки и пустые заварочные чайники. На журнальном столике валялась куча бумаг. Банки с чаем покрывал слой пыли. Правда, от стен пахло все так же хорошо.
Я услышала за домом шум и классическую музыку. Задняя дверь в глубине кухни была распахнута настежь, и я увидела солнечный свет.
Саша стоял на стремянке у мирабелевого дерева и собирал сладкие плоды в джутовый мешок из-под картошки. Заметив меня, он улыбнулся своей несравненной улыбкой, и я спросила себя, как можно выглядеть таким счастливым в столь печальном месте.
Первым делом я поблагодарила Сашу за чай и список персонала Нотр-Дам-де Пре.
– Пустяки, – ответил он.
– Как вам удалось раздобыть снимок и адреса?
– Это оказалось нетрудно.
– Вы знакомы с Эдит Кроквьей и остальными?
– Я знаю всех.
Мне хотелось расспросить его об этих людях. Но я не смогла.
Саша спустился на землю и сказал:
– Вы напоминаете воробья, птенчика, выпавшего из гнезда, на вас больно смотреть. Подойдите, я вам что-то скажу.
– Откуда у вас мой адрес? Зачем вы прислали табличку?
– Ее дала мне ваша подруга Селия.
– Вы знакомы с Селией?
– Несколько месяцев назад она приехала на кладбище, чтобы поставить табличку на могилу вашей дочери. Я проводил ее до места, и по дороге она рассказала, что попыталась представить, какие слова вы сами захотели бы написать. Селия не понимает, почему вы ни разу не появились на кладбище. Ей кажется, это пошло бы вам на пользу. Она долго рассказывала мне о вас, я узнал, что дела совсем плохи, и попросил разрешения послать вам табличку, чтобы вы все-таки пересилили себя и сами ее установили. Селия долго колебалась, но в конце концов согласилась.
Саша взял термос, стоявший в конце одной из аллей, налил чаю в простой стакан и протянул мне, шепнув:
– Жасмин и мед… знаете, первый сад у меня появился в девять лет. Квадратный метр цветов. Мама научила меня сеять, поливать, собирать урожай. И мне понравилось. Она всегда говорила: «Суди день не по урожаю, а по семенам, которые бросаешь в землю».
Он помолчал, крепко взял меня за плечи и заглянул в глаза.
– Взгляните на этот сад. Я ухаживаю за ним двадцать лет. Видите, какой он красивый? Видите все эти овощи? Эти цветы? Семьсот квадратных метров радости, любви, пота, дерзаний, воли и терпения. Я научу вас заботиться о нем, а когда будете готовы, оставлю на ваше попечение.
Я ответила, что не понимаю его. Саша снял резиновые перчатки и показал обручальное кольцо на пальце.
– Видите? Я нашел его на моем первом огороде.
Он увлек меня в увитую плющом беседку, усадил на старый стул и сел напротив.
– Это случилось в воскресенье. Мне было лет двадцать. Я выгуливал щенка поблизости от муниципальных домов в пригороде Лиона, где тогда жил. Я ушел подальше от парковок, выбрав направление наугад. Чуть выше, среди серого бетона, затерялось несколько лугов – высохших, некрасивых – и островок старых деревьев. В конце дороги я наткнулся на группу людей, сидевших под дубом, за старым деревянным столом, покрытым клеенкой. Они лущили фасоль. Меня потрясли их счастливые лица. Это были мои соседи, многих я знал, но они не улыбались, встречая меня в подъезде или на лестнице. Вокруг росли разбитые ими сады с фруктами и овощами, рядом находился колодец. Я спросил: «А можно и мне сад?» Кто-то посоветовал позвонить в мэрию, объяснив, что клочки земли сдают в аренду за гроши и еще осталось несколько свободных.
В октябре я вскопал землю, очень гордясь собой, разбросал навоз, а следующей зимой посеял в йогуртовые баночки семена китайской тыквы, базилика, перца, баклажанов, помидоров и кабачков. Весной я высадил рассаду в почву. Сделал все по учебнику садоводства, руководствуясь рассудком, а не сердцем. Не принимал во внимание ни лунный цикл, ни заморозки, ни дождь, ни солнце. Морковь и картошку посадил прямо в землю. Ждал всходов. Поливал время от времени. Рассчитывал на дождь.
Конечно же, ничего не выросло. Я не понял главного: чтобы свершилась магия, нужно проводить в саду все дни. До меня не дошло, что сорняки следует выпалывать не один раз в неделю, а семь, потому что они выпивают всю воду и забирают жизнь.
Саша встал, сходил на кухню и вернулся с миндальными финансье[71] на фарфоровой тарелке.
– Ешьте, вы совсем исхудали.
Я сказала, что не голодна, на что он ответил: «А мне все равно…» Я сдалась, Саша улыбнулся и повел рассказ дальше:
– В сентябре сад словно в насмешку «одарил» меня одной-единственной морковкой. Увидев жалкий пучок увядшей ботвы над сухой, какой-то даже спекшейся почвой (я ничего не понимал в аэрации), я выдернул овощ, сгорая от стыда, и уже собирался бросить его курам, но тут заметил, что бедный уродец окольцован. Настоящим серебряным обручальным кольцом, которое много лет назад кто-то потерял на моей земле. Оно блеснуло на солнце, и я почистил морковку и съел ее, а кольцо взял себе. Счел находку знаком свыше. Я как будто профукал первый год «брака», потому что не разобрался в своей «жене», но впереди у меня были десятки лет, чтобы попытаться сделать ее счастливой.
54
Она прятала свои слезы, но делилась улыбками.
Постирать белье стиральным порошком, высушить его – все, кроме пуловеров, разложить на полках по цветам. Сходить в магазин, купить зубную пасту, журнал «Авто-Мото», бритвенные станки «Жиллетт», ромашковый шампунь от перхоти, пену для бритья жесткой щетины, освежающе-смягчающий гель, крем для обуви, мыло «Dove», упаковку светлого пива, молочный шоколад, ванильные йогурты.
Все, что он любит. Сорта, которые предпочитает.
В ванной – щетка для волос и чистые расчески. Щипчики для эпиляции и маникюрные ножнички.
Хрустящий багет. Вишневый джем. Порезать мясо, не дыша носом. Обжарить его и потомить в чугунной гусятнице. Снять крышку, проверить готовность кусочков… мертвых животных, добавить муки, быстро перемешать, выложить на тарелку, бросить лаврушку в луковый соус.
Подать на стол.
Есть только овощи, пасту, пюре. Гарнир. То, чем я являюсь – гарниром, сопутствующим товаром.
Убрать со стола.
Вымыть полы, навести порядок на кухне. Пропылесосить. Проветрить. Вытереть пыль. Мгновенно переключить телевизор на другой канал, если ему не нравится программа. Убрать музыку. Никакой музыки, когда он дома: от моих «дурацких» певцов у него болит голова.
Он уезжает проветриться, я остаюсь дома. Ложусь спать. Он возвращается поздно. Будит меня, потому что шумит, умывается, писает, хлопает дверьми. Ложится, прижимается ко мне, от него пахнет другой женщиной. Притвориться спящей. Иногда он изъявляет желание. Хотя только что занимался с кем-то любовью. Он настаивает, проникает в меня, ворчит. Я закрываю глаза. Отправляюсь далеко-далеко – плавать в Средиземном море.
Я не знала ничего другого. Только этот запах. Только этот голос, его слова, его привычки. О последних годах совместной жизни я помню больше, чем о первых, они пролетели очень быстро, казались короткими и были наполнены беззаботностью – благодаря любви. Наши «молодости» сливались воедино.
Филипп Туссен заставил меня постареть. Молодой остаешься, только когда тебя любят.
Я впервые предаюсь любви с деликатным мужчиной. До Филиппа Туссена у меня были отношения с несколькими парнями из общежития и Шарлевиля. Неловкими, неумелыми, грубыми, шумными, не знающими, что такое ласки. Они плохо учили в школе родной язык и совсем не усвоили науку любви.
Жюльен Сёль любить умеет.
Он спит. Я слышу его дыхание – оно для меня ново. Я слушаю его кожу, вдыхаю движения, ощущаю на себе его руки, одна обнимает левое плечо, другая покоится на правом бедре. Он повсюду. Рядом со мной. Но не во мне.
Он спит. Сколько жизней мне понадобится, чтобы снова научиться засыпать рядом с кем-нибудь? Доверять настолько, чтобы закрыть глаза и отпустить призрачные души? Я голая под простыней. Такое случалось на заре времен.
Я сполна насладилась этим проявлением жизни, нежданным любовным всплеском.
А теперь хочу вернуться домой. К Элиане и моей одинокой постели. Хочу уйти из номера, не разбудив его, попросту сбежать.
Я не вынесу, если придется прощаться завтра утром. После смерти Леонины я точно так же не могла встречаться взглядом со Стефани.
Что я ему скажу?
Мы выпили бутылку шампанского, чтобы набраться смелости и прикоснуться друг к другу. Мы оба боялись – как люди, испытывающие подлинную симпатию. Как Ирен Файоль и Габриэль Прюдан.
Мне не нужен роман. Я вышла из возраста любовных историй. Упустила случай. Моя худосочная любовная «биография» напоминает пару старых носков, лежащих на дне гардероба. Я не смогла от них избавиться, хотя никогда больше не надену. Ничего страшного. В жизни есть всего одна страшная вещь – смерть ребенка.
У меня впереди жизнь, но не отношения с мужчиной. Холостяк ни с кем не уживется, в этом я уверена.
Мы в двадцати километрах от Брансьон-ан-Шалона, рядом с Клюни, в отеле «Арманс». Пешком я не пойду – возьму такси. Спущусь к портье и вызову машину.
Принятое решение побуждает к действиям. Осторожно выскальзываю из постели, как делала, чтобы не будить Филиппа Туссена.
Я надеваю платье, хватаю сумочку, туфли и выхожу из номера. Я знаю, что он смотрит мне вслед. Ему хватает деликатности промолчать, мне недостает духу, чтобы обернуться.
Непочтительная, вот что я о себе думаю.
В такси я пытаюсь читать дневник Ирен Файоль, открывая страницы наугад, но ничего не получается – не хватает света. Время от времени уличный фонарь высвечивает какое-нибудь слово.
«Габриэль… руки… свет… сигарета… розы…»
55
Ее жизнь – прекрасное воспоминание.
Ее уход – безмолвная боль.
Я покинула Сашино кладбище в 18.00. Села за руль «Фиата Панды» и поехала в сторону Макона, чтобы попасть на национальное шоссе.
Белый тигренок, висевший на зеркале, весело болтал лапками и подмигивал мне.
Я вспоминала Сашу, его сад, улыбку, слова. Забастовка подарила мне Селию, а смерть дочери – садовника в соломенной шляпе. Личного доктора Уилбера Ларча. Человека, существующего между жизнью и мертвецами, своей землей и своим кладбищем. «Правила виноделов».
Я размышляла о персонале летнего лагеря. Они наверняка хорошие, порядочные люди. Директриса Эдит Кроквьей, повар Сван Летелье, прислуга Женевьева Маньян, две молодые воспитательницы Элоиза Пти и Люси Лендон, управляющий Ален Фонтанель. Их лица наслаивались одно на другое.
Что мне делать с адресами? Встретиться с каждым по очереди?
В голову пришла неожиданная мысль: Сван Летелье работает в маконском ресторане, в центре города, на улице Леритан.
Я забыла о шоссе, въехала в Макон, бросила машину на парковке, в двухстах метрах от ресторана и мэрии. Меня встретила любезная официантка. За столиками сидели две пары.
В последний раз я была в ресторане с родителями Анаис – в пиццерии Джино. Леонина ужасно веселилась, когда желток растекался по тарелке. Я тысячи раз заново переживала тот день, вспоминала еду, платье дочери, ее косички, улыбку, фокусы, счет, момент, когда Лео села в машину Коссенов, помахала мне рукой и спрятала под коленками любимого серого кролика. От старости у него грозил вывалиться правый глаз, а стирала я его так часто, что он лишился одного уха. Некоторые моменты человек должен забывать очень быстро. Увы, решаем не мы.
Я не увидела Свана Летелье: скорее всего, он был на кухне. В зале суетились только официантки. «Четыре девушки, как в могиле», – подумала я.
Я выпила полбутылки вина, но почти ничего не съела. Официантка спросила, что не так, и я ответила: Просто нет аппетита. Она сочувственно улыбнулась и отошла. Я смотрела, как входят и выходят посетители, и подливала себе вина, хотя много месяцев не брала в рот спиртного.
Около девяти вечера я, чуть пошатываясь, вышла на улицу, села на скамейку и стала ждать, глядя в темноту.
Рядом текла Сона, и мне вдруг захотелось броситься в воду. Воссоединиться с Лео. Сумею ли я найти мою девочку? Может, лучше сделать это в море? Что, если она все еще там? Но в какой форме? А где я сама? Что за жизнь веду? Чему и кому она нужна? Зачем меня положили на батарею в тот день, когда я родилась? Она сломалась 14 июля 1993 года.
Что я собираюсь сказать бедняге Свану Летелье? Что хочу выяснить? Комната выгорела, к чему ворошить прошлое и вопрошать настоящее? Не зря говорят: «Не тронь дерьмо…»
Я не могла заставить себя сесть за руль и ехать сквозь ночь, чтобы вернуться к своему шлагбауму. Оставалось одно – собрать последние силы, подняться на ноги, перелезть через стенку и прыгнуть в черную воду. В тот момент, когда я наконец решилась, передо мной возникла сиамская кошка. Она замурлыкала и посмотрела на меня чудесными голубыми глазищами. Я нагнулась, дотронулась до мягкой, теплой, восхитительной шкурки, и кошка вдруг запрыгнула ко мне на колени. Я изумилась этому знаку доверия и замерла, а палевая красавица с коричневыми ушками вытянулась во всю длину, изобразив перила. Кошка спасла мне жизнь – то малое, что от нее осталось.
Последние клиенты покинули ресторан, свет в зале погас, и появился Сван Летелье.
Я осталась сидеть на скамейке.
Повар был в куртке из блестящего черного материала, джинсах и кроссовках, шел он враскачку.
Я окликнула его – и не узнала собственный голос, как будто со Сваном заговорила другая, незнакомая женщина, поселившаяся в моем теле. Наверное, я слишком много выпила – все казалось искаженным, нереальным.
– Сван Летелье!
Кошка спрыгнула на землю и уселась у моих ног. Летелье повернул голову и несколько секунд молча смотрел на меня, не зная, как поступить, но в конце концов сказал:
– Да?
– Я – мать Леонины Туссен.
Он окаменел. Смотрел на меня, как те подростки, которых я до смерти напугала на кладбище, одевшись Дамой в белом. Повар был в ужасе и пытался разглядеть меня, но я находилась в темной зоне, а он стоял на свету, так что я видела его лицо, а он мое – нет.
На улице появилась одна из четырех официанток, подошла к Свану, прижалась к его спине.
– Иди, я тебя догоню, – сухо бросил он.
Девушка поняла, куда он смотрит, узнала меня и шепнула ему что-то на ухо. Наверняка наябедничала, мол, эта баба одна выдула полбутылки вина, смерила меня неласковым взглядом и пошла прочь, крикнув:
– Жду тебя у Тити!
Сван Летелье подошел ко мне и остановился, ничего не говоря.
– Вы знаете, зачем я здесь?
Он покачал головой.
– Вы знаете, кто я?
– Вы же сказали: мать Леонины Туссен, – холодно бросил он.
– Вы знаете, кто такая Леонина Туссен?
– Вас не было ни на похоронах, ни на суде, – ответил он с секундной задержкой.
Я не ждала подобных слов, они прозвучали как пощечина. Я так крепко сжала кулаки, что ногти вонзились в ладони. Кошка смотрела на меня.
– Я никогда не верила, что дети в ту ночь ходили на кухню.
– Почему это?! – В его голосе прозвучали вызов и страх.
– Интуиция. А что видели вы?
– Мы попытались войти в комнату, но в любом случае было поздно.
– Вы поддерживали нормальные отношения с другими сотрудниками?
Мне показалось, что повару стало трудно дышать. Он достал из кармана вентолин, брызнул два раза в рот.
– Я пойду, меня ждут.
Я чувствовала его страх, потому что сама многого боялась. В тот вечер, сидя на скамье напротив напуганного и от этого еще более опасного парня, я тоже чувствовала страх, ясно понимая: если не узнаю правду, моя дочь навечно останется пленницей пожравшего ее огня.
– Я больше не желаю об этом думать, – сказал Летелье. – Советую поступить так же. Случилось несчастье, но такова жизнь. Иногда она причиняет нам боль. Мне очень жаль, правда.
Он быстро пошел прочь, с трудом сдерживаясь, чтобы не побежать. Его реакция утвердила меня в мысли, что в рапорте прокурору республики не было ни слова правды.
Я опустила глаза – кошка исчезла.
56
Неувядающие воспоминания греют нам сердце.
Когда Жан-Луи и Армель Коссен бывают на могиле Анаис, они не знают, кто я. Не связывают образ молодой, застенчивой, плохо одетой женщины, с которой обедали в Мальгранже 13 июля 1993 года, с аккуратной муниципальной служащей, которая решительным шагом расхаживает по аллеям брансьонского кладбища. Коссены не узнали меня, даже когда покупали цветы и стояли совсем близко.
После смерти дочери я похудела на пятнадцать килограммов, мое лицо ввалилось и одновременно стало отечным. Я постарела лет на сто. Лицо и тело ребенка в мятой упаковке.
Старая маленькая девочка.
Мне было… семь лет с гаком.
Саша говорил: «Ты напоминаешь птенца, который выпал из гнезда и насквозь промок».
После встречи с ним я изменилась. Отрастила волосы, поменяла одежду, перестала ходить только в джинсах и спортивных фуфайках.
Обретя новый образ, я как-то раз посмотрела на свое отражение в витрине и увидела женщину. Теперь я носила платья, юбки и блузки и напоминала не угловатых героинь Бернара Бюффе[72], а эфирных красавиц Огюста Ренуара.
Саша помог мне сменить век и вернуться вспять, чтобы продолжить движение вперед. В последнюю встречу с Паоло я отдала ему последние вещи Леонины, мою куклу Каролину, мои брюки и мои «говнодавы». Я сделала маникюр, купила черную подводку и лодочки.
Стефани наблюдала за мной. Я не раз ловила на себе ее недоверчиво-подозрительный взгляд, когда выкладывала на транспортер кассы пудру и розовые румяна. Кажется, бутылки со спиртным настораживали мою подругу меньше.
Люди – странные создания. Они не могут смотреть в глаза матери, потерявшей ребенка, но почти негодуют, видя, что женщина воспряла духом, начала краситься и наряжаться.
Я узнала, что существуют дневные и ночные кремы, розовая пудра разных оттенков, и училась пользоваться косметикой, как другие – готовить!
У женщины, ведающей кладбищем, грустный вид, но она всегда улыбается проходящим мимо людям. Должно быть, печаль – составляющая профессии. Она похожа на актрису… забыла фамилию. Красивая, но без возраста. Я заметила, что она всегда очень хорошо одета. Вчера я купила у нее цветы для Габриэля, не хотела класть на могилу розы, которые вырастила сама. Она продала мне очень красивый вереск. Мы поговорили, она страстно увлечена цветоводством и, узнав, что у меня розарий, пришла в восторг и сразу помолодела.
Вот что написала обо мне в дневнике Ирен Файоль в 2009 году. Через месяц после похорон Габриэля Прюдана. Много лет спустя после исчезновения Филиппа Туссена.
Знала бы Ирен Файоль, что однажды «женщина, ведающая кладбищем», проведет ночь любви с ее сыном.
Жюльен Сёль не подает признаков жизни. Наверное, появится однажды утром, как всегда, не предупредив. Я тоже ушла из отеля «Арманс» не простившись.
Я вспоминаю нашу ночь любви у гроба Мари Гайар (1924–2017), который вот-вот опустят в землю. Похоже, она была стервой, злой, как оса. Служащая ее Дома моды шепнула мне на ухо, что пришла на похороны «старухи», желая убедиться, что та действительно умерла. Я сильно прикусила щеку, чтобы не расхохотаться. У могилы нет ни одной кошки, даже мои кладбищенские отсутствуют. Нет ни цветов (ни одного!), ни табличек. Мари Гайар ложится в семейную могилу. Надеюсь, она будет вести себя прилично.
Фланёры часто плюют на могилы. Никогда бы не поверила, что это случается так часто. В начале кладбищенской «карьеры» я думала, что боевые действия прекращаются со смертью врага. Оказалось, что могильные камни – не преграда для ненависти. Я видела похороны, на которых не плакали. Даже на радостных бывала. Некоторые смерти устраивают всех.
Церемония окончена, и остроумная девушка делится со мной остроумной мыслью о том, что «злобность – она как навоз, ветер разносит вонь еще долго после того, как его уберут».
С января 1996-го я начала ездить к Саше каждое второе воскресенье. Как человек, лишенный опеки, получает «свидание» с собственным чадом, два уик-энда в месяц. Я всегда одалживала у Стефани ее красный «Фиат Панду», выезжала в шесть утра и возвращалась вечером. Чувствовала, что долго так продолжаться не будет: Филипп Туссен начнет задавать вопросы. Он очень подозрителен и захочет помешать мне.
В Брансьоне я менялась физически. Как женщина, у которой есть любовник. Моим единственным сердечным другом было удобрение из конского навоза, которое учил меня делать Саша. От него я узнала, что вскапывать землю нужно в октябре, а потом делать это весной, руководствуясь погодой. Что мы должны бережно относиться к дождевым червям, чтобы они могли «делать свою работу».
Саша научил меня смотреть на небо и решать, сажать в январе или позже, чтобы собрать урожай в сентябре.
Он объяснил, что природа нетороплива, что баклажаны, посаженные в январе, не созреют раньше сентября, поэтому на промышленных плантациях овощи «закармливают» химическими удобрениями, чтобы быстрее росли. Огороду на Брансьонском кладбище гигантский урожай ни к чему. Никто не ждет этих овощей, кроме него – смотрителя, и меня – «выпавшего из гнезда мокрого птенчика». Используем только природные удобрения на пользу природе. Никакой химии. От Саши я унаследовала тайну изготовления компоста из крапивы и шалфея. Ноль пестицидов. Он говорил:
– Запомни, Виолетта, в натуральное требуется вложить гораздо больше труда, но, пока человек жив, время находится, оно растет, как грибы в утренней росе.
Он очень быстро начал говорить мне «ты», я никогда себе этого не позволяла.
При встрече он сразу начинал ворчать:
– Ну почему ты так вырядилась? Красивая женщина должна быть соответственно одета! Почему ты так коротко стрижешься? Завшивела?
Саша разговаривал со мной, как с одной из своих кошек, а их он обожал.
Я приезжала в воскресенье, к десяти утра. Входила на кладбище и брела к могиле Леонины. Я знала, что там ее нет. Под мрамором пустота. Ничья земля, пустошь. Я хотела прочесть вслух ее имя и фамилию. Поцеловать их. Цветов я не приносила, Леонине они ни к чему. В семь лет цветам предпочитаешь игрушки и волшебные палочки.
Я входила в Сашин дом и окуналась в знакомый запах, смесь простой еды, жареного лука, чаев и духов Rêve d’Ossian – пропитанные ими носовые платки лежали в разных углах комнаты. Мне сразу становилось легче дышать. Я чувствовала себя отпускницей.
Мы обедали, сидя напротив друг друга, и все всегда было вкусно, красиво, пряно, ароматно и… постно. Никакого мяса Саша на стол не подавал, знал, что я его не ем.
Он спрашивал, как работа, чем занимаюсь, что читаю, какую музыку слушаю. Его интересовала жизнь в Мальгранж-сюр-Нанси, проходящие мимо нас поезда и много чего еще – только не Филипп Туссен. Саша ни разу не назвал его по имени. Всегда говорил он.
Поев, мы выходили в сад, чтобы вместе поработать. В мороз и жару всегда есть что поделать.
Сеять, сажать, пересаживать, ставить подпорки, перепахивать, полоть, черенковать, приводить в порядок аллеи. Мы копались в земле все время, и нам было весело. В теплую погоду Саша старался обрызгать меня из шланга и смеялся, как ребенок.
Он много лет работал смотрителем кладбища, но никогда не рассказывал о своей личной жизни. Единственное кольцо, которое он носил, было найдено на первом огороде, «верхом» на морковке.
Иногда Саша доставал из кармана роман Жана Жионо «Вторая молодость» и читал мне избранные места. Я пересказывала отрывки из «Правил виноделов», которые знала наизусть.
Бывало, что нас прерывали, если требовалась срочная помощь человеку с поясничными болями или вывихом лодыжки. Саша говорил: «Продолжай, я скоро вернусь», – исчезал на полчаса, чтобы помочь пациенту, и всегда возвращался с чашкой чая, улыбкой и одним и тем же вопросом: «Ну, как вы тут с землей без меня?»
Мне он понравился с первого раза. Руки грязные, нос поднят к небу. Устанавливаешь связь и понимаешь, что одно без другого не существует. Вернуться через две недели после первых посадок и увидеть перемены, восхититься могуществом жизни.
Между воскресеньями у Саши я жила бесконечным ожиданием. Воскресенье не в Брансьоне было пустыней, где значение имели только будущее и линия горизонта следующего – счастливого – воскресенья.
Я занимала время, читала свои записи о том, что посадила, как сделала тот или другой черенок. Саша давал мне журналы по садоводству, которые я глотала, как книгу Ирвинга.
На исходе десяти дней я сама себе напоминала арестанта, считающего часы до освобождения. С вечера четверга нетерпение начинало зашкаливать. В пятницу и субботу, между поездами, я отправлялась гулять, чтобы перенаправить энергию и не вызвать подозрений у Филиппа Туссена. Я бродила по тропинкам, где он никогда не ездил на мотоцикле. Иногда врала, что иду в магазин, а к концу дня в субботу отправлялась за «Пандой», стоявшей перед домом Стефани.
Никто в мире никогда не любил ни одну машину так, как я любила этот «Фиат» Стефани. Ни один коллекционер, ни один водитель «Феррари» или «Астон Мартина» не испытывал такого волнения, касаясь дрожащими ладонями руля, поворачивая ключ зажигания, переключаясь на первую скорость или давя на педаль акселератора.
Я разговаривала с белым тигренком. Представляла, что увижу подросшие растения, цвет листьев, состояние земли, сыпучей или рыхлой, кору фруктовых деревьев, набухание почек, овощи, цветы, испытаю страх перед заморозками. Я воображала, что приготовит на обед Саша, думала, какой чай мы будем пить, аромат дома, его голос. Боже, как же хочется вернуться к доктору Уилберу Ларчу! Моему персональному целителю.
Стефани считала, что мне не терпится увидеть дочь. На самом же деле я жаждала вернуть себе жизнь, которая началась много позже ее смерти. Все, что было до, погасло. Вулкан умер, но внутри меня рождались ответвления, боковые аллеи. Я чувствовала то, что сеяла и сажала. Я обсеменяла себя. Только вот бесплодная почва, из которой я состояла, была намного беднее кладбищенского огорода. Галечник. Каменистая земля. Но травинке годится любое место, и я была сделана из этого «любого». Корень растет и пробивает асфальт. Достаточно микротрещины, чтобы жизнь проникла внутрь невозможного. Несколько дождевых капель, солнце – и вот он, росток, появившийся из семечка, принесенного ветром.
Наступил день, когда я впервые присела на корточки, чтобы собрать посаженные полгода назад помидоры. Леонина давно озаряла своим присутствием сад, она словно бы притянула Средиземное море к маленькому огороду на кладбище, где ее похоронили. В тот день я поняла, что моя дочь присутствует в каждом маленьком чуде, которое рождает земля.
57
Судьба проделала свой путь, но не сумела разъединить наши сердца.
Июнь 1996, Женевьева Маньян
Я так чувствительна, что, когда читаю или слышу слово «кислый», у меня начинает щипать язык и глаза. Все горит. Я смотрю по телевизору рекламу кисленьких леденцов – и давлюсь едкой слюной. «Слишком уж ты чувствительная!» – говаривала моя мать между двумя тумаками.
Похоже, срабатывает принцип сообщающихся сосудов: душа моя погибла, пропала, годится лишь на корм бродячим псам, и тело оттягивает все на себя.
Я переключаю телевизор на другую программу. Ну почему нельзя вот так же, одним щелчком, изменить жизнь? Став безработной, я «прописалась» в старом кресле и не знаю, что делать. Говорю себе: Все кончено. Назад не вернуться. Дело закрыто. Они мертвы. Похоронены.
Я спала, когда позвонил Сван Летелье и наговорил на автоответчик сообщение, из которого я мало что поняла. Сван явно паниковал, был в растерянности, в его убогом мозгу все перепуталось. Я трижды прослушала автоответчик, и слова наконец обрели смысл: мать Леонины Туссен ждала его у ресторана, где он работает поваром, она похожа на сумасшедшую – не верит, что девочки той ночью ходили на кухню, чтобы приготовить себе шоколад.
После суда я решила, что никогда больше не услышу о Леонине. Как и об Анаис, Осеан и Надеж. Поплатилась за все директриса, получила два года тюрьмы. Ну и слава богу, пусть богатеи тоже хлебнут дерьма, должна же быть на свете справедливость! Хоть изредка… Всегда не выносила эту недотрогу.
Мать Леонины Туссен… Дети в лагере были не из местных семей, только буржуа посылают малышей в замок, чтобы они бултыхались в озере. Я думала, что родители навещают могилы, кладут цветы, зажигают свечи и сразу уезжают.
Что вынюхивает эта женщина? Чего она хочет? Решила расспросить всех? И меня? Летелье в ужасе, а я давно никого не боюсь.
В замке нас было шестеро. Летелье, Кроквьей, Лендон, Фонтанель, Пти и я.
Вспоминаю, как впервые увидела его. Хотя обычно перед глазами встает наша последняя встреча, и ненависть отравляет кровь, как кислота.
Знакомство, если его так назвать, произошло на выпускном празднике детских садов района. Я была в грязной блузке – на меня срыгнул мой младшенький, заболевший из-за жары. Пришлось расстегнуть лишнюю пуговицу, чтобы не опозориться перед людьми. Он даже не посмотрел мне в лицо, только бросил взгляд в вырез, и я вздрогнула, почувствовав резкий прилив желания.
Он не заметил меня, а я «смотрела только на него», как говорят богатые дамочки.
Два месяца школьных каникул тянулись безрадостно и невыносимо долго.
Потом меня наняли прислугой, и в первый день нового учебного года я ждала его, как преданная собачонка, а когда он появился во дворе, чтобы забрать дочь, у меня по коже побежали мурашки размером со слона. Хотелось стать его дичью, которую подстрелили, зажарили и нарезали кусками, чтобы подать горячей.
Появлялся он редко, за девочкой почти всегда приходила мать.
Впервые он заговорил со мной через много месяцев. Скорее всего, ему в тот день просто нечем было заняться. Некем… Он был страстным мужчиной. И таким красивым. В футболке и джинсах в обтяжку. Он него пахло самцом. Ледяной взгляд голубых глаз раздевал всех баб, даже матерей, сновавших по коридорам, где всегда воняло аммиаком.
После уроков я протирала стекла «Аяксом»… Водила малышей в сортир…
Однажды я решилась и заговорила с ним. Лепетала что-то про очки, которые якобы нашла в шкафчике одного из учеников. «Они, случайно, не ваши?» Он был холоден, как морозильник, стоявший в школьном сарае. «Нет, не мои…» Он привык, что женщины на него вешаются, наседают, навязываются, это было ясно с первого взгляда. У него была внешность про́клятого принца, предателя, негодяя, красавца из старых фильмов.
В конце года он снизошел до меня – назначил свидание. Ухаживать не собирался – называя время и место, уже раздевал меня взглядом. Сказал: «Вечером и по-быстрому». Мы ведь оба были несвободны. Он не хотел никаких заморочек, не встречался в отелях и трахался в туалетах ночных клубов, под деревьями и на заднем сиденье машин.
Я готовилась несколько долгих часов. Брила ноги, мазалась кремом Nivea, нанесла на лицо маску из глины (даже на мой длинный нос!), надушила подмышки и отвела детей к приятельнице, которая пообещала за ними присмотреть. Она и сама спала с кем ни попадя, и я ее прикрывала. Такие не болтают.
Мы должны были встретиться у «маленькой скалы» – так местные называли большой валун на выезде из города, похожий на расколотый менгир. Там всегда было темно – мальчишки давным-давно разбили все фонари.
Он приехал на мотоцикле, снял шлем, положил на постамент – как человек, заскочивший на несколько минут. Не поздоровался, не спросил: «Как дела?» Я едва смогла улыбнуться, сердце колотилось как безумное, горло свело спазмом. Новые туфли испачкались и натерли мне ноги до волдырей.
Он повернул меня спиной, спустил колготки и трусы, раздвинул ноги – молча, без ласк, сделал что хотел, и я испытала такой оргазм, что едва не умерла. Помню, что дрожала, как сухой лист, который дерево вознамерилось стряхнуть любой ценой.
Потом он уехал. А у меня лопнули волдыри, и я зарыдала. Мать всегда говорила: «Любовь – она для богачей. Не для ничтожеств вроде нас».
Все встречи у менгира проходили одинаково. Я кричала от наслаждения, как свинья, которую режут. Он не знал, что мои крики – это рай и ад, добро и зло, удовольствие и боль, начало конца.
Я сходила с ума, чувствуя затылком его жаркое дыхание. Просила: «Еще! Еще!» Спрашивала: «Увидимся через неделю? В то же время?» Он отвечал: «Ладно…»
Я всегда приходила первой. Всегда. А он мог и не явиться – если находил другую женщину. Я ждала, прислонившись спиной к ледяному камню, выглядывала свет фар его мотоцикла. Это продолжалось много месяцев.
В последнюю нашу встречу он приехал на машине и не один. На пассажирском сиденье рядом с ним сидел незнакомый мужчина. Я запаниковала, попыталась уйти, но он схватил меня за руку, больно ущипнул и прошипел сквозь зубы: «Замри, не шевелись, ты принадлежишь мне!» – и сделал что хотел. Я услышала, как хлопнула дверца. Любовь – она для богачей. Он сказал приятелю: «Пользуйся на здоровье». Я сказала «нет», но не воспротивилась.
Они уехали. А я так и стояла – со спущенными трусами, похожая на сломанную марионетку, лицом к камню и лизала его.
Я забрала детей и переехала. Мы больше не виделись.
В дверь стучат, должно, быть это она. Мать Леонины не пришла на похороны, но должна была однажды появиться. Вот и появилась.
58
Непроизнесенные слова делают покойников такими тяжелыми.
В июне 1996-го исполнилось полгода с тех пор, как я стала приезжать к Саше. Я вышла с кладбища и села в машину, не отмыв руки от земли, не вычистив грязь из-под ногтей. Положила листок с адресом на приборную доску. Место называлось Биш-о-Шай и находилось сразу за Маконом. Я ехала тридцать минут, плутала, глотала злые слезы, но в конце концов нашла домик с потемневшей от времени штукатуркой, зажатый между двумя другими, повыше и побогаче на вид. Он напоминал бедную маленькую девочку, которую ведут за руки нарядно одетые родители.
На двери висел почтовый ящик с двумя фамилиями: «Ж. Маньян и А. Фонтанель».
Я запаниковала. К горлу подступила дурнота.
Время было позднее. Я поняла, что не смогу провести всю ночь за рулем, чтобы вернуться в Мальгранж, и несколько раз постучала в дверь. Так сильно, что стало больно пальцам. Заметила грязь под ногтями, подумала: «Кожа совсем сухая, нужно смазать кремом…»
Она открыла дверь, и я не сразу ее узнала: у женщины в смешной шляпке с фотографии, которую прислал мне Саша, было совсем другое лицо. Она сильно постарела и располнела с тех пор, как позировала для свадебной фотографии. В тот день она накрасилась – неумело, но накрасилась, навела красоту. Теперь, в угасающем свете дня, были заметны и темные круги под глазами, и щеки с красной сеточкой проступивших сосудов.
– Здравствуйте, меня зовут Виолетта Туссен. Я мать Леонины Туссен.
Я произнесла имя и фамилию дочери вслух, при этой женщине, и у меня заледенела кровь. Наверняка последний ужин Леонине подавала она. Как я могла отправить туда мою семилетнюю дочь? – в тысячный раз подумала я.
Женевьева Маньян не ответила – осталась холодной, как мрамор, и слушала, не открывая рта. Все в этой женщине было заперто на два оборота ключа. Водянистые, налитые кровью глаза смотрели равнодушно, губы не улыбались.
– Я хочу знать, что вы видели той ночью, когда случился пожар.
– Зачем?
Вопрос поверг меня в изумление, и я ответила, не раздумывая:
– Я не верю, что моя семилетняя дочь пошла на кухню, чтобы согреть молока.
– Вот и заявили бы об этом на суде.
У меня подогнулись ноги.
– А вы что сказали во время процесса, мадам Маньян?
– Нечего мне было говорить.
Она буркнула: «До свидания…» – и захлопнула дверь, а я еще долго стояла и почти не дыша смотрела на облупившуюся штукатурку и фамилии, написанные на липкой ленте. «Ж. Маньян и А. Фонтанель».
Я вернулась к машине. Руки все еще тряслись. Общаясь со Сваном Летелье, я нутром почувствовала, что в ту ночь в замке все происходило иначе, и «встреча» с Женевьевой Маньян укрепила меня в этом мнении. Почему все свидетели событий так уклончивы? Или я не права? Схожу с ума? С каждым днем становлюсь все безумней?
На обратном пути я перешла из света в сумерки. Думала о Саше, сотрудниках Нотр-Дам-де-Пре и решила, что в следующий раз, через две недели, отправлюсь в замок. Мне не хватало мужества побывать там, а ведь он находился всего в пяти километрах от брансьонского кладбища. Потом я вернусь к Маньян и Фонтанелю и буду долбить ногой в дверь, пока они не впустят меня, а уж заставить их заговорить – дело чести.
К дому я подъехала в 22.37, успела поставить машину и в 22.40 опустила шлагбаум.
Филипп Туссен спал на диване, и я не стала его будить. Стояла, смотрела и думала, что когда-то давно любила этого человека. Будь мне сейчас восемнадцать, носи я короткую стрижку, прыгнула бы на мужа со словами: «Займемся любовью?» Но мне исполнилось двадцать девять, волосы отросли, так что…
Я легла в постель, закрыла глаза, но не заснула. Среди ночи Филипп Туссен скользнул под простыню, буркнул: «Надо же, ты вернулась…» Я подумала: И слава богу, иначе кто опустил бы шлагбаум? – и притворилась спящей. Он обнюхал меня, как будто искал в волосах чужой запах, но уловил лишь «аромат» бензина и быстро захрапел.
Я вспомнила Сашину историю о семенах. Однажды ему пришла охота посадить в огороде дыни, но они два года отказывались расти. На третий Саша выбросил остатки семян птицам, и сделал это за грядками, там, где держал горшки, грабли, лейки и баки. Одно из крылатых созданий – то ли самое легкомысленное, то ли самое озорное – порхало с зернышком в клюве над аллеей сада и выронило его. Через несколько месяцев из земли вылез жирный росток, и Саша не стал его выдирать. Прошло еще некоторое время, и дыня «заколосилась», созрело два чудеснейших плода. Пузатых и сладких. Каждый год он собирал урожай – одну, две, три, четыре, пять дынь. «Видишь, девочка, дыни падают с неба, все решает природа».
Я наконец заснула и увидела сон-воспоминание. Первого сентября я вела Леонину в школу. Мы шли по коридорам, держась за руки, потом она незаметно выдернула ладошку, сказав: «Я уже большая…»
Я пробудилась, крича во весь голос:
– Я ее знаю! Я ее уже видела!
Филипп Туссен зажег свет.
– Что такое? Кого ты видела?
Он тер глаза и смотрел на меня, как на одержимую.
– Я ее знаю! Она работала в школе. Не в классе Леонины, а в соседнем.
– Не понимаю…
– После кладбища я заехала к Женевьеве Маньян.
Филипп Туссен переменился в лице.
– Что?!!
Я опустила глаза.
– Мне нужно понять. Разобраться. А для этого – встретиться с людьми, которые той ночью были в замке Нотр-Дам-де-Пре.
Он встал, обошел кровать, схватил меня за воротник рубашки, дернул так, что я едва не задохнулась, и заорал:
– Ты начинаешь меня утомлять! Если не уймешься, я сдам тебя в психушку! Слышишь меня? Ты больше НИКОГДА туда не сунешься!
С годами Филипп погрузил меня в одиночество, бездонное, как колодец. Я могла бы найти себе замену, «временную жену», чтобы она отвечала за шлагбаум, ходила за покупками, готовила еду, стирала, спала на левой стороне кровати, и он ничего бы не заметил, не почувствовал.
Но он никогда мне не угрожал и не бил. Сделав это теперь, он вернул меня мне. Я начала становиться собой.
Следующим утром я пошла к Стефани, чтобы вернуть ключи от машины. По понедельникам «Казино» не работает. Она жила одна на втором этаже дома на Гран-Рю.
Подруга впустила меня и подала кофе в стакане на ножке. На ней была длинная футболка с портретом Клаудии Шиффер, она улыбнулась и пояснила: «У меня сегодня хозяйственный день!» Ее круглое краснощекое лицо, обрамленное белобрысыми волосами, выглядело очень забавно над изображением топ-модели, но я растрогалась до слез.
– Я залила полный бак.
– Спасибо, дорогая.
– Погода будет хорошая.
– Надеюсь.
– Вкусный кофе… Мой муж не хочет, чтобы я ездила в Брансьон, на кладбище.
– Да ну, что ты такое говоришь? Как же так? Там ведь твоя дочка лежит.
– Вот именно. В любом случае спасибо тебе за все.
– Да не за что, милая, я всегда рада помочь.
– Есть за что, Стефани, конечно, есть.
Я обняла Стефани. Она стояла не шевелясь, боялась спугнуть меня, как будто никто никогда не проявлял к ней таких теплых чувств. Ее глаза и рот округлились больше обычного, превратились в три летающих блюдца. Стефани навсегда останется загадкой, инопланетянкой из «Казино». Я ушла, а она так и осталась стоять посреди гостиной с опущенными руками.
Я брела по Гран-Рю к начальной школе. Как поется в песне «В сторону Свана», проделывала путь в обратную сторону. Тот, которым мы каждое утро ходили с Лео. В ее ранце коробка с завтраком занимала больше места, чем учебники и тетради. Я давала ей с собой гору еды, чтобы было все, чего только душа пожелает. Проклятое наследие сиротского детства! Помню, как мы ездили классом на экскурсию, у других детей в рюкзаках лежали чипсы, шоколадки, сэндвичи с деревенским хлебом, конфеты и газировка, а у меня – обычная еда в пластиковым пакете. «Сиротки довольствуются малым». Меня печалило, что я не могу поделиться, угостить кого-нибудь своим скудным «сухим пайком», поэтому Леонина всегда получала пантагрюэлевские запасы.
Я вошла под крытую галерею и на мгновение замерла, не в силах сделать следующий шаг. Не из-за детей, нет, виной тому были запахи – из буфета, примыкающего к школе строения, шумных коридоров. Был обеденный час. В это время я приходила за Леониной, и она говорила: «Видишь, мамочка, в буфете невкусно пахнет, хорошо, что мы идем домой».
По шкале боли (если таковая существует), войти в школу дочери оказалось труднее, чем на кладбище. В Брансьоне моя мертвая дочка пребывает среди других мертвых, а здесь она – мертвая среди живых.
Бывших одноклассников Леонины в школе уже не было, они теперь учились в коллеже. Я бы не вынесла встречи, узнавания лиц, но не личностей. Те же силуэты плюс опция «жизнь». Ноги, как у кузнечика, лица, утратившие кукольность черт, брекеты, кроссовки огромного размера.
Я шла по коридорам и думала: «Будь Леонина жива, она бы не захотела идти в класс за руку со мной». Одна мамаша сказала мне, что с каждым классом учебы в коллеже ребенок все больше отдаляется от родителей. Да, конечно, но, отправив дочь в летний лагерь, можно потерять сразу все и навсегда.
В первом классе Леонина называла свою учительницу «мадемуазель Клер». Когда милейшая Клер Бертье, проверявшая тетради, подняла голову и увидела в дверях меня, она побледнела. Мы не виделись – ни разу – после смерти Леонины. Клер стало не по себе. Она бы и в мышиную нору забилась, если бы сумела пролезть.
Смерть ребенка обременяет взрослых, старших, посторонних, соседей, торговцев. Они отводят взгляд, избегают вас, переходят на другую сторону улицы. Когда умирает ребенок, для многих его родители тоже «исчезают».
Мы обменялись церемонным «Добрый день!», и я не оставила ей возможности сказать что-нибудь еще, достав фотографию Женевьевы Маньян, ту, где она в смешной шляпке.
– Вы ее знаете?
Удивленная моим вопросом, учительница нахмурилась, взглянула на снимок и ответила, что никогда не видела эту женщину. Я не отступилась:
– Думаю, она здесь работала.
– Здесь? В этой школе?
– Да, в соседнем классе.
Клер Бертье опустила свои чудесные зеленые глаза на фотографию и долго рассматривала лицо Женевьевы Маньян.
– Кажется, теперь я вспомнила… Она была в классе мадам Пьоле, начала работать в середине года, но довольно скоро уволилась. Занималась самыми маленькими.
– Спасибо.
– Зачем вы показали мне снимок? Ищете эту женщину?
– Нет, я знаю, где она живет.
Клер улыбнулась. Так улыбаются сумасшедшим, больным, вдовам, сиротам, алкоголичкам, неграмотным и матерям-потерявшим-своих-детей.
– До свидания, спасибо.
59
Точную высоту дерева можно определить только после его падения.
Я убрала дневник Ирен Файоль в ящик прикроватной тумбочки и время от времени читаю избранные места о себе, но не в хронологическом порядке. В 2008–2015-м она приезжала на мое кладбище, чтобы побыть с Габриэлем. В этот период Ирен делала записи о погоде, любимом человеке, соседних могилах, цветочных горшках и… обо мне.
Жюльен заложил страницы о «даме с кладбища» цветными бумажками, как будто украсил цветами посвященные мне строчки. Я сразу вспомнила рассказ Стефана Цвейга «Письмо незнакомки».
3 января 2010
Сегодня я заметила, что смотрительница кладбища плакала…
6 октября 2009
Выходя с кладбища, я встретила смотрительницу, она улыбалась, с ней шли могильщик, собака и две кошки…
6 июля 2013
Смотрительница часто убирает могилы, хотя это не входит в ее обязанности…
28 сентября 2015
Встретила смотрительницу, она мне улыбнулась, но мыслями была далеко…
7 апреля 2011
Я только что узнала, что муж дамы с кладбища исчез…
3 сентября 2012
Дом дамы с кладбища был заперт на ключ, ставни она тоже закрыла. Я спросила у одного из могильщиков, в чем дело, и он объяснил, что на Новый год и 3 сентября смотрительница никого не хочет видеть. Помимо летнего отпуска, это единственные дни, когда она просит профсоюз прислать человека на замену.
10 августа 2013
Я покупала цветы и узнала, что дама с кладбища уехала в отпуск в Марсель. Мы могли там встречаться…
Открывая дневник на страницах, не помеченных Жюльеном, я чувствую, что вторгаюсь в комнату Ирен и шарю под матрасом. Совсем как ее сын, когда принялся разыскивать Филиппа Туссена. Я ищу Габриэля Прюдана.
Некоторые слова я разобрать не могу – почерк у Ирен такой же плохой, как на рецептах, выписанных врачом. Она писала шариковой ручкой буквы, похожие на мушиные лапки.
После ночи любви в голубой комнате Габриэль Прюдан и Ирен Файоль покинули гостиницу порознь.
Номер полагалось освободить к полудню. Габриэль позвонил портье и сказал, что останется еще на сутки. Закурил, погладил спину Ирен подушечками пальцев и объяснил – между двумя затяжками:
– Хочу, чтобы выветрился хмель, вчера много выпил, но, главное, нужно протрезветь от вас.
Ей это не понравилось. Она услышала: «Я должен избавиться от вас, прежде чем выйти отсюда…»
Ирен встала, приняла душ и оделась. Она впервые после свадьбы не ночевала дома. Габриэль заснул, даже не затушив до конца сигарету.
Ирен открыла мини-бар. Достала бутылку воды, сделала глоток, заметила, что он за ней наблюдает, надела пальто.
– Останьтесь ненадолго.
Ирен вытерла губы тыльной стороной ладони. Жест восхитил Габриэля, как и ее кожа, взгляд, волосы, собранные в конский хвост черной резинкой.
– Я уехала из дома вчера утром. Должна была доставить цветы в Экс и сразу вернуться… Мой муж наверняка уже заявил об исчезновении.
– А вам не хочется исчезнуть?
– Нет.
– Живите со мной.
– Я замужем, у меня сын.
– Разведитесь и заберите мальчика с собой. Я неплохо лажу с детьми.
– Никто не разводится по мановению волшебной палочки. Послушать вас – все совсем просто.
– Но все и правда просто.
– Я не хочу потом присутствовать на похоронах мужа. Вы оставили жену – и она умерла.
– Не будьте злюкой.
Она открыла сумочку, проверила, на месте ли ключи от машины.
– Я не злюка, а реалистка. С людьми так не расстаются. Если можете легко все бросить и начать заново в другом месте, не думая о чувствах других людей, тем хуже для вас.
– Каждый человек проживает свою жизнь.
– Нет. Нужно считаться и с жизнями окружающих.
– Знаю, знаю, я трачу жизнь, защищая их в суде.
– Защищаете. Жизнь тех, кого не знаете. Это почти… легко.
– Ну вот, мы уже упрекаем друг друга, хотя провели вместе всего одну ночь любви. Кажется, мы торопимся.
– Ранит только правда.
Он повысил голос:
– Я ненавижу правду! Нет никакой правды! Как и Бога… И то, и другое придумали люди!
Она пожала плечами:
– Меня это не удивляет.
Он послал ей опечаленный взгляд.
– Уже… Я вас уже не удивляю.
Она кивнула, улыбнулась краешком губ и не прощаясь вышла за дверь.
Ирен спустилась на первый этаж, вышла на улицу и попыталась вспомнить, где вчера оставила свой фургончик. Она искала его на прилегающих к отелю улицах, перед витринами с объявлениями о последних зимних скидках и была готова вернуться в номер и кинуться в объятия Габриэля, но тут заметила машину в глубине тупика. Припаркована она была кое-как, двумя колесами на тротуаре.
В глубине тупика. Кое-как. Да какая разница! Нужно возвращаться к Полю с Жюльеном.
В салоне было противно накурено, она открыла окна, наплевав на холод, и поехала в Марсель. Прямо домой, не заглянув в розарий.
Поль ждал ее. Когда она открыла дверь, он воскликнул: «Это ты?» Муж чуть с ума не сошел от беспокойства, но об исчезновении не заявил – знал, что это может случиться. Всегда знал. Слишком уж красивой, неразговорчивой и замкнутой она была.
Ирен попросила прощения. Сказала, что на кладбище неожиданно встретила вдовца, лишившегося всей семьи, и ей пришлось включиться, помочь, короче – взять на себя все хлопоты.
– Что значит – все?!
– Все…
Поль никогда не задавал вопросов. Считал их принадлежностью прошлого, а он жил настоящим.
– В следующий раз сразу звони мне.
– Ты ел?
– Нет.
– Где Жюльен?
– В школе.
– Ты голоден?
– Да.
– Приготовлю пасту.
– Давай.
Она улыбнулась, пошла на кухню, достала кастрюлю, налила воды и поставила ее на огонь, добавив соль и специи.
Ирен действовала «на автопилоте» и вспоминала спагетти, которые они с Габриэлем ели накануне, прежде чем заняться любовью.
Поль подошел, прислонился к ней, поцеловал в затылок.
Она закрыла глаза.
60
Воспоминание не умирает, оно просто засыпает.
Июнь 1996, Женевьева Маньян
Парижанки приехали на минивэне с чемоданами, теплыми одеялами, циновками, платьями в цветочек, «рвотными» пакетами и радостными воплями. Они тараторили, кудахтали, пищали, визжали, им было от шести до девяти лет. Некоторых я знала – видела год назад. Четверых привезут позже на машине, двух из Кале и двух из Нанси.
Я никогда не любила девчонок, они напоминали мне сестер, которых я не выносила. Слава богу, что у меня родились два крепких мальчика. Они орут и дерутся, но не плачут.
Математика мне никогда не давалась. Как, впрочем, и другие предметы. Но я знаю, что такое коэффициент вероятности – сволочная жизнь научила, вбила в башку. Чем больше число, тем вероятней, что событие произойдет. Но там число было крошечным. Дыра на триста душ, где я два года работала на подмене.
Увидев, как она вышла из машины, бледненькая от усталости – наверное, укачало в дороге, – я сразу подумала о сходстве, а не о вероятности, будь она трижды неладна. Я сказала себе: «Ты ненормальная, старушка. Видишь зло повсюду».
Я ушла на кухню, чтобы спечь малышне блинчики. Девочки устроились за столами, на которых стояли кувшинчики с водой и гренадиновый сироп. Они радостно захлопали в ладоши, когда я внесла гору блинчиков с сахаром, и мгновенно их слопали.
Когда директриса устроила перекличку и малышка, услышав свою фамилию, ответила: «Здесь!» – я чуть не упала в обморок. Та самая фамилия…
Одна из воспитательниц налила стакан холодной воды и подала мне со словами: «Жара замучила, да, Женевьева?» «Наверное…» – ответила я.
В этот момент мне стало ясно, что дьявол существует. Я всегда знала, что Бог – дурацкая выдумка. Но не дьявол. В тот день я была готова снять перед ним шляпу, которой, впрочем, у меня никогда не было. В нашем кругу редко носили шляпы.
«Шляпы – это для буржуа…» – приговаривала моя мать между двумя оплеухами.
Девчонка походила на отца как две капли воды. Я смотрела, как она поглощает блинчики, и вспоминала вкус крови во рту во время последнего свидания с ее папашей. Мы не виделись три года, но я все время о нем думала. Бывало, просыпалась ночью вся в поту и чувствовала тоску и желание отомстить, причинить ему боль.
После полдника дети вышли размять ноги, а я убрала столы и открыла окна, чтобы впустить свежий воздух. Она бегала и играла с остальными, девчонки радостно перекликались, смеялись, визжали. Я с ужасом подумала, что не продержусь целую неделю. Семь дней, с утра до вечера, видеть его в ней! Наверное, стоило сказаться больной, но мне была очень нужна эта работа, на заработанные летом деньги мы жили весь год. Нанимая нас, директриса всех предупредила: в июле и августе отсутствовать на работе могут разве что умирающие! Чертова старая ханжа!
Я дошла до того, что подумывала толкнуть девчонку, пусть свалится с лестницы и сломает ногу, тогда ее сразу увезут. Возвращаем отправителю и делаем приписку: «Примите с моими худшими воспоминаниями…»
Я приготовила еду. Салат из помидоров, рыбу в панировке, плов и кремы на десерт. Накрыла столы на двадцать девять человек. Фонтанель пришел помочь, сказал:
– Ты не в форме, толстуха.
Я ответила: «Заткнись!» – чем очень его рассмешила.
Он высунулся в окно и пялился на воспитательниц, пока ребятишки играли в Раз, два, три – солнце[73].
Раз, два, три – солнце…
61
Мы знаем, что ты сегодня была бы с нами, не будь небо так далеко.
Когда мы в августе 1997-го поселились на кладбище, Саши там уже не было. Дверь дома он по привычке оставил открытой. На столе в кухне лежали ключи и записка. Саша поздравлял нас с приездом и объяснял, где находятся электрический счетчик, лампочки и запасные предохранители.
Чайные коробки исчезли. В доме сделали генеральную уборку, но выглядел он печально, словно без Саши потерял душу. Как девушка, покинутая первым в жизни возлюбленным. Я впервые увидела комнату на втором этаже: она была пуста.
Огород поливали накануне.
Вечером нас навестил главный инженер мэрии, он хотел убедиться, что мы удобно устроились и всем довольны.
Поначалу часто заглядывали люди, нуждавшиеся в Сашиных волшебных руках. Он уехал, ни с кем не простившись, и многие об этом сожалели.
Звонят церковные колокола. Похорон в воскресенье не бывает, только месса, чтобы призвать к порядку живых.
По заведенному порядку в полдень по воскресеньям со мной завтракает Элвис. Он приносит двойные заварные пирожные с ванильным кремом, а я готовлю пенне[74] с грибами, которые посыпаю свежей петрушкой. Вкуснотища! А еще мы едим сезонные овощи с моего огорода – помидоры, редиску или салат из зеленой фасоли.
Элвис очень немногословен. Меня это вполне устраивает – не приходится искать темы для разговора. Элвис тоже не знал своих родителей, до двенадцати лет жил в маконском интернате, потом попал на ферму рядом с Брансьон-ан-Шалоном. Сегодня ее не существует, а все члены семьи умерли и похоронены на моем кладбище. Элвис никогда даже близко к склепу не подходит. Он до сих пор боится отца – Эмильена Фурье (1909–1983), мерзавца, колотившего всех, кто имел несчастье оказаться рядом с ним. Элвис не раз говорил, что не хочет «лежать вместе с ними», и я пообещала за этим проследить. Конечно, если он умрет первым. Мне в голову пришла отличная идея – я уговорила его заключить договор с фирмой братьев Луччини на индивидуальную могилу с фотографией Пресли на памятнике и словами Always in my mind, выбитыми золотыми буквами. Наш Элвис похож на ребенка, как многие мальчишки, не знавшие материнской ласки, и тем не менее он скоро выйдет на пенсию.
Мы с Ноно занимаемся его счетами и заполняем официальные бумаги. Настоящее имя Элвиса – Эрик Дельпьер, но никто его так не называет. Думаю, ни один обитатель Брансьона понятия не имеет, кто он такой на самом деле. Элвис всегда жил под псевдонимом, а в американского гения влюбился в восемь лет. Есть люди, принимающие ту или иную веру, Эрик Дельпьер принял Элвиса, чьи песни стали его молитвами. Отец Седрик читает «Отче наш», а Элвис – «Love me Tender». Насколько мы с Ноно знаем, возлюбленных у нашего друга никогда не было.
Я открыла шкафчик для специй, чтобы достать лавровый лист, и нашла Сашино письмо – между оливковым маслом и бальзамическим уксусом. Я повсюду раскладываю письма, чтобы забыть о них, а потом «случайно» найти и возликовать. Это письмо датировано мартом 1997 года.
Дорогая Виолетта!
Мой сад выглядит грустнее моего кладбища. Дни проходят один за другим, похожие на маленькие похороны.
Что мне сделать, чтобы снова тебя увидеть? Хочешь, я организую похищение из домика у переезда?
Два воскресенья в месяц – не бог весть какая тяжелая ноша, разве нет?
Ну почему ты его слушаешься? Разве не знаешь, что иногда следует проявлять непокорность? Кто займется моими новыми помидорами?
Вчера приходила мадам Гордон – бедняжку совсем замучил опоясывающий лишай. Покидала она мой дом с улыбкой. Эта милая женщина спросила: «Как я могу вас отблагодарить?» – и я едва не попросил: «Привезите ко мне Виолетту!»
Сейчас я готовлю морковную рассаду. Поставлю торфяные горшочки в гостиной, рядом с чайными коробками, за стеклом. Тепло поспособствует росту. Ничто не сравнится с прямыми солнечными лучами. Жалко, что в доме нет камина… Потому и Пер-Ноэль ко мне не заглядывает. Когда морковка взойдет, я перенесу рассаду в теплицу. Репчатый лук, лук-шалот и фасоль можешь высаживать сразу в землю. Но только не морковь. Никогда не забывай о «холодных святых»[75] – 11, 12 и 13 мая каждого года. В эти дни все решается, эти дни нужно посвящать пересадке. Теоретически. Если хочешь уберечь молодую поросль, закрывай на ночь горшками и тонкой пленкой.
Приезжай скорее. Не уподобляйся Пер-Ноэлю.
Твой верный друг,
Саша».
Элвис стучит в дверь и, не дождавшись ответа, входит, неся в руках пирожные, завернутые в белую бумагу. Я складываю Сашино письмо и возвращаю его на прежнее место, чтобы забыть и снова «случайно» наткнуться на него.
– У тебя все в порядке, Элвис?
– Тебя кое-кто ищет, Виолетта. Она сказала: «Я ищу жену Филиппа Туссена».
Кровь застывает у меня в жилах. За Элвисом следует тень. Она входит. Смотрит на меня, не говоря ни слова. Обводит взглядом комнату и возвращается ко мне. Я вижу, что она плакала, хотя это было много дней назад.
Элвис щелчком подзывает Элиану и ведет ее на улицу, как будто хочет защитить от тяжелого разговора. Собака с радостью следует за ним – она привыкла к долгим прогулкам с Элвисом.
Мы остаемся вдвоем.
– Вы знаете, кто я?
– Да. Франсуаза Пелетье.
– Вы понимаете, зачем я пришла?
– Нет.
Она делает глубокий вдох, чтобы сдержать слезы.
– Вы виделись с Филиппом в тот день?
– Да.
Она держит удар.
– Для чего он приезжал?
– Хотел вернуть письмо.
Ей становится нехорошо – она бледнеет, на лбу выступает испарина, но остается неподвижной, только темно-синие глаза мечут молнии. Пальцы сжимаются в кулаки, ногти до крови ранят ладони.
– Садитесь.
Она благодарно улыбается, берет стул. Я наливаю ей большой стакан воды.
– Что за письмо?
– Я послала в Брон просьбу о разводе.
Ответ, судя по всему, приносит ей облегчение.
– Он даже слышать о вас не хотел.
– Я тоже.
– Он говорил, что стал психом из-за вас, ненавидел это место и кладбище.
– …
– Почему вы остались здесь, когда он исчез? Почему не переехали? Не начали жизнь сначала?
– …
– Вы красивая женщина.
– …
Франсуаза Пелетье залпом допивает воду. Она сильно дрожит. Смерть близкого человека замедляет движения оставшегося или оставшейся. Каждое движение замедленно. Я снова наполняю ее стакан. Она вымученно улыбается.
– Я впервые увидела Филиппа в 1970-м, в Шарлевиль-Мезьере. Это был день его причастия. Ему было двенадцать, мне – девятнадцать. Он был в белом стихаре, с деревянным крестиком на шее. Никто не выглядел в этом «наряде» хуже него. Помню, что сказала себе: На кого он точно не похож, так это на мальчика из хора. Скорее уж на хулигана, который распивает церковное вино и курит украдкой. Я тогда только обручилась с Люком Пелетье, братом Шанталь Туссен, матери Филиппа. Он настоял, чтобы мы пошли на утреннюю службу и пообедали с Туссенами. Он не любил сестру и зятя, называл их «занозами в заднице», но обожал племянника. День получился скучный. Филипп открыл все подарки, и в три часа мы уехали. Мамаша Туссен смотрела на меня неласково – не одобряла брата, выбравшего «молоденькую». Люк был старше на тридцать лет.
В том же году мы поженились в Лионе, и Туссены приехали на свадьбу, но чувствовали себя неловко. Филипп допивал за взрослыми и так надрался, что перед началом танцев поцеловал меня в губы, взревев: «Я люблю тебя, тетка!» Гости очень развесились. Остаток вечера он провел в обнимку с унитазом, а мать охраняла дверь и приговаривала: «Бедный мой мальчик, уже неделю мучается несварением!» Она всегда его защищала, что бы он ни натворил. Меня Филипп забавлял, я находила его очень смазливым.
Поженившись, мы с Люком открыли в Броне гараж. Сначала делали техосмотр и мелкий ремонт, меняли масло, красили, потом стали концессионерами. Дела шли отлично, работали много, но не убивались. Никогда. Два года спустя Люк пригласил «малыша Филиппа» – так он называл племянника – провести у нас летние каникулы. Мы жили в дачном доме, в двадцати минутах езды от гаража. Филиппу исполнилось четырнадцать, и Люк подарил ему мотоцикл с объемом двигателя 50 см 3. Мальчик расплакался от радости, а Люк поссорился с сестрой. Шанталь орала на него по телефону, обзывала по-всякому за то, что не посоветовался с ней и подвергает жизнь «мальчика» опасности, хочет, чтобы Филипп убился. Закончила она коронным оскорблением: «Ничтожество! Ты даже ребенка не сумел сделать жене!» Она била по больному месту: женщины Люка от него не беременели.
Это был последний разговор брата и сестры, но Филипп приезжал к нам каждое лето, несмотря на недовольство родителей. Приезжал и не хотел уезжать. Говорил, что хочет жить с ними, умолял не прогонять его, но Люк терпеливо объяснял, что это невозможно, что, если он согласится, подпишет себе смертный приговор, сестра его убьет. Филипп был милый парень, своенравный, но милый. Люк перенес на племянника нерастраченные отцовские чувства, я тоже хорошо с ним ладила. Общалась с ним как с ребенком, а он злился, кричал: «Я уже не маленький мальчик!»
В лето своего семнадцатилетия Филипп поехал с нами в Бьо, это рядом с Каннами. Мы сняли дом с видом на море и каждый день проводили на пляже. Уходили рано утром, завтракали в соломенной хижине и возвращались вечером. Филипп заводил интрижки с девушками, иногда одна из них присоединялась к нам на пляже и оставалась на целый день. Филипп целовался с подружкой на полотенце, не обращая внимания на окружающих. Меня поражали его зрелость и какая-то отвязная беззаботность. Он вечно делал вид, что ему наплевать на весь мир, каждый вечер отправлялся на танцы и возвращался среди ночи. Филипп подолгу принимал душ, брал дядины бритвы, не закрывал тюбик с зубной пастой, бросал банные полотенца на пол. Люк был аккуратист и раздражался. Но не только. Филипп его забавлял, а я, не говоря ни слова, стирала белье мальчишки, в некоторой степени заменявшего нам сына. Филипп привносил в нашу жизнь молодость и беззаботность, веселье и радость. Я была старше на семь лет, но разница в возрасте имеет значение первые двадцать лет. Со временем разница стирается, планеты сближаются, начинаешь любить одни и те же фильмы, сериалы и музыку. Смеешься над одними и теми же шутками.
В Бьо у меня случился романчик с барменом – не оригинальный, не опасный. Мы с Люком любили друг друга. Всегда. До безумия. Он часто говорил: «Я – старый идиот. Если хочешь, развлекайся с молодыми, но так, чтобы я не знал. И смотри не влюбись, этого я не перенесу». Теперь я понимаю, нет – знаю точно, что, толкая меня в объятия других мужчин, Люк надеялся, что я забеременею. О да, подсознательно, но он надеялся однажды услышать хорошую новость о «кенгуренке в сумке». Люк дал бы ему свою фамилию и был бы счастлив. Ну так вот, тем летом мы устроили праздник, позвали человек двадцать гостей, все много выпили, расслабились, и Филипп застал меня с любовником в бассейне. Никогда не забуду его взгляд. Он выражал изумление и вожделение. Филипп почему-то был рад случившемуся. Думаю, в ту ночь он впервые увидел во мне женщину. То есть дичь. Филипп был опасным хищником, а его красота могла совратить с пути истинного даже святую. Вы ведь понимаете? Конечно, понимаете… еще бы вам не понимать…
Он не наябедничал на меня Люку, но, сталкиваясь со мной в доме, многозначительно улыбался, мол, «мы – сообщники». Мне хотелось надавать ему пощечин, а он едва не лопался от самодовольства. Мы больше не смеялись, я с трудом выносила его присутствие, запах его одеколона, нарочитую неаккуратность, шум, который он специально поднимал в пять утра. Если я высказывала недовольство, Люк говорил: «Будь добра с малышом, мать достает его весь год, так пусть хоть с нами чувствует себя свободным!» За едой, стоило Люку отвернуться, Филипп ухмылялся. Я опускала глаза, чувствуя его дерзкий взгляд.
В последний вечер он вернулся раньше обычного. Один. Я была на террасе, дремала в шезлонге. Филипп подкрался и поцеловал меня в губы. Я проснулась, дернулась, отхлестала его по щекам и прошипела: «Слушай внимательно, сопляк, сделаешь так еще раз, ноги твоей в нашем доме не будет!» Он молча ушел спать, а на следующий день мы проводили его на вокзал. Он сел в поезд Шарлевиль – Мезьер, обняв на прощание дядю с тетей. Я не нуждалась в таком проявлении чувств, но у меня не осталось выбора – рядом стоял Люк. Я поразилась наглости и самообладанию мальчишки, а он ухмыльнулся, закинул рюкзак на плечо и посмотрел мне в глаза: «Я тебя поимел!» – вот что он хотел сказать.
Мы с Люком вернулись в Брон, начали работать, и все как будто забылось. Следующей весной Филипп позвонил и сообщил, что летом не приедет, будет праздновать восемнадцатилетие в Испании, с друзьями. Скажу вам честно – я почувствовала облегчение. Не придется испытывать неловкость, избегать его взглядов и неуместных жестов. Люк расстроился, но сказал: «Это нормально. Конечно, ему интереснее с ровесниками…» Мы поехали в Бьо, провели месяц на море, общались с друзьями, но Люк скучал по Филиппу. Он часто жаловался: «В доме слишком чисто и тихо!» Мой муж был очень привязан к племяннику, но тосковал он по собственному ребенку. На обратном пути я решилась и предложила ему взять ребенка из детского дома. Он сразу отказался. Потому что долго об этом размышлял. «Нам очень хорошо вдвоем…»
В следующем январе умерла моя свекровь. Мы поехали на похороны, где, несмотря на печальные обстоятельства, брат и сестра не обмолвились ни единым словом. Мы не виделись с Филиппом полтора года. Он очень изменился, перерос Люка на целую голову. Всю церемонию он делал вид, что не замечает меня. В самом конце, когда Люк пошел проститься с родственниками, Филипп прижал меня к дверце машины и с высоты своего роста – метр восемьдесят восемь! – произнес: «Надо же, тетечка, ты, оказывается, здесь…» – поцеловал в губы и шепнул: «До следующего лета!»
И оно наступило. Лето его двадцатилетия. Я не стала ждать и, не дав ему войти в комнату, встала на цыпочки, схватила за шею и сдавила что было сил. «Предупреждаю, – сказала я, – хочешь нормально провести каникулы, кончай выдрючиваться! Не подходи ко мне, не смотри в мою сторону, забудь об идиотских намеках – и все будет хорошо». Он посмотрел на меня сверху вниз и ответил с иронией в голосе: «Ладно, тетушка, обещаю держаться в рамочках…»
С этого момента я перестала для него существовать. Он был вежлив: добрый день, спокойной ночи, спасибо, до скорого, – к этому свелось наше общение. Утром мы вместе отправлялись на пляж, он – на заднем сиденье, Люк за рулем, я рядом с ним. Филипп всегда выходил из дома поздно, разбрасывал вещи по дому, подружки навещали его по ночам, являлись на пляж, и он уходил за скалу, чтобы заняться любовью. Девушки трясли сиськами и хихикали, очень веселя Люка. Филипп был очень красив, этакий загорелый кудрявый ангел, высокий, мускулистый, изящный. Его хотел весь «женский состав» и некоторые мужчины, а кто не возбуждался, тот завидовал. Это делало Филиппа самоуверенным. Люк иногда шептал мне на ухо: «Моя сестра точно изменяла Туссену, двое столь жутких особей не могли произвести на свет такого чудесного ребенка!» Я хохотала – Люк всегда умел рассмешить меня. Моя жизнь с ним была по-настоящему счастливой, он избаловал меня любовью. Мы были лучшими друзьями, и я даже мысли о расставании не допускала. Я бы этого не пережила. Люк был мне другом, отцом, братом. Бурные ночи остались в прошлом, но это не имело значения, я время от времени «подкармливалась» на стороне.
Я знаю, о чем вы думаете: Ну и когда же Филипп ее получил?
Франсуаза долго молчала. Стряхнула тыльной стороной ладони невидимое пятнышко с джинсов. Время остановилось. Мы одни, сидим лицом к лицу и не произносим ни слова. Как будто Филипп сменил одеколон. Как будто Франсуаза привела ко мне на кухню незнакомца.
– Мы с Люком устроили вечеринку по случаю двадцатилетия Филиппа. Пришли его друзья. Гремела музыка, рядом с маленьким бассейном стоял стол со спиртным и закусками. Все танцевали, и я, сама не знаю зачем, начала заигрывать с Роланом, юным кретином, с которым Филипп проводил много времени. Мы отошли в сторонку, чтобы поцеловаться, и вернулись к именинному торту и подаркам. Филипп бросил на меня злобный взгляд, и я испугалась скандала, но он задул двадцать свечей, и Люк сразу выкатил подарок, обвязанный красной лентой: серый мотоцикл Honda СВ100 и чек на тысячу франков в конверте, прикрепленный скотчем к шлему. Они обнялись, похлопали друг друга по спине, выпили шампанского под радостно-изумленные крики гостей. Филипп делал вид, что совершенно успокоился. Он улыбался. Острил, но я слишком хорошо его знала, чтобы поверить его поведению. Снова включили музыку, танцы продолжились, и Ролан направился ко мне, но Филипп поймал его за плечо и что-то прошептал на ухо. Тот ответил: «Ты это серьезно, мужик?» – и они замахали кулаками. Люк к этому времени уже лег, но, услышав шум скандала, прибежал на выручку любимому племяннику и пинками под зад выгнал Ролана из дома. Когда речь заходила о Филиппе, Люк реагировал, как Шанталь, то есть обвинял других. На вопрос «Что случилось?» сильно пьяный Филипп прорычал: «Ролан охотится на моей территории… а моя территория – только моя!!!»
Праздник продолжился, как будто ничего не случилось. Я в ту ночь не спала. Филипп раздел подружку прямо под окном нашей спальни, и они предались любовным утехам. Девица стонала, Филипп произносил скабрезности, предназначенные для моих ушей. Он говорил громко – так, чтобы слышала я, но не Люк. Филипп знал, что дядя принимает снотворное, а я лежу рядом, с открытыми глазами, и все слышу. Он мстил мне. Все следующие дни мы его практически не видели. Он с утра до вечера катался на мотоцикле, не приходил даже на пляж. Его полотенце оставалось сухим и нетронутым. Мне то и дело снилось, что он подходит, ложится сверху, я начинала задыхаться и просыпалась.
Дней через десять после дня рождения Филипп неожиданно пришел к морю. Я в этот момент плавала и была далеко от берега. Он чмокнул Люка, сел рядом. Люк махнул рукой в мою сторону, и Филипп разделся, вошел в воду и поплыл быстрым красивым кролем. Я не могла сбежать, как загнанная в угол крыса. Филипп приближался, и я запаниковала, не могла плыть и кружила на одном месте. Не знаю почему, но я решила, что он собрался меня утопить. Я разрыдалась, начала кричать, но никто не мог меня услышать, я была за буйками. Через несколько минут Филипп оказался рядом, сразу понял, что я не в себе, и попытался помочь, но я отбивалась, орала: «Не смей ко мне прикасаться!» Тогда он залепил мне пощечину, силой взвалил себе на спину и поплыл к буйку. Я колотила его, он отбивался, и мы все-таки добрались. Я уцепилась за буек, он тоже – ему нужно было отдышаться. «Успокойся! – приказал он. – Отдышись и плыви к берегу!» Я крикнула: «Не трогай меня!» – «Я не могу к тебе прикоснуться, а все мои дружки могут, так, что ли?!» – «Ты мой племянник!» – «Нет, я племянник Люка». – «Ты – избалованный мальчишка!» – «Я люблю тебя!» – «Прекрати, заткнись!» – «Никогда!» Я замерзла, у меня начали стучать зубы. Посмотрела на Люка, почувствовала, что должна немедленно оказаться в его надежных объятиях, и попросила Филиппа помочь мне добраться до берега. Он снова подставил спину, и я обняла его за шею. Филипп поплыл брассом, напрягая мышцы спины, но я чувствовала лишь страх и отвращение.
Два следующих лета мы с Люком провели в Марокко и Филиппа не видели, но он иногда звонил, а почти через три года после случая на пляже, в мае, приехал навестить нас на подаренной Люком «Хонде». С ним была очередная подружка. Филипп снял шлем, я встретилась с ним взглядом, он улыбнулся, и тут… Никогда не забуду, как сказала себе: Я его люблю. Погода в тот день выдалась замечательная, и мы поужинали в саду. Долго разговаривали – обо всем и ни о чем. Девушка – забыла ее имя – была совсем молоденькая и очень застенчивая. Люк как ребенок радовался новой встрече с племянником. Филипп давно закончил школу и теперь работал – время от времени и кое-как. Я обомлела, когда муж сказал: «Давай-ка я обучу тебя нашему делу, а потом будешь работать в гараже». Я никогда не верила в Бога, не ходила в воскресную школу, но тем вечером молилась: Господь всемогущий и милосердный, прошу, сделай так, чтобы Филипп никогда не работал с нами! Я почувствовала его взгляд. Он ответил дяде: «Позволь я обсужу это с отцом, иначе он обидится, и тогда… Сам понимаешь». Мы ушли к себе, легли, но я так и не заснула. На следующий день был выходной. Филипп с подружкой встали поздно, практически перед обедом. После еды Люк прилег отдохнуть, мы с малышкой смотрели телевизор, а Филипп уехал проветриться на мотоцикле.
Я делала все возможное, чтобы не оставаться с ним наедине, но, когда наступил час аперитива, пришлось спуститься в подвал за бутылкой шампанского. Я сразу узнала запах – Филипп меня подловил. Он сказал: «Я не буду работать в вашем гараже, но сегодня в полночь ты выйдешь в сад, сядешь на стенку и будешь ждать». Я открыла было рот, но он бросил: «Не бойся, я тебя не трону», – и ушел. Я взяла бутылку и вернулась за стол. Филипп появился через пять минут, притворившись, что пришел с улицы. Я не понимала, чего он от меня ждет. В глубине сада стоял деревянный сарай, за ним – старая низкая каменная стенка. Подростком Филипп тренировал на ней выкрутасы на доске. Люк называл ее «стеной Филиппа»: «Нужно украсить стену Филиппа цветочными ящиками», «Давай-ка подкрасим стену Филиппа», «Вчера ангорский красавец лежал на стене Филиппа…»
Вечер прошел как в тумане, я много пила и не пьянела. В одиннадцать все пошли спать. Филипп бросил на меня короткий взгляд и обратился к Люку: «Дядечка, я сегодня разговаривал с родителями, хотел посоветоваться насчет гаража… Они устроили истерику, так что, извини, поработать вместе не получится…» – «Ничего страшного, мой мальчик, не переживай».
Я легла, открыла книгу. Люк быстро уснул, а я мучилась, ворочалась, сердце колотилось все быстрее. В доме царила тишина. В 23.55 я надела пальто и пошла в сад. Было очень темно. Я сидела на стенке и вздрагивала от каждого звука. Боялась, что Люк проснется и отправится меня искать. Не знаю, сколько прошло времени. Я не шевелилась, парализованная страхом. Ничего не происходило. Я думала: Если уйду, Филипп передумает. Явится в гараж и скажет Люку, что согласен работать с ним… В этом случае мне останется одно – уйти, уехать, сбежать. Развестись с Люком, ничего не объясняя. Узнай он, что обожаемый племянник возжелал его жену, умер бы от огорчения. Я не могла «убить» мужа своей любовью к другому мужчине.
Наконец появился Филипп с подружкой. Он приказал девушке: «Молчи и подчиняйся!» У девушки были завязаны глаза, он вел ее за руку. В другой руке он держал фонарь, которым он светил в мою сторону, так что я различала только силуэты. Филипп прислонил малышку спиной к дереву, положил фонарь на землю, и я оказалась в световой ловушке. Он сказал: «Я хочу видеть твое лицо». Девушка думала, что он обращается к ней, она выполняла все его указания, не зная, что я совсем рядом. Они занимались любовью, и я чувствовала, что он смотрит на меня. В какой-то момент Филипп произнес: «Ближе, ближе, ближе», – и я подошла на ватных ногах. Она по-прежнему стояла спиной ко мне, а Филипп – лицом, я чувствовала запах их тел. «Да, вот так, смотри, как я люблю тебя!» Никогда не забуду взгляд Филиппа, его несчастную улыбку, движения его тела. Победу надо мной.
Я вернулась в спальню, легла, прижалась к Люку. Остаток ночи мне снился Филипп. В следующие ночи тоже. Утром Филипп и девушка уехали. Я не вышла проститься – сослалась на мигрень и осталась в постели.
Встала, услышав удаляющееся рычание мотора, поклялась никогда больше с ним не встречаться, но думала о нем. Часто. Следующим летом мы с Люком уехали на Сейшелы. Я сказала, что хочу еще раз пережить медовый месяц.
Мы увиделись, когда Филиппу исполнилось двадцать пять. Он появился неожиданно для меня, хотя Люк был в курсе. Они решили сделать мне сюрприз. Я разыграла радость, хотя меня тошнило, слишком уж сильные и противоречивые чувства владели мной в тот момент. Неприязнь и влечение. В тот же вечер он занимался любовью под моим окном, нашептывая девушке: «Ближе, ближе, смотри, как я люблю тебя». Так продолжалось месяц. Днем я всеми силами старалась избегать Филиппа. Выйдя к первому завтраку, он говорил: «Привет, тетечка, как спалось?» – но больше не улыбался и выглядел несчастным. Что-то изменилось, но каждую ночь он исполнял «показательный номер» с новой партнершей. Я тоже перестала улыбаться. Я тоже чувствовала себя несчастной. Он заразил меня своей нечистой любовью. Я была скорее больна им, чем влюблена.
В последний день отпуска я проводила его на вокзал. Сказала на прощание, что больше не желаю его видеть. Он ответил: «Уедем вместе. С тобой у меня все получится, я стану бесстрашным и всесильным. Если откажешься, все пропало, я стану полным ничтожеством». Мое сердце разрывалось от жалости, но я дала ему понять, что никогда не брошу Люка. Он спросил, может ли поцеловать меня в последний раз. Я отказала… Знала – если позволю, уеду с ним.
Тридцатого августа 1983 года, в тот момент, когда его поезд исчез из виду, я поняла, что больше никогда не увижу Филиппа. Почувствовала. Во всяком случае, в этой жизни. Вы ведь знаете, что за жизнь мы проживаем много разных жизней?
Мы потеряли Филиппа из виду. Сначала он еще звонил, но с годами перестал. Люк решил, что племянник в конце концов внял настояниям родителей и остепенился. Наша жизнь потекла по-прежнему, мирно и беззаботно. Год спустя до нас дошло известие о женитьбе Филиппа. Сестра рассказала Люку, что у него родился ребенок, что они переехали. Сам он ни разу с нами не связался. Я знала, что это из-за меня, и мучилась, видя, как страдает Люк.
А потом случилась эта драма. Мы узнали почти случайно. Смерть в летнем лагере. Ужасно… Люк хотел связаться с Филиппом, позвонил Шанталь, чтобы узнать телефон и адрес, а она не пожелала разговаривать – повесила трубку. Он не стал упорствовать, отнес такое поведение на счет пережитого горя. «Да и потом, что тут скажешь? Бедный Филипп…»
В октябре 1996 года Люк умер у меня на руках от сердечного приступа. Это был прекрасный теплый день, мы завтракали и смеялись, а ближе к полудню у него остановилось дыхание. Я кричала: «Нет, Люк, нет, открой глаза!» – в надежде, что его сердце снова забьется, но он меня не услышал. Все было кончено. Я винила себя. Долго винила, считала, это из-за Филиппа. Из-за его странной тайной любви. Вообще-то, совсем не странной.
Я не стала предупреждать родителей Филиппа и хоронила мужа одна. Люк бы это одобрил. Он бы ожил на пять минут, чтобы надавать сестре и зятю оплеух и выкинуть их с кладбища. Филиппу о смерти дяди я тоже не сообщила. Зачем? Я решила сохранить гараж, но наняла управляющего и много месяцев прожила вдалеке от Брона. Нужно было подумать, «повдоветь», как говорится.
Это не помогло. Стало только хуже. Я едва не умерла. Свалилась в депрессию и оказалась в психушке, где меня накачивали лекарствами. Я едва могла досчитать до десяти. Смерть Люка почти добила меня. Потеряв мужчину моей жизни, я утратила ориентиры. И все-таки оправилась, взяла себя в руки и решила заняться делом. Гараж был важен для нас обоих, особенно для меня. Я продала загородный дом и купила другой, в пяти минутах ходьбы от гаража. В тот день, когда я передавала ключи новым владельцам, на стенку Филиппа сел дрозд и принялся распевать во все птичье горло.
В 1998-м я была в своем кабинете и составляла смету для клиента, когда он явился в гараж. Приехал на мотоцикле. Я поняла, кто это, до того как он снял шлем. Мы не виделись пятнадцать лет. Фигура изменилась, но повадка осталась прежней. Я думала, у меня разорвется сердце. Я не верила, что мы снова встретимся. Я редко думала о нем, хотя по ночам он составлял мне компанию. Я мечтала о нем, видела сны с его участием, но днем не вспоминала.
Филипп снял шлем и сразу стал частью моего настоящего. Я была потрясена – выглядел он просто чудовищно. Я рассталась на вокзале с парнем двадцати шести лет, теперь же передо мной стоял мрачный мужчина. Он не утратил красоту. Его не портили даже темные круги под глазами. Мне хотелось кинуться к нему, обнять – как делают герои в фильмах Лелуша. Я вспомнила его последние слова: «Уедем вместе. С тобой у меня все получится, я стану бесстрашным и всесильным. Если откажешься, все пропало, я стану полным ничтожеством».
Я сделала шаг, другой. Что за эти годы произошло со мной? Я тоже изменилась. Скоро мне исполнится сорок семь лет. Выгляжу я не лучшим образом. Ничего удивительного, алкоголь и курение никому не идут на пользу. Я была тощей, даже изможденной, на лице появились морщины, кожа утратила сияние, высохла. Филипп как будто ничего этого не заметил, а может, ему было все равно. Он бросился в мои объятия. «Упал» – так будет точнее. Он долго рыдал у меня на груди. Посреди гаража. Потом я увезла его к себе. К нам. И он все мне рассказал.
Франсуаза Пелетье ушла час назад, но ее голос все еще звучит в стенах моего дома. Думаю, она хотела причинить мне боль, а получилось, что, одарив правдой, сняла груз с души.
62
Я больше не мечтаю, не курю, у меня нет истории, без тебя я грязнуля, без тебя я урод, без тебя я сирота в дортуаре.
Габриэль Прюдан затушил окурок и вошел в розарий за пять минут до закрытия. Ирен Файоль уже погасила свет в магазине, попасть в сады было нельзя. Она опустила тяжелые железные решетки и ушла в подсобку. Он стоял у прилавка и ждал – как клиент сдачу.
Они встретились взглядом. Она – в белом свете галогеновой лампы, он – в неоновом свете красной лампочки над входной дверью.
Она по-прежнему красива. Что он здесь делает? Надеюсь, для нее это приятный сюрприз. Он пришел, потому что хочет что-то сказать? Она не изменилась. Он не изменился. Сколько времени прошло? Три года. В последний раз она слегка разозлилась. У него потерянный вид. Ушла и не попрощалась. Надеюсь, он на меня не сердится. Нет, иначе не был бы здесь. Она все еще замужем? Он начал новую жизнь? Кажется, она поменяла цвет волос, они стали светлее. Все то же старое темно-синее пальто. Как обычно, в бежевом. Экран телевизора делает его моложе. Что она делала все это время? Что он видел, кого защищал, с кем познакомился, что ел, где жил? Годы. Вода, текущая под мостами. Она согласится выпить со мной? Почему он зашел так поздно? Она помнит меня? Он меня забыл. Хорошо, что она оказалась здесь. Нам повезло, обычно по четвергам Поль забирает меня после работы. Я мог молча развернуться и уйти. Он меня поцелует? Она найдет для меня время? Сегодня родительское собрание. Наверное, нужно было пойти следом за ней по улице. Он за мной следил? И сделать вид, что случайно столкнулся с ней на тротуаре. Поль и Жюльен ждут меня у коллежа в 19.30. Преподавательница французского хочет с нами побеседовать. Первый шаг, пусть она сделает первый шаг. Это слова из песни. Жить, каждый на своей стороне. Мы пойдем в отель? Он напоит меня, как в прошлый раз? Ей наверняка есть что мне сказать. Не забыть о преподавателе английского. Нужно отдать ей подарок, без этого я уйти не могу. Что я здесь делаю? Его кожа, отель. Его дыхание. Он бросил курить. Невозможно, он никогда не бросит. Он не решается… Его руки…
Дневник Ирен Файоль
2 июня 1987
Я вышла со склада, и Габриэль последовал за мной с робкой улыбкой – он, великий адвокат, он, такой харизматичный, владеющий высоким слогом, лепетал что-то, как маленький ребенок. Он, защитник преступников и облыжно обвиненных, не нашел слов, чтобы защитить нашу любовь.
Мы оказались на улице. Габриэль так и не отдал мне подарок, и мы не сказали друг другу ни слова. Я заперла дверь, и мы пошли к моей машине. Как и три года назад, он сел рядом со мной, уперся затылком в подголовник, и я поехала куда глаза глядят. Мне не хотелось останавливаться, чтобы он не вышел. Мы оказались на шоссе, я выбрала направление на Тулон и повезла его вдоль побережья, к Антибу. В десять вечера кончился бензин, и я остановилась на берегу моря, рядом с отелем «Золотая бухта». Мы прочли ресторанное меню и расценки номеров. Белокурая администраторша сердечно нам улыбалась, и Габриэль поинтересовался, не поздно ли для ужина.
Я наконец-то услышала его голос – впервые с того момента, как он вошел в розарий. В машине он не произнес ни слова – включил радио и нашел музыкальную станцию.
Портье ответила, что в это время года ресторан работает только по выходным, но она может подать нам салаты и клубные сэндвичи в номер.
Мы ни слова не говорили о номере.
Она протянула нам ключ, не дожидаясь ответа. Ключ от № 7. И спросила, какое вино мы предпочитаем – белое, красное или розовое. Я посмотрела на Габриэля: спиртное выбирал он.
Последним был вопрос о том, сколько ночей мы проведем в отеле, и тут ответила я: «Пока не знаем…» Она проводила нас до номера, чтобы показать, где зажигается свет и как включается телевизор.
На лестнице Габриэль шепнул мне на ухо: «Мы похожи на влюбленных, иначе она не предложила бы нам номер».
Комната оказалась бледно-желтой. Цвет Юга. Администраторша открыла балкон, выходивший на террасу и черное море. Мы почувствовали дыхание теплого ветра. Габриэль бросил пальто на спинку стула, но прежде достал что-то из кармана и протянул мне. Маленький предмет в подарочной бумаге.
– Я пришел, чтобы отдать вам это, и, переступая порог розария, не думал, что мы окажемся в отеле.
– Вы сожалеете, что так вышло?
– Ни на йоту!
Я развернула бумагу и увидела снежный шар. Встряхнула его несколько раз.
В дверь постучали, портье ввезла столик на колесах, извинилась и исчезла так же быстро, как появилась.
Габриэль взял мое лицо в ладони и поцеловал.
«Ни на йоту» стали последними словами, которые он произнес тем вечером. Мы не прикоснулись ни к еде, ни к вину.
Утром я позвонила Полю, сказала, что пока не вернусь, и повесила трубку. Потом предупредила помощницу, что ей придется на несколько дней взять розарий на себя. Она испугалась и спросила: «Кассу тоже?» – «Да», – ответила я и закончила разговор.
Я подумывала о том, чтобы не возвращаться вовсе. Исчезнуть раз и навсегда. Ничего никому не объяснять. Не смотреть в глаза Полю. Трусливо сбежать. Встретиться с Жюльеном, когда он вырастет и будет в состоянии понять.
У нас не было никакой одежды на смену, и на следующий день мы отправились в бутик за покупками. Габриэль категорически воспротивился бежевому цвету и выбрал для меня яркие платья, «богато» украшенные золотыми деталями. А еще босоножки. Я не сделала ни одного шага в подобной обуви – содрогалась при мысли о том, чтобы выставить пальцы на всеобщее обозрение.
Следующие несколько дней, напялив на себя эти диковатые тряпки, я чувствовала себя замаскированной.
Позже я часто задавалась вопросом: что это было – попытка скрыть личность или открытие себя настоящей?
Неделю спустя Габриэлю пришлось уехать в Лион – он защищал в суде человека, обвиненного в убийстве, и был уверен в его невиновности. Он умолял меня составить ему компанию. И я подумала: можно бросить розы и семью, но не обвиняемого в убийстве.
Мы вернулись в Марсель, чтобы забрать машину Габриэля, стоявшую в нескольких улицах от моего розария. Я собиралась оставить пикап с ключами, спрятанными на переднем левом колесе, как часто делала, и сопровождать Габриэля.
Увидев красный спортивный кабриолет, я подумала, что не знаю этого мужчину. Совсем не знаю. Я только что провела с ним лучшие дни моей жизни, но что теперь?
Не знаю почему, но мне это напомнило курортный роман. Знакомишься на пляже с прекрасным незнакомцем, влюбляешься до одури, а в сентябре встречаешь его в Париже, на серой улице, одетого по погоде, и… чар как не бывало!
Я подумала о Поле. О нем я знала все. Он нежный, красивый, тонкий, застенчивый, любит меня, у нас сын. И в тот же момент увидела мужа за рулем его машины. Наверное, он заходил в розарий. Ищет меня повсюду. Бледный, погруженный в невеселые мысли. Он меня не заметил, и я поняла, что сожалею об этом. Почему? Он невольно оставил мне выбор – вернуться к нему или сесть в машину Габриэля. Я увидела свое отражение в витрине магазина, женщину в зелено-золотом платье, другую женщину, не себя.
Я сказала Габриэлю, успевшему сесть за руль кабриолета: «Подожди меня». Дошла до розария. Заглянула внутрь и никого не увидела. Моя помощница была в садах.
Я рванула с места и помчалась, как преследуемый лисой заяц. Забежала в первый же отель, сняла номер и закрылась там, чтобы выплакаться.
На следующий день я вернулась к работе и одежде бежевого цвета, поставила шар Габриэля на прилавок и поехала домой.
Помощница рассказала, что накануне в розарий заходил знаменитый адвокат, сказал, что везде ищет мадам Файоль, и показался ей обезумевшим. «Знаете, в жизни он не так хорош, как на экране, и совсем не высокий!»
Прошла неделя, и газеты сообщили, что мэтр Габриэль Прюдан добился оправдания своего клиента в суде Лиона.
63
Уход отца укрепляет ощущение его присутствия.
Из всех свидетелей на процессе он помнил только Фонтанеля. Его рожу, жесты, манеру говорить. То, как он был одет.
Адвокат вызвал Алена Фонтанеля последним. После всех сотрудников, пожарных, экспертов, повара. Когда Фонтанель уверенно ответил на вопросы судьи, Филипп Туссен заметил, что Женевьева Маньян опустила глаза. Увидев ее в коридоре суда в первый день процесса и узнав, что в ту ночь она находилась в Нотр-Дам-де-Пре, он сразу подумал: Она подожгла комнату девочек. Она отомстила.
Но сильное беспокойство Филипп Туссен ощутил в тот момент, когда показания давал Фонтанель. «Неужели только меня тошнит от его вранья?» – подумал он и бросил взгляд на лица родителей других девочек. Они вообще никак не реагировали, потому что сами превратились в мертвецов. Как Виолетта. Как директриса на скамье подсудимых, женщина с пустым взглядом, которая слушала свидетеля, не слыша ни одного слова.
Филипп Туссен повторил про себя: Я – единственный выживший. Он чувствовал себя виноватым – смерть Леонины не уничтожила его, как других родителей, как будто Виолетта приняла на себя всю силу удара. И не разделила с ним свою печаль. В глубине души Филипп знал, что от земли его оторвала ярость. Оторвала и держит «над схваткой». Глухая, тяжелая, бешеная, черная ярость, о которой он никогда никому не говорил, ведь Франсуазы рядом не было. Он ненавидел родителей, особенно мать, ненавидел всех, кто ничего не сделал, когда огонь…
Он был плохим отцом. Вечно отсутствовал, притворялся папой, был слишком эгоистичен, зациклен на себе, чтобы одаривать любовью других. Филипп однажды решил, что в жизни его будут интересовать две вещи – мотоцикл и женщины. Все женщины, ждущие «употребления», как зрелые фрукты на прилавке зеленщика. С годами он так «напробовался» соседок, что приятель предложил ему адресок места, где люди забавлялись вместе. Порядочные женщины не влюблялись, не устраивали сцен и приходили туда в поисках того же, чего жаждали мужчины.
Директрису приговорили к двум годам тюремного заключения, первый – без права на условно-досрочное освобождение. Пострадавшим присудили большую компенсацию. Эти деньги он оставит себе. Этот принцип внушила Филиппу его негодяйка мать: «Пусть все всегда принадлежит только тебе, она будет только выкачивать из тебя деньги».
После суда родители ждали его на улице – несгибаемые, как правосудие. Он бы отдал все на свете за возможность сбежать через черный ход и не смотреть им в глаза. После смерти Леонины Филипп почти возненавидел обоих. Мать, вечно обвинявшая Виолетту во всех грехах, не могла переложить на нее ответственность за случившееся, ведь она сама настояла на злосчастной поездке в лагерь. Филипп отправился обедать с родителями, но не мог проглотить ни куска. Отец расплатился – «это не обсуждается, сынок!» – и Филипп записал на обороте счета: «Эдит Кроквьей, директриса; Сван Летелье, повар; Женевьева Маньян, прислуга; Элоиза Пти и Люси Лендон, воспитательницы; Ален Фонтанель, управляющий и ответственный за техобслуживание и ремонт».
Домой он вернулся, практически ничего не добившись – если не считать свидетельства Фонтанеля: «Я спал на втором этаже. Меня разбудили крики Свана Летелье. Женщины уже начали выводить других детей. Нижняя комната была в огне, если бы кто-нибудь открыл дверь, сделал бы только хуже…»
Филипп сообщил Виолетте вердикт, она сказала: «Понятно…» – и вышла, чтобы опустить шлагбаум. В этот момент он вспомнил Франсуазу и летние месяцы в Бьо. Он часто так делал, когда настоящее слишком уж сильно угнетало его.
Остаток дня Филипп играл на Nintendo, рыча от ненависти, если Марио промахивался. Виолетта давно спала, когда он выключил телевизор. Филипп оседлал мотоцикл и помчался по адресу, чтобы заняться сексом с женщинами, которые не ждали от него ничего, кроме выносливости и хорошей «техники». Из головы не шли слова Фонтанеля.
Ничего более ужасного случиться не могло.
После смерти Леонины Филипп перестал ощущать себя центром вселенной. Пупом земли, которому мать всю жизнь вбивала в голову: «Не думай о других, думай о себе».
Иногда он говорил Виолетте: «Заведем малыша…» Она соглашалась – лишь бы он отстал. Ей хотелось избавиться от человека, который покинул ее много лет назад и обманывал – не с другими женщинами, а с Франсуазой, единственной, кого он любил. Филипп женился на Виолетте не ради ее счастья, он просто хотел наконец освободиться от изводившей его матери.
Когда Виолетта потеряла дочь, Филипп очень за нее переживал. Он тоже лишился дочери, но его печаль была несоизмерима с горем жены. Филипп мучился, понимая, что бессилен помочь Виолетте, она не желала его заботы. Они могли поговорить разве что о телепрограмме или марках шампуня. У Филиппа не выговаривался обыденный вопрос: «Как ты себя чувствуешь?» – и за это он тоже чувствовал себя виноватым. За то, что не научился страдать. Ничему не научился – ни любить, ни работать, ни отдавать. Бесполезное существо.
Виолетта понравилась ему, как только он увидел ее за стойкой бара. Его потянуло к этой девочке, похожей на яркий леденец, купленный на ярмарке. Филипп захотел ее, и это чувство не имело ничего общего с непреходящей любовью к Франсуазе. Все в Виолетте было желанно – голос, кожа, улыбка, невесомость, мальчишечья повадка, хрупкость, умение отдать всю себя, без остатка. Он очень быстро сделал ей ребенка, потому что не собирался ни с кем делить эту девочку. Так сластена съедает втихаря любимое пирожное, чтобы, не дай бог, никто не попросил кусочек.
В августе 1996-го, через девять месяцев после суда, отправившего Эдит Кроквьей в тюрьму, Виолетта уехала на десять дней в Марсель, в хижину Селии. Филипп не переваривал эту женщину, и чувство было взаимным. Он сказал жене, что проведет время, катаясь на мотоцикле с прежними дружками из Шарлевиля, и соврал: никаких друзей у него не было.
Он отправился в Шалон-сюр-Сон, один. Там, в больнице Святой Терезы, открывшейся в 1979-м, обретался Ален Фонтанель. Когда он потерял работу в Нотр-Дам-де-Пре, его взяли в бригаду из трех человек, отвечавшую за электрику, сантехнику и мелкий ремонт. Филипп Туссен не решил, какой подход выберет в общении с этим человеком, мирно с ним побеседует или измордует до смерти, чтобы тот сказал правду. Фонтанель был на двадцать лет старше, так что нейтрализовать его будет нетрудно, главное – остаться с мерзавцем наедине и задать вопросы, почему-то не прозвучавшие на суде.
Филипп Туссен вошел в больницу и сказал девушке в приемном покое, что хочет поговорить с Аленом Фонтанелем. «Вы знаете номер его палаты?» – спросила она, и он пробормотал: «Он не пациент, он здесь работает…»
– Санитаром? Интерном?
– В обслуге.
– Сейчас узнаю.
Регистраторша сняла трубку, и в этот момент Филипп Туссен увидел, как Фонтанель входит в кафетерий на первом этаже, в пятидесяти метрах от стойки. Он был в сером рабочем комбинезоне. Филипп почувствовал дикое раздражение – этот человек и в суде вызвал у него немотивированную антипатию. Он отреагировал мгновенно, не раздумывая. Взял поднос и встал за спиной у Фонтанеля. Заказал блюдо дня. Фонтанель сел за стол у окна, один, и Филипп Туссен устроился напротив, не спросив разрешения.
– Мы знакомы?
– Да. Но никогда не разговаривали.
– Я могу вам чем-то помочь?
– Безусловно.
Фонтанель спокойно, ничуть не забеспокоившись, управлялся с мясом.
– Я все время о вас думаю.
– Обычно я так действую на женщин.
Филипп Туссен больно прикусил щеку, чтобы не взорваться.
– Думаю, на суде вы сказали не всю правду… Все время слышу ваши слова.
Фонтанель не удивился. С минуту, не меньше, смотрел на Туссена – пытался вспомнить, видел ли его в зале, – потом отвел взгляд и принялся старательно подбирать соус с тарелки толстым куском хлеба.
64
Спи, папа, спи, но пусть наш детский смех доносится до тебя и на небесах.
Кладбище в Броне, 2 июня 2017 года, синее небо, +25°, 15.00. Похороны Филиппа Туссена (1958–2017). Дубовый гроб. Памятник из серого мрамора. Без креста.
Три венка – «Прекрасные цветы для прекрасных воспоминаний, которые никогда не сотрутся», – белые лилии – «Примите эти цветы в знак моей глубочайшей симпатии».
На траурных лентах надписи: «Моему спутнику», «Нашему коллеге по работе», «Нашему другу». На табличке – позолоченный мотоцикл и фраза: «Ушел, но никогда не будет забыт».
У могилы собрались человек двадцать. Люди из другой жизни Филиппа Туссена.
В качестве законной супруги я дала разрешение Франсуазе Пелетье подхоронить Филиппа Туссена к Люку Пелетье. Чтобы он воссоединился с дядей, о котором я знать не знала. Как и о большой части жизни Филиппа Туссена.
Я дожидаюсь, когда все расходятся, чтобы подойти и поставить табличку от Леонины: «Моему отцу».
65
Короткая записка с признанием в любви.
Короткая записка-просьба:
«Помоги нам пережить суровые испытания!»
Август 1996, Женевьева Маньян
Я его ждала. Знала, что придет – рано или поздно. Знала задолго до того, как увидела Фонтанеля. Он вернулся домой на костылях, с багрово-синим лицом и двумя выбитыми зубами.
«Во что ты снова ввязался?» – спросила я, подумав, что он напился и по привычке полез в драку с другими алкашами. Необузданная жестокость была у него в крови, он часто задавал мне трепку, если возвращался домой пьяным.
«Спроси у типа, который то и дело седлал тебя за моей спиной», – рявкнул он в ответ, и эта фраза ранила меня сильнее побоев.
Слова Фонтанеля были как удар ножа в живот. Его отдубасили, он хромал, но пострадала я. Да так сильно, что боялась шевельнуться. Вспоминала свинью, которую неделю назад резали у соседа. Как же она визжала, как дрожала от ужаса и боли! А мужчины хохотали. Все вокруг провоняло смертью. В тот день мне захотелось повеситься. Впервые захотелось «покончить с этим», как говорят богатеи. Нет, вру, не впервые, но желание долго не проходило. Дольше обычного. Я даже взяла деньги, чтобы купить веревку в «Брикораме», потом вспомнила о мальчиках. Им четыре и девять лет. Как они будут жить без меня с Фонтанелем?
Я знала, что он придет и будет задавать вопросы, поняла, поймав его взгляд в коридоре суда.
В дверь постучали, и я решила, что это почтальон, потому что ждала доставку из La Redoute, открыла дверь и увидела его. У него был усталый взгляд. Я сразу почувствовала его печаль. Увидела его красоту и презрение. Он смотрел на меня, как на собачье дерьмо.
Я попыталась захлопнуть дверь, но не успела. Он ударил по ней ногой, как взбесившийся жеребец. Я могла вызвать полицию, но мне нечего было сказать легавым. С той ночи я жила в страхе. Он меня не тронул – слишком сильное отвращение испытывал, ненавидел и брезговал одновременно. Я сумела выговорить единственную фразу: «Это правда был несчастный случай, я ничего не сделала, я бы никогда не смогла навредить девочкам…»
Несколько секунд он смотрел мне в глаза, а потом случилось нечто неожиданное. Он сел за кухонный стол, положил голову на руки и заскулил. Рыдал, как малыш, потерявший в толпе мамочку.
– Хотите узнать, что тогда случилось? – спросила я.
Он покачал головой. Нет.
– Клянусь, это был несчастный случай.
Он находился в метре от меня. Я сгорала от желания дотронуться до него, раздеть, сбросить одежду и – еще хоть раз – испытать наслаждение, которое он дарил мне у камня на краю деревни. Никто из живущих на свете женщин не испытывал к себе такого отвращения, как я в тот момент.
А он, жалкий, отчаявшийся, сидел и плакал на моей грязной, запущенной кухне. Потеряв работу, я перестала заниматься домом. Я – такая ответственная. Я – виновная.
Он встал и вышел, не оглянувшись. Я заняла его место, почувствовала его аромат.
После школы отвезу детей к сестре. Она милая, гораздо добрее меня. Велю ребятам вести себя хорошо, слушаться тетю. Оставаться с ней. А вернувшись домой, куплю веревку в «Брикораме». Деньги я не потратила.
66
Смерть матери – первое горе, которое человек переживает без нее.
– Хотите попробовать?
– С удовольствием.
Я срываю несколько томатов-черри, и мэтр Руо тут же их съедает.
– Восхитительно! Вы останетесь здесь?
– А куда же я денусь?
– С унаследованными деньгами можете перестать работать.
– Только не это. Я люблю мой дом, мое кладбище, мою работу и моих друзей. А кроме того, кто позаботится о моих животных?
– Не шутите, Виолетта, вы должны всерьез озаботиться положением дел. Обзаведитесь собственностью, купите хотя бы небольшой дом или что-нибудь другое, где захотите.
– И снова нет! Недвижимость требует внимания, приобретешь – придется ездить навещать. Сами знаете, загородный дом или дача губят на корню идею любых путешествий. Таких, в которые отправляешься экспромтом, по велению души. Скажите, мэтр, вы представляете меня «хозяйкой поместья»?
– Простите за нескромный вопрос, Виолетта, но что вы собираетесь делать со всеми этими деньгами?
– Сколько будет сто поделить на три?
– 33,33333, стремящееся к бесконечности.
– Спасибо. Я отдам 33,33333…% «Ресторанам сердца», «Международной амнистии» и фонду Бардо[76]. Не удаляясь от моего кладбища, спасу хоть сколько-нибудь людей. Идемте, мэтр, пора выпить по стаканчику.
Он улыбается, берет палку и следует за мной. Мы садимся в беседке и дегустируем молодой сотерн. Мэтр Руо снимает пиджак, вытягивает ноги и зачерпывает горсть соленого арахиса.
– Чудесный сегодня день, правда, мэтр? Я каждый день пьянею от красоты мира. Смерть, печаль, плохая погода, Туссены никуда не денутся, но жизнь всегда берет верх. Утро неизбежно наступает, свет прекрасен, выгоревшая земля зарастает травой.
– Мне бы следовало посылать к вам фра́трии[77], которые оскорбляют друг друга в моем кабинете! Вы могли бы научить их мудрости.
– Я считаю наследство пережитком темных времен. Нужно все отдавать любимым людям при жизни. Свое время и свои деньги. Наследство придумал дьявол – так ему легче вносить разлад в семьи. Лично я не верю в посмертные дары.
– Вы знали, что ваш муж богат?
– Мой муж не был богат. Он был слишком одинок и слишком несчастен. Слава богу, что конец жизни он провел с хорошей доброй женщиной.
– Сколько вам лет, дорогая Виолетта?
– Понятия не имею. В июле 1993-го я перестала праздновать дни рождения.
– Вы могли бы начать все сначала.
– Я довольна своей жизнью.
67
На зыбких песках жизни растет нежный цветок, избранник моего сердца.
В августе 1996-го, за год до переезда на кладбище – ха-ха-ха! – я раньше обычного покинула бухту Сормиу. Доехала поездом до Макона, там пересела на автобус, который останавливается в Брансьон-ан-Шалоне по пути в Турнюс. Мы проехали через Ла Клейет, и я издалека посмотрела на Нотр-Дам-де-Пре. Впервые, через стекло. Через несколько минут я вышла у брансьонской мэрии, с трудом сдерживая дрожь во всем теле. Ноги с трудом донесли меня до кладбища, перед глазами стоял замок, окна, белые стены. На задах я заметила озеро, блестевшее, как сапфировое море. Было очень жарко.
Дверь Сашиного дома со стороны кладбища была приоткрыта, но я пошла прямо на могилу Леонины. У стелы с именами девочек я впервые пожалела, что не была на похоронах, что не проводила Леонину, не положила на могилу хотя бы белый камушек. Но я убедилась, что присутствие дочери куда сильнее ощущается в Средиземном море и в цветах Сашиного сада, чем рядом с этим надгробием, и в глубоком горе побрела к выходу.
Я не предупреждала Сашу, что приеду. Мы не виделись больше двух месяцев – с того дня, как Филипп Туссен запретил мне это. Дверь в сад-огород была распахнута настежь, но я не окликнула хозяина, просто вошла и увидела, что он отдыхает на скамейке, прикрыв лицо соломенной шляпой. Я подкралась – тихо-тихо, – и все-таки он услышал, вскочил и сжал меня в объятиях.
– Нет ничего красивее неба сквозь соломенную шляпу. Люблю смотреть через дырки – так солнце не слепит глаза. Воробышек мой, какой приятный сюрприз! Останешься на весь день?
– Задержусь подольше.
– Здо́рово! Ты ела?
– Не хочу…
– Приготовлю тебе пасту.
– Но я правда не голодна.
– С маслом и тертым грюйером. Ну пошли, у нас полно работы! Видела, как все вымахало? Хороший год для сада! Отличный год!
В этот самый момент, глядя, как Саша машет руками и улыбается, я почувствовала в животе что-то теплое. Наверное, счастье. Не воображаемое, не жизненный кризис, длящийся несколько секунд, но полноту ощущений с улыбкой на устах, жажду жизни. Я перестала быть роботом, в меня вселилось… нечто. Все бы отдала, чтобы навсегда сохранить это лето, и это мгновение, и сад, и Сашу.
Я оставалась с ним четыре дня. Для начала мы собрали дозревшие помидоры, чтобы накрутить консервы. Простерилизовали банки в посудомоечной машине, потом разрезали овощи и вынули семена, разложили по емкостям со свежим базиликом. Саша прочел мне лекцию о важности резиновых прокладок. Иначе герметичности не добиться! Пятнадцать минут в кипятке – и банки можно хранить аж четыре года. Есть, правда, одно «но». Люди, покоящиеся на этом кладбище – все, как один! – делали запасы. Пригодились они? Нет! Вот почему мы с тобой поступим иначе, откроем одну баночку сегодня же вечером.
Наступила очередь фасоли. Мы «обесхвостили» стручки и повторили операцию.
– В этом году зеленая роскошь созрела за одну ночь, двое суток назад, как будто почувствовала, что ты приедешь… Смеешься? Напрасно! Не стоит недооценивать прозорливость сада.
На следующий день были похороны. Саша попросил составить ему компанию, сказал, что делать ничего не придется, просто быть рядом. Я впервые присутствовала на церемонии. Смотрела на бледные и печальные лица, на темную одежду, видела, как судорожно сплетаются пальцы, как люди берутся за руки и опускают головы. Помню речь, которую со слезами в голосе произнес сын усопшего:
– Знаешь, папа, Андре Мальро[78] был прав: людская память – прекраснейшая из гробниц. Ты любил жизнь, женщин, хорошее вино и Моцарта. Теперь каждый раз, открывая бутылку вина или встречая красивую женщину, я буду знать, что ты рядом. Всякий раз, когда виноградные листья сменят зеленый цвет на пурпурный, а мягкий свет за несколько часов зальет свод небес, я пойму, что ты недалеко. Концерт для кларнета мы будем слушать тоже вместе. Отдыхай, папа, я обо всем позабочусь.
Когда все разошлись, я спросила:
– Вы записываете надгробные речи?
– Зачем? – удивился он.
– Мне бы хотелось знать, какие слова прозвучали в день похорон Леонины.
– Я ничего не храню. Овощи не похожи на деревья. Их нужно заново сажать каждый год. Все, кроме томатов-черри, эти растут как сорная трава, сами по себе.
– К чему вы это говорите?
– Жизнь похожа на беговую эстафету, Виолетта. Ты передаешь ее кому-нибудь, он поступает так же. Я отдал тебе эстафетную палочку, однажды ты последуешь моему примеру.
– Но я одна-одинешенька на белом свете.
– Нет, у тебя есть я, а потом появится кто-нибудь другой. Хочешь знать, что говорили на похоронах Леонины, напиши речь сама, не откладывая, перед сном.
На третий день я спела Леонине отходную.
Саша обнаружился в одной из кладбищенских аллей. Мы шли вдоль могил, и он рассказывал мне о мертвых – тех, кто ушел очень давно, и о других, только что «вселившихся».
– У вас есть дети, Саша?
– В молодости я поступил как все – женился. Глупое решение. Верх идиотизма – поступать как все! Хорошие манеры, притворство и общепринятые взгляды убийственны. Мою жену звали Верена, она была красавица с нежным голосом – как ты. Вы, кстати, похожи. Чуть-чуть. Я, молодой самонадеянный придурок, верил, что красота Верены сделает меня «настоящим» мужчиной. В день свадьбы я увидел ее в белом кружевном платье, откинул фату, увидел, что она покраснела, и понял, что лгал всему миру – и себе первому. Я холодно поцеловал Верену в губы под аплодисменты гостей, но возбуждали меня в этот момент лишь мускулистые руки официантов. Напиться я успел до танца новобрачных. А первая брачная ночь и вовсе стала кошмаром. Я очень старался, думал о брате жены, красавчике брюнете с большими карими глазами. Не помогло. Любовью с Вереной я заняться не сумел. Она отнесла это на счет нервов и опьянения. Шли недели, мы спали в одной постели, и это наконец-то случилось. Мне досталась ее невинность, а я чувствовал себя несчастнейшим из смертных. Она смотрела на меня с нежностью и любовью, а я обзывал себя скотиной, потому что сумел коснуться любимой женщины, только распалив воображение совсем другими образами. Каждую ночь я воображал одного из жителей моей деревни – все они «побывали» в моей супружеской постели.
Потом мы переехали. Я совершил глупость № 2. Смена адреса не способна изменить вектор желания. Оно цепляется за чемоданы и остается. В противоположность перелетным птицам и сорнякам, не адаптируется к любому климату. Я сменил вид из окна и половик, но не перестал смотреть на мужчин. Тысячи раз обманывал жену в общественных сортирах. Стыд и срам… Я притворялся – и заболел. Нет-нет, я искренне любил Верену. Пожирал ее взглядом. Но только взглядом. Мне нравилось, как она двигается, я любовался ее кожей, но падавшую на лицо темную прядь воспринимал как знак «Стоп». У меня обнаружили рак крови. Белые клетки начали пожирать красные. Я воспринимал их как женщин в подвенечных платьях, множащихся в моих венах. Собственная низость пожирала меня. Возможно, это покажется тебе странным, но, когда я раз за разом лежал в больнице, у меня как будто камень падал с души. Химиотерапия освобождала от исполнения супружеских обязанностей, которые бесчестили мою жену.
Верена забеременела. И я увидел свет. Он стал очищением после трех темных лет, прожитых в браке. Живот моей жены округлялся, я снова работал в саду и был почти счастлив. Я мечтал о ребенке. И он родился. Мы назвали сына Эмилем. Верена переключилась на малыша, и я начал выздоравливать. У меня были любовники, нежная жена, мать моего сына, и я купался в счастье. Знаешь, я потрясающий отец. Кроме того, ребенок очень даже кстати, если не хочешь прикасаться к жене. Она утомлена, уязвима, у нее часто болит голова, приходится часто вставать по ночам к плачущему отпрыску: замерз, вспотел, режутся зубки, болит ушко. После Нового года с шампанским мы с Вереной занялись любовью, и, ты не поверишь, – она снова забеременела. Через три года после рождения Эмиля на свет появилась Нинон. Маленькая прелестная девочка.
Я сделал моей жене двух детей! Дважды дал настоящую жизнь. Воистину, Бог смеется над всеми, даже над педиками.
– Сколько им теперь?
– Они ровесники моей жены.
– Не понимаю…
– У них больше нет возраста. В 1976 году они погибли в автомобильной аварии. На Дороге солнца. Я собирался присоединиться к ним через три дня в нашем доме на берегу моря. Знаешь почему?
– Почему – что?
– Почему через три дня?
– Верене я сказал, что должен доделать работу – в 1976-м я был инженером, – на самом же деле собирался провести это время с коллегой. Известие о смерти жены и детей свело меня с ума. Я надолго попал в психушку. Там, в белых больничных стенах, я научился врачевать руками. Видишь, милая моя Виолетта, мы с тобой оба хлебнули горя, но выжили и напоминаем героев романа Виктора Гюго. Мы – сосуды скорби, в которых смешались ужасные беды, мелкие радости и надежды.
– Где они похоронены?
– Рядом с Валансом, в семейном склепе Верены.
– Но как вы оказались здесь, на кладбище?
– Обо мне позаботилась социальная служба. Со здешним мэром я был знаком тысячу лет, и он нанял меня уборщиком. Я стал чудаком в синем рабочем комбинезоне, который убирает территорию муниципальных свалок и беседует сам с собой. Через некоторое время мне стало лучше, и я попросился на вакантный пост смотрителя кладбища. Мое место было рядом с мертвыми. Чужими мертвыми.
Саша взял меня за руку. Шедшая навстречу пара задала ему вопрос о расположении могилы, он начал объяснять, а я за ним наблюдала. Он сгорбился, пока рассказывал о своей исчезнувшей семье, и я подумала, что мы напоминаем двух выживших в кораблекрушении, которых не смог утопить океан несчастий.
Мужчина и женщина поблагодарили Сашу, и мы пошли дальше, под руку.
– Сначала мэр сомневался. Но срок давности после смерти Верены и детей истек – ты лучше меня знаешь, что между смертью и временем всегда существует этот проклятый срок… Смотри, как день разошелся, Виолетта, пожалуй, сегодня я буду учить тебя черенковать розы. Ты знаешь, что такое одревесневшие ветви?
– Нет.
– Они становятся твердыми уже в начале августа. На зелени появляются коричневые пятна – как у меня на руках. Это старческие знаки, но именно из таких веток ты будешь выращивать молодые побеги. Невероятно, да? Что ты хочешь на ужин? Может, авокадо с лимоном? Это полезно, в них полно витаминов и жирных кислот.
На четвертый день Саша отвез меня на маконский вокзал в своем стареньком «Пежо», загрузив в чемодан банки с помидорами и фасолью. Он был неподъемным, и я едва дотащила его до Мальгранжа.
Пока мы ехали, он сообщил, что хочет уйти на пенсию.
– Я устал. Пора сдать пост другому хранителю этого места. Тебе.
68
Об их любви, которая спорит яркостью с синим небом.
Ты не устроишь прощания со своей девичьей жизнью.
Ты не будешь праздновать День святой Екатерины[79].
Ты не научишься танцевать медленный фокстрот.
У тебя не будет дамской сумочки и болезненных месячных.
Тебе не придется носить брекеты.
Я не увижу, как ты растешь, толстеешь, страдаешь, разводишься, сидишь на диете, рожаешь, кормишь, любишь.
У тебя не вскочат прыщи, ты не начнешь пить противозачаточные таблетки.
Я не услышу, как ты врешь, и не буду вынуждена покрывать тебя или защищать.
Ты не станешь «одалживаться» в моем кошельке. Я не открою сберкнижку A, чтобы ты была в безопасности.
Я не увижу, как на твоем лице появятся морщины, на теле – целлюлит, возрастная пигментация и сосудистые «звездочки».
Я не учую, что твоя одежда пахнет табачным дымом, не увижу, как ты куришь, а потом бросаешь.
Я никогда не запаникую, увидев тебя в подпитии или под кайфом.
Ты не будешь готовиться к пересдаче бакалаврского экзамена перед турниром «Ролан Гаррос», и я не услышу, как ты ворчишь на «эту несчастную тетку» госпожу Бовари, на Маргерит Дюрас,[80] на твоих преподавателей.
У тебя не будет ни мотороллера, ни любовной драмы.
Тебя никто не поцелует в губы, ты не познаешь оргазма.
Мы не устроим пир, чтобы отпраздновать твою степень бакалавра.
Мы никогда не выпьем вдвоем.
Ты не начнешь пользоваться дезодорантом, тебе не удалят аппендикс.
Я не буду дрожать от страха, что ты сядешь в машину неизвестно к кому. Это ты уже сделала.
У тебя ни разу не заболят зубы.
Мы не поедем среди ночи в отделение неотложной помощи.
Ты не встанешь на учет в Национальное агентство по вопросам занятости.
Ты не откроешь счет в банке, не получишь ни студенческого билета, ни карты для молодежи[81], ни номера соцстрахования, ни дисконтных карт.
Я никогда не узнаю твоих вкусов и предпочтений в одежде, книгах, музыке, духах.
Я не увижу, как ты скандалишь, хлопаешь дверью, пытаешься улизнуть, ждешь кого-то, садишься в самолет.
Ты не уедешь. Не сменишь адрес.
Я не узнаю, грызешь ли ты ногти, пользуешься или нет лаком, тенями для век и тушью. Есть ли у тебя способность к языкам.
Ты никогда не перекрасишь волосы в другой цвет.
В твоем сердце навечно поселится Александр, возлюбленный из начальной школы.
Ты не выйдешь замуж.
Навсегда останешься Леониной Туссен. Мадемуазелью Туссен.
Ты так и будешь любить гренки из черствого хлеба, омлет. Жареную картошку. Макароны-ракушки, блины, рыбу в сухарях, снежки[82] и взбитые сливки.
Ты повзрослеешь иначе – в моей вечной любви. Ты будешь взрослеть в другом месте, окруженная шепотами мира, в Средиземном море, в Сашином саду, в полете птиц, восходе дня и наступлении ночи, через девушку, которую я случайно встречу на улице, в листве дерева, в молитве женщины. В слезах мужчины, в свете свечи. Ты возродишься спустя время в один прекрасный день, в облике цветка или маленького мальчика, у другой мамы. Ты будешь повсюду, куда упадет мой взгляд. Твое сердце продолжит биться там, где окажется мое.
69
Ничто не заставит его поблекнуть, ничто его не обесчестит – прелестный цветок, зовущийся воспоминанием.
– Здравствуйте, мадам.
– Добрый день, молодой человек.
Чу́дный маленький мальчик старательно допивает через соломинку яблочный сок. Он сидит за столом на моей кухне, один.
– Где твои родители?
Он кивком указывает на кладбище.
– Папа велел ждать здесь – из-за дождя.
– Как тебя зовут?
– Натан.
– Хочешь кусочек шоколадного торта, Натан?
Его большие глаза распахиваются в восторге предвкушения.
– Да, спасибо, это твой дом?
– Да.
– Ты здесь работаешь?
– Да.
Он моргает густыми черными ресницами.
– Ты и спишь тут?
– Да.
Он смотрит на меня, как на любимую мультяшную героиню.
– Боишься по ночам?
– Нет, с чего бы мне бояться?
– Из-за зомби.
– А кто это – зомби?
Он проглатывает огромный кусок торта.
– Зомби – живые мертвецы, до жути страшные.
– А тебе не рановато смотреть такие фильмы?
– Мы смотрели у Антуана, на его компьютере. Не все. Потому что забоялись. Вообще-то, мне семь лет, я уже не маленький.
– Тогда конечно.
– Ты видела зомби?
– Никогда.
Он ужасно разочарован. Через кошачью дверцу появляется Тутти Фрутти. Шерстка у него мокрая, он залезает в корзину Элианы, прижимается к ее теплому боку. Собака открывает один глаз и тут же снова засыпает. Натан бежит приласкать моих звериков. Подтягивает джинсы, закатывает рукава толстовки. При каждом шаге подошвы его кед зажигаются проблесковыми фонариками. Совсем как в клипе Майкла Джексона Billie Jean.
– Это твой кот?
– Да.
– А как его зовут?
– Тутти Фрутти.
Мальчик заливается смехом. Зубки у него в шоколаде.
– Смешное имя.
В дверь со стороны кладбища стучат, и входит Жюльен Сёль, такой же мокрый, как мой четырехлапый мохнатый питомец.
– Добрый день…
Комиссар бросает взгляд на ребенка и нежно мне улыбается. Я чувствую, как сильно ему хочется подойти и прикоснуться, но он сдерживает порыв и ласкает взглядом. Снимает с меня «зиму», чтобы увидеть лето.
– Все в порядке, милый?
Я цепенею.
– Пап, знаешь, как зовут кота?
Мне не хватает воздуха.
Натан – сын Жюльена. Мое сердце сбоит, как будто я взбежала по лестнице на пятый этаж.
Жюльен мгновенно отвечает:
– Тутти Фрутти.
– Откуда ты знаешь?
– Мы с ним знакомы. Я уже был здесь. Ты поздоровался с Виолеттой, Натан?
Мальчик переводит взгляд с отца на меня.
– Тебя зовут Виолетта?
– Да.
– Странные у вас тут имена.
Он возвращается к столу, усаживается в кресло и доедает угощение. Отец смотрит на него и улыбается.
– Нам пора, дорогой.
Я чувствую укол в сердце. Совсем как Натан, узнавший, что я ни разу не видела ни одного зомби, даже самого плохонького.
– Может, посидите еще?
– Нас ждут в Оверни. Кузина выходит замуж – сегодня, во второй половине дня.
Жюльен бросает на меня пристальный взгляд и говорит сыну:
– Подожди в машине, родной, я ее не запирал.
– Но там ведь чертов дождище!
Мы хохочем, изумленные ответом семилетнего ребенка.
– Кто первый окажется внутри, выберет музыку в дорогу – какую захочет.
Натан подскакивает ко мне, целует в щеку и просит:
– Если встретишь зомби, звони папе, он полицейский!
Мальчик выбегает из дома и мчится к парковке.
– Вы прочли дневник моей матери?
– Еще не закончила. Дать вам кофе в дорогу?
Он качает головой.
– В дорогу я бы лучше взял вас.
Жюльен подходит, обнимает меня, дышит в шею. Я закрываю глаза. А когда поднимаю веки, он уже стоит в дверях. Моя одежда теперь тоже мокрая.
– Вот что я вам скажу, Виолетта: мне совсем не хочется, чтобы урну с вашим прахом однажды установили на моей могиле. Я плевал и на могилу, и на прах. Я хочу жить с вами сейчас, немедленно. И вместе смотреть на небо. Даже если льет как из ведра.
– Жить со мной?
– Хочу, чтобы эта история… встреча мамы с этим мужчиной… стала для нас уроком.
– Но я не способна… Я не гожусь…
– Не годитесь?
– Не гожусь.
– Но я же не о службе в армии говорю.
– Я неприспособленная, разбитая, поломанная. Любовь не для меня. Я невыносима. Нежизнеспособна. Я мертвее призраков, разгуливающих по моему кладбищу. Вы разве не поняли? Это не-воз-мож-но!
– На свете нет ничего невозможного.
– Есть.
Он грустно усмехается.
– Жаль.
Закрывает за собой дверь – и без стука возвращается две минуты спустя.
– Мы забираем вас с собой.
– …
– На свадьбу. Два часа езды.
– Но я…
– Даю вам десять минут на подготовку.
– Но я не мо…
– Я позвонил Ноно, он будет здесь через пять минут и подменит вас.
70
Однажды мы придем и сядем рядом с тобой в доме Бога.
Август 1996
Филипп вышел от Женевьевы Маньян, чувствуя себя несчастнейшим из смертных. Доехал до кладбища, где в этот день были похороны. Люди группками стояли на жаре, вдалеке от могилы Леонины. Он не принес цветов. Никогда не приносил. Обычно это делала его мать.
Он впервые встретится с дочерью один. Раньше, два раза в год, компанию ему составляли родители.
Отец и мать парковались у шлагбаума, боясь встречи с Виолеттой и ее отчаянием. Он, как хороший сын, устраивался сзади. В детстве сиденье казалось ему широченным, но его это не заботило, ведь конец путешествия обещал встречу с морем.
Филипп всегда думал, что остался единственным ребенком, потому что родители занимались любовью всего один раз. «Ты – дитя случая», – говорил он себе.
Его отец, пришибленный годами жизни с женой и затосковавший навек, плохо водил машину. Неизвестно зачем тормозил и ускорялся. Брал влево, потом резко вправо. Обгонял, когда не надо, и тащился в хвосте, даже если мог обогнать. Часто терялся и не обращал внимания на указатели.
Дорога от переезда до кладбища казалась Филиппу бесконечной. В первый раз он почувствовал запах горелого за много километров от замка. Воздух вонял, как после вселенского пожара.
Они остановились у ограды замка. Сразу войти не решились, потом, преодолев ступор безысходности, прошли двести метров до величественного здания с полуразрушенным левым крылом и увидели пожарных, местных депутатов и отупевших от горя родителей. Смятение и ужас. Молчание. Механические, словно замороженные движения. Ощущение, что время замедлилось, а окружающий мир обернули звуконепроницаемой ватой. Тело и душа разделились, чтобы не взорваться, человека полностью заполняла боль. Ее груз был невыносим.
Филипп не сумел подойти к комнате № 1. Весь периметр был перекрыт. Так изъясняются герои американских сериалов, вот только происходит все в Бургундии и на самом деле. Красные пластиковые полосы очертили границы кошмара. Эксперты осматривали пол и стены, делали снимки. Изучали маршрут огня, искали улики, доказательства, реперные точки. Прокурор потребовал точный и подробный отчет. Гибель четырех детей – не шутка, так что наказание и публичное осуждение воспоследуют в любом случае.
Он выслушал множество «Мне очень жаль, примите наши соболезнования, они не страдали». Не помнил, видел ли кого-нибудь из персонала замка. Других девочек – счастливиц, которых уберег случай, – уже увезли. Срочно эвакуировали. Как с поля боя.
Тело Леонины ему опознавать не пришлось, как и выбирать гроб и тексты для церемонии: все взяли на себя родители. Он думал: Я в жизни не купил дочери ни пары носок, ни платьица, ни заколки, ни туфелек. Это делала Виолетта. С любовью. Но о гробе она не позаботится. Ее не будет на кладбище.
Вечером он позвонил ей из отеля (ответила Марсельеза – так он про себя называл Селию), хотел уговорить приехать. «Виолетта спит, я не могу ее оставить, – сухо объяснила Селия. – Несколько раз был врач, делал уколы успокоительного».
Похороны состоялись 18 июля 1993 года.
Все присутствовавшие поддерживали друг друга – под руку, за руку, за плечи. Он молчал и ни к кому не прикасался, а от матери отшатнулся, как в детстве, когда она пыталась его поцеловать.
Другие люди плакали, рыдали, выли, женщины гнулись, как тростник на ветру, падали на колени. Казалось, что все опьянели от горя, и ноги перестали их держать. Его глаза оставались сухими, он держал спину, как солдат на параде.
А потом увидел ее в огромной толпе, сгрудившейся вокруг могилы. В черном с ног до головы. Очень бледную. С пустыми глазами. Что здесь делает Женевьева Маньян? Мысль промелькнула и ушла. Ему ни до чего не было дела. Сердце тянулось к Франсуазе. К Виолетте и Леонине. Теперь все кончено. Четыре дня, проведенные в Бургундии, его мучила одна-единственная крутившаяся в голове фраза: Я даже не сумел защитить дочь.
Когда все закончится, кто-то уедет в отпуск, другие останутся на этом злосчастном кладбище. А он сядет на заднее сиденье машины отца и вернется – не к морю, а к Виолетте и ее неизмеримому горю.
К пустой комнате. Розовой комнате, откуда он вечно дезертировал. Из-за двери слышались смех и голос Виолетты, каждый вечер читавшей Лео.
Три года спустя он стоял у могилы дочери и молчал. Не молился, хотя умел, ведь его учили катехизису, и первое причастие он торжественно принял, причем именно в тот день, когда впервые увидел Франсуазу под руку с Люком. В день, когда вместе со старшим братом одного из друзей пил церковное вино и тихо произносил:
- Отче наш,
- Иже еси на небесех…
Они хохотали до слез, особенно когда надели поверх футболок и джинсов белые стихари, кричали друг другу:
– Ты вылитый кюре!
– А ты – баба!
Потом он увидел Франсуазу и дальше смотрел только на нее.
Ее можно было счесть дочерью Люка. И в то же время она напоминала идеальную мать. Само совершенство. Воплощенная Любовь. Его великая любовь.
Он жаждал увидеть ее снова, и со временем желание делалось все неистовей.
Через три года, у могилы дочери, он понял, что не вернется в Брансьон-ан-Шалон, раз не способен поговорить с Леониной. Ему хотелось одного – оседлать мотоцикл и помчаться к Франсуазе, чтобы она обняла его. Невозможно. Исключено. Время прошло. Необходимо забыть.
Нужно вернуться к Виолетте, встать перед ней на колени и умолять о прощении. Соблазнить ее, как делал когда-то. Уболтать, рассмешить, сделать ей ребенка. В конце концов, она еще молода, его Виолетта. Он пообещает выяснить, что на самом деле случилось в ту ночь в замке, расскажет, как измордовал Фонтанеля, признается в интрижке с Маньян. Он назовет себя ничтожеством и попросит дать ему второй шанс. Да, им нужен ребенок, чтобы ей было о ком заботиться. Может, повезет, и родится мальчик, сын, о котором он всегда мечтал. И вот еще что: никаких баб на стороне! Только Виолетта. Они переедут, начнут жизнь сначала, изменят жизнь. Такое случается, он видел по телевизору.
Первым делом он вернется к Маньян и еще раз поговорит с ней. «Я бы никогда не сделала зла малышкам…» Зачем она так сказала? Он должен выяснить все до конца, выслушать то, на что не хватило сил при первом свидании.
Он последний раз посмотрел на могилу Леонины, но ничего не сказал – просто не сумел. Он и с живой-то дочерью почти не общался… Никогда не отвечал на ее вопросы. «Папочка, а кто зажигает Луну?»
Он увидел их, Виолетту и старика, когда почти бежал к выходу с кладбища. Виолетта держала его за руку. Филипп почуял обман и вспомнил слова матери: «Никому не доверяй, думай только о себе, о себе…»
Филипп считал, что Виолетта в Марселе, у Селии, в отшельничестве. А она вот здесь – совсем в другом месте, с другим мужчиной! И улыбается. После смерти Леонины Филипп видел улыбку жены всего раз.
Полгода Виолетта каждое второе воскресенье отправлялась на кладбище. Брала красную машину дурынды из «Казино» и якобы ехала на могилу дочери. Она его дурачила! Старик – любовник Виолетты? Или есть кто-то еще? Как они познакомились? Где? Бред! Его жена не способна завести другого мужика!
Он спрятался за большим каменным крестом и некоторое время наблюдал за ними. Они скрылись в доме у входа на кладбище. В семь вечера старик вышел, чтобы запереть решетку. Значит, он и есть смотритель про́клятого места. Его жена спит с кладбищенским сторожем! Филипп рассмеялся, зло, неприятно. Почувствовал свирепое желание убить, изуродовать, уничтожить.
Виолетта осталась внутри. Он видел в окно, как она накрывает стол на двоих, как всегда делала дома, обвязав талию полотенцем. Это причинило ему такую боль, что он до крови прикусил палец. В детстве Филипп обожал вестерны. Особенно ему нравились сцены, где мужественному ковбою извлекали пулю из живота, а он, чтобы не кричать, прикусывал зубами деревяшку. Виолета вела двойную жизнь, а он ничего не подозревал. Наступила ночь. В доме погасили свет. Закрыли ставни. Она осталась у старика. Филипп получил подтверждение.
Два месяца назад он запретил жене возвращаться в Бургундию. Испугался, услышав ее рассказ о Маньян. Понял, что Виолетта вот-вот узнает о его связи с женщиной, которая в роковые каникулы работала в замке на кухне.
Теперь же история выглядела иначе. У нее любовник, потому-то по пятницам, накануне поездок на кладбище, она выглядит совсем иначе, не такой подавленной.
Филиппу пришлось перелезть через стену. От злости он что было сил долбанул ногой по двери, выходящей на улицу, и умчался на мотоцикле.
Около десяти вечера он был на улице, где жила Маньян. У ее дома стояла машина с синей мигалкой на крыше, по дому ходили полицейские. Под фонарями столпились соседки в халатах и обсуждали случившееся. Преобладало мнение, что «на этот раз Фонтанель перестарался».
Филипп развернулся и поехал на восток – прямо по адресу, где к его услугам всегда были сговорчивые женщины.
71
Через открытое окно мы вместе смотрели на жизнь, любовь, радость. Мы слушали ветер.
Дневник Ирен Файоль
22 октября 1992
Вчера вечером я услышала голос Габриэля в теленовостях. Он говорил о «защите женщины, которая от меня ушла». Ничего подобного он, конечно, не произносил, это мой мозг совершил подмену.
Поль помогал мне готовить ужин на кухне, «ящик» работал в соседней комнате. Я так изумилась тональности его речи, о которой мечтала в самых прекрасных снах, что выронила из рук кастрюлю с кипятком и обожгла лодыжки. Поль запаниковал, раскричался, начал суетиться, решил, что меня трясет из-за ожогов.
Он приволок меня в гостиную, усадил на диван перед экраном, прямо напротив Габриэля, находившегося внутри прямоугольника, в который я никогда не вглядываюсь. Поль накладывал марлевые компрессы, а я следила за Габриэлем в суде. Ведущий сообщил, что на неделе мэтр выступал на процессе в Марселе и добился оправдания трех из пяти подзащитных, обвинявшихся в коллективном побеге. Процесс закончился накануне.
Габриэль был совсем рядом, а я не знала! А если бы и знала? Что бы ты сделала? Попросила бы о встрече? Сказала бы: «Пять лет назад я сбежала, потому что не захотела бросать семью. Пять лет назад я испугалась вас, испугалась себя. Но знаете что? Я не переставала о вас думать».
Из своей комнаты появился Жюльен и сказал отцу, что меня нужно везти в больницу. Я отказалась. Они некоторое время препирались, потом нашли в аптечке тюбик «Биафина», а я все смотрела, как Габриэль жестикулирует перед журналистами. Я видела, с какой страстью он защищает людей, и хотела превратиться в Миа Фэрроу из фильма Вуди Аллена «Пурпурная роза Каира».
А меня он стал бы защищать? Нашел бы смягчающие обстоятельства моему поступку?
Как долго он ждал меня за рулем кабриолета? Когда сдался и уехал? В какой момент понял, что я не вернусь?
Слезы текли по щекам, как вода из крана.
Поль выключил телевизор.
Я потеряла сознание.
Муж и сын решили, что от боли, и вызвали семейного врача. Он осмотрел меня и сказал, что ожоги, слава богу, поверхностные.
Я не спала всю ночь.
Увидев Габриэля, услышав снова этот голос, я поняла, как сильно мне его не хватало.
На следующее утро Ирен нашла номер адвокатского бюро кабинета Габриэля. Он по-прежнему находился в Маконе, департамент Сона-и-Луара. Она сказала, что хотела бы встретиться с мэтром, ей ответили, что он страшно загружен, увидеться с ним получится через много месяцев, а вот с двумя его компаньонами договориться легче. Ирен сообщила, что торопиться ей некуда и она дождется мэтра Прюдана, назвала свою фамилию и продиктовала телефон. Не дома – розария. Ей задали вопрос, какого рода у нее дело, Ирен помедлила, потом сказала: «Мэтр Прюдан уже в курсе». Ей назначили встречу – через три месяца.
Габриэль объявился через два дня. Ирен собиралась поднять решетки, когда услышала звонок, решила, что это по поводу заказа, подскочила, схватила трубку и приготовилась записывать ручкой с изжеванным колпачком. Он сказал: «Это я». Она ответила: «Добрый день».
– Ты звонила?
– Да.
– Я всю неделю выступаю в Седане. Хочешь приехать?
– Да.
– Тогда до скорого.
Он повесил трубку.
Ирен нацарапала на бланке заказа: «Седан» – в графе «Пометка отправителя».
Две тысячи сто километров. Через всю Францию. По длинной прямой линии.
Она выехала из Марселя около десяти, на поезде, сделала несколько пересадок. На вокзале Лион-Перраш, в туалете, попудрилась перед зеркалом, слегка подкрасила губы. Стоял апрель, и она была в бежевом плаще. Ирен улыбнулась, собрала волосы в хвост черной резинкой. Купила сэндвич на бескорковом хлебе, зубную щетку и лимонную зубную пасту.
В Седан она добралась к девяти вечера. Села в такси и попросила шофера отвезти ее в суд. Она знала, что найдет Габриэля в ближайшем кафе или ресторане, он не из тех, кто рано возвращается в отель. Предпочитает пристроить папку на край столика, заказать пиво, тарелку жареной картошки и поработать. Потом съесть блюдо дня и выпить вина. Габриэлю требовалось чувствовать вокруг себя жизнь, он ненавидел гостиничную тишину, «казенные» занавески и белье, необходимость включать телевизор, чтобы создать «эффект присутствия».
Она заметила его через окно – за столиком, еще с тремя мужчинами. Габриэль говорил, не выпуская изо рта сигарету. Они успели заляпать скатерть и расстегнули воротнички рубашек, бросив галстуки на спинки стульев.
Заметив ее на пороге, он поднял руку и позвал:
– Ирен! Иди к нам!
Тон подразумевал, что она случайно шла мимо – возвращаясь домой.
Она поздоровалась.
– Представляю тебе моих коллег Лорана, Жан-Ива и Давида. Господа, это Ирен, женщина моей жизни.
Юристы улыбнулись. Видимо решили, что Габриэль пошутил. Словно ничем иным подобное, с позволения сказать, высказывание быть не могло: мол, знаем-знаем, сколько «женщин жизни» было и еще будет у мэтра.
– Садись. Ты голодна? Ничего не хочу слышать, ты обязательно должна поесть. Мадемуазель Одри, дайте нам меню, пожалуйста. Что будешь пить? Чай? Брось, никто в Седане не пьет чай! Принесите нам еще одну бутылку красного сухого «Вольне» 2007 года, мадемуазель Одри, будьте так любезны! Сейчас ты увидишь… боже, что я говорю – попробуешь настоящее чудо, жемчужину. Твое место рядом со мной.
Один из адвокатов уступил Ирен свой стул. Габриэль взял ее руку и поцеловал, прикрыв глаза. Ирен заметила на безымянном пальце обручальное кольцо. Из белого золота.
– Я рад, что ты здесь.
Ирен ела рыбу и слушала разговор, не вникая в смысл слов, как фанатка, которая пересекла всю страну ради ночи любви с рок-звездой и не может дождаться, когда же кончится концерт и они останутся наедине.
Ей хотелось исчезнуть. Она сожалела о своем порыве и прикидывала, как бы ей встать, не привлекая внимания, найти запасный выход или дверь черного хода, бегом добежать до вокзала и вернуться домой, где можно будет лечь в собственную постель, на простыни, надушенные алоэ-вера. Она попросила у официантки зеленого чая. Габриэль время от времен спрашивал: «Все хорошо?» «Тебе не холодно?», «Пить не хочешь?», «Не проголодалась?».
Они закончили и одновременно поднялись с мест. Габриэль подошел к бару, чтобы оплатить счет. Ирен молча наблюдала за ним.
Пошел дождь. Возможно, погода испортилась давно, Ирен не заметила, потому что все сильнее раздражалась на себя. Как она могла уехать с дамской сумочкой, чековой книжкой и несколькими купюрами в кошельке? «Совсем обезумела? – спрашивала она себя. – На тебя не похоже. Ты, такая благоразумная, повела себя как восторженная малолетка!»
Габриэль одолжил у администратора зонтик, пообещав вернуть следующим утром, взял Ирен под руку, и они догнали его коллег. Он не отпускал ее от себя ни на шаг.
В холле отеля «Арденны» они взяли у портье ключи и вошли в лифт. Двое вышли на третьем этаже. «Пока, ребята, до завтра…» Третий адвокат жил на пятом. «Спокойной ночи, Давид, до завтра».
– В 07.30 в кафетерии?
– Идет.
Путь от четвертого этажа до шестого они проделали вдвоем. Габриэль не спускал с Ирен глаз.
Дверь лифта открылась, и они прошли длинным темным коридором до номера 61. Габриэль отпер дверь, и на Ирен пахнуло застоявшимся табачным дымом. Стены были оранжевые, с имитацией марокканской штукатурки[83].
Габриэль извинился, прошел первым, зажег везде свет и скрылся за дверью ванной. Ирен не знала, куда пристроить плащ, не понимала, что делать с собой, и застыла у порога, как манекен в витрине или парковая статуя на постаменте. Она смотрела на открытый чемодан Габриэля с умело сложенными рубашками, свитерами, парами носок и спрашивала себя, кто гладил воротнички и собирал вещи.
Появился Габриэль, улыбнулся ей, сказал:
– Ну что же ты, входи, раздевайся.
Увидев выражение ее лица, он расхохотался.
– Я о плаще.
– …
– Ты сегодня на удивление молчалива.
– Зачем вы меня позвали?
– Захотел – и позвал. Хотел тебя увидеть. Я всегда хочу тебя видеть.
– А как же кольцо?
Он сел на кровать. Она наконец сняла плащ.
– Мне сделали предложение, и я не смог отказаться. Трудно сказать «нет» женщине. Мужчины так не поступают. Ну а ты? Все еще замужем?
– Да.
– Значит, мы на равных. Это называется «паритет».
– …
– Я часто вижу тебя во сне.
– Я тоже.
– Мне тебя не хватает. Иди сюда.
Ирен села рядом с Габриэлем, но не плечом к плечу, оставила зазор, поперечную линию.
– Вы уже изменяли жене?
– С тобой будет не измена, а предательство.
– Почему вы снова женились?
– Я же сказал – она попросила.
– Вы ее любите?
– К чему этот вопрос? Ты бросишь мужа ради меня? Я не обязан отвечать. Ты в замешательстве, Ирен, ты не свободна и никогда не будешь. Раздевайся. Сними все. Хочу смотреть на тебя.
– Погасите свет.
– Ни за что. Между нами не может быть ложной стыдливости.
– Полагаете, друзья приняли меня за вашу девку?
– Они мне не друзья, а коллеги. Снимай одежду.
– Только одновременно с вами.
– Договорились…
72
О, Иисус, оставь мне мою радость.
Пусть тот, кто сотворил птиц, превратит меня в героя.
А дождь все идет и идет. Дворники стряхивают воду с наших отражений в лобовом стекле.
Натан спит на заднем сиденье. Я часто оборачиваюсь проверить, как он, потому что давно не видела спящего ребенка. Время от времени приемник выдает несколько музыкальных фраз и умолкает на повороте. Мы с Жюльеном говорим об Ирен и Габриэле.
– После седанского эпизода они часто виделись.
– Как вы переживаете то, что узнали о матери?
– Честно? Мне кажется, что я прочел историю чужой женщины. И, кстати, дарю вам ее дневник, мне он не нужен. Присовокупите его к регистрационным журналам.
– Но…
– Я настаиваю! Сберегите его.
– Вы все прочли? С первой до последней страницы?
– Несколько раз. Особенно внимательно те места, где она пишет о вас. Почему вы не сказали, что были знакомы?
– Это трудно назвать знакомством.
– Вы играете словами, Виолетта, и запутываете все на свете самым невероятным образом! Мне до сих пор не удалось расколоть вас. Вы – самая упрямая из моих подследственных… Попади вы ко мне на допрос, я бы рехнулся.
Я заливаюсь смехом.
– Вы напоминаете мне одного друга.
– ?..
– Его звали Саша. Он спас мне жизнь… Тем, что смешил. Совсем как вы.
– Почту это за комплимент.
– И будете правы. Куда мы едем?
– На Пардон.
– …
– Так называется улица в Ла Бурбуль. Там родился мой отец. И до сих пор живут мои родственники… Иногда они заключают браки.
– Они спросят, кто я такая.
– Я скажу: моя жена.
– Вы с ума сошли!
– Еще не совсем…
– Что мы подарим новобрачным?
– Они не слишком молодые. Хорошо пожили, прежде чем встретились. Моей кузине шестьдесят один год, ее будущему мужу – полтинник. Километрах в двадцати отсюда есть заправка, найдем там всякие смешные подарочки. Кроме того, Натан должен переодеться.
– Я уже переоделась.
– Вы всегда одеты… как надо. Для любой церемонии – что для свадьбы, что для похорон.
Я снова хохочу.
– А вы как же? Не переодеваетесь?
– Ни за что. Ношу джинсы и свитер зимой, джинсы и футболку летом.
Он улыбается.
– Вы правда собираетесь отовариться на заправке?
– Честью клянусь.
Жюльен заливает бензин в бак, а мы с Натаном идем в магазинчик. Я держу его за руку. По старой привычке. Такое не забывается. Жесты – часть нашей натуры. Как цвет волос, знакомый запах, сходство. Как же давно я не держала в своей руке детскую ладошку! Маленькие пальцы Натана крепко цепляются за мои, он напевает что-то незнакомое.
Мы входим. Я чувствую невероятную легкость. Натан счастливо изумлен количеством шоколадок и конфет на кассах.
Я подхожу к дверям мужского туалета и говорю:
– Буду ждать тебя здесь.
– Ладно.
Натан закрывается в кабинке с рюкзаком, где лежат его вещи, и ровно через пять минут появляется в роскошной тройке из серого льна и белой рубашке.
– Какой же ты красивый, Натан!
– У тебя есть гель?
– Гель?
– Для волос.
– Сейчас поищу на полках.
Пока мы ходили вдоль полок, Жюльен успел купить два романа, книгу кулинарных рецептов, коробку пирожных, барометр, салфетки всех цветов, карту Франции, три DVD, альбом лучших киномелодий, карту мира, анисовые леденцы, мужской дождевик, дамскую соломенную шляпу и плюшевую игрушку. Я прошу кассира запаковать все в подарочную бумагу, ее не оказывается, он с улыбкой произносит: «Тут у нас не «Галери Лафайет», а А89!» Жюльен находит большую матерчатую сумку с логотипом WWF[84] и складывает в нее все покупки. Натан просит купить ему «клейкие листочки»: он сможет сделать панду цветной, нарисовать вокруг нее бамбук и голубое небо. «Гениальная идея, малыш!» – радуется Жюльен.
Я чувствую себя другой женщиной, сменившей кожу на чью-то чужую. Как Ирен, которая в Антибе переоделась из всего бежевого в цветное и босоножки.
Мы с Натаном наконец обнаруживаем гель для волос – последнюю банку! – с надписью на этикетке «Стальная фиксация». Берем три зубные щетки, пачку влажных салфеток и издаем победный клич. Я начинаю смеяться – в третий раз – и не могу остановиться.
Натан ликует и скрывается за дверью туалета, отсутствует недолго и являет себя нам в образе «безумного дикобраза». Наверное, использовал всю баночку целиком. Во взгляде Жюльена читается сомнение, но он молчит.
– Я красивый?
Мы отвечаем хором.
73
Никакой экспресс не умчит меня к блаженству, ни одна колымага не причалит к нему, у «Конкорда» не будет твоего размаха, и корабль не доплывет. Сумеешь лишь ты один.
Сентябрь 1996
Дни Филиппа были организованы раз и навсегда и проходили одинаково. Он вставал в девять. Съедал первый завтрак, приготовленный Виолеттой, – кофе с молоком, гренки, мягкое масло, вишневое желе. Принимал душ и брился. До часа дня катался на мотоцикле по деревенским дорогам, каждый день рисковал жизнью, резко ускоряясь там, где не было полицейских с радарами. Обедал с Виолеттой.
До четырех, а то и до пяти играл в «Mortal Combat»[85] на игровой приставке MegaDrive. Потом снова седлал мотоцикл и ездил до семи. Ужинал с Виолеттой. Шел пешком на Гран-Рю, сказав жене, что ему необходимо размяться, а на самом деле встречался с любовницей или развлекался на вечеринке развратников в адресе. Возвращался Филипп не раньше часа-двух ночи. Если погода была дождливая или его одолевала лень и ничего не хотелось делать, он смотрел телевизор. Виолетта была рядом – читала или тоже смотрела выбранный им фильм.
Застав жену две недели назад со смотрителем кладбища, он стал смотреть на нее иначе. Подглядывал краешком глаза. Спрашивал себя, думает ли она о старике, звонит ли ему, пишет ли.
Уже неделю, возвращаясь домой, он нажимал на кнопку повтора последнего вызова, но систематически попадал на неприятный голос матери, которой звонил накануне или два дня назад, и вешал трубку.
Раз в два дня он был обязан звонить ей. Таков был ритуал. Она всегда произносила одни и те же слова: «Все в порядке, мой мальчик? Ты хорошо ешь? Высыпаешься? Чувствуешь себя нормально? Будь осторожен на дороге. Не порти глаза видеоиграми. Что твоя жена? Работает? В доме чисто? Она стирает простыни каждую неделю? Я слежу за твоими счетами. Не тревожься, недостатка ни в чем нет. На той неделе твой отец сделал взнос по страховке. У меня снова боли. Как же нам все-таки не везет. Люди только разочаровывают меня. Остерегайся их. Твой отец совсем теряет уверенность в себе. Хорошо, что я все еще могу приглядывать за вами. До скорого, дорогой». Всякий раз, повесив трубку, Филипп чувствовал дурноту. Мать все сильнее раздражала его – как лезвие бритвы. Иногда он спрашивал себя, есть ли у нее новости о Люке. Он скучал по дяде, а отсутствие Франсуазы просто испепеляло его. Но мать всегда отвечала одно и то же – чаще раздраженно, иногда – опечаленно, если хотела сказать гадость: «Прошу тебя, не говори со мной об этих людях!» Франсуазу и Люка она запихивала в один и тот же мусорный мешок.
За исключением выводящих его из себя бесед с матерью, жизнь Филиппа шла как по накатанному. Он остался тем Филиппом Туссеном, которого Франсуаза проводила в 1983 году на вокзал в Антибе: капризным мальчишкой. Несчастливым ребенком.
Два известия, полученные с интервалом в пять минут, остановили плавное течение дней. Одно пришло по почте.
Он сидел за столом и поглощал теплые хрустящие тосты, когда Виолетта сообщила, что их переезд будет автоматизирован в мае 1997-го. За восемь месяцев им нужно найти работу. Она положила конверт на стол, между вареньем и топленым маслом, и отправилась опустить шлагбаум. Было 09.07.
Я потеряю Виолетту. Об этом в первую очередь подумал Филипп, прочитав официальное извещение. И сдерживающего начала не останется. Дом и работа держали их вместе – он сам не знал почему. Нить была тонкой, почти невидимой. Общей оставалась только закрытая навечно дверь в комнату Леонины. Лишившись шлагбаума, она навсегда уедет к кладбищенскому старику.
В кухонное окно он увидел, что Виолетта разговаривает с какой-то женщиной, и не сразу узнал ее. Решил, что одна из любовниц явилась разоблачить его, – но не встревожился, женщины, с которыми он имел дело, не были ревнивицами. Никакого риска… Он марался в грязи, пачкал Виолетту, но не рисковал.
Женщина что-то говорила, и Виолетта становилась все бледнее.
Филипп вышел и оказался лицом к лицу с учительницей Леонины. Как там ее звали?
– Здравствуйте, господин Туссен.
– Доброе утро.
В лице училки тоже не осталось ни кровинки, она выглядела потрясенной, отвернулась от него и тут же ушла.
Прошел поезд в 09.07. Филипп увидел лица пассажиров в окнах вагонов и вспомнил, как Леонина махала рукой, стоя на крыльце. Виолетта молча, автоматическим движением, подняла шлагбаум и сказала Филиппу:
– Женевьева Маньян покончила с собой.
Филипп вспомнил, как две недели назад подъехал к ее дому и увидел полицейских и соседок в домашних платьях. Женевьева наверняка убила себя, поговорив с ним. Он тогда расплакался, распустил нюни, как слабак. «Я бы никогда не причинила зла малышкам». Неужели к смерти ее подтолкнуло чувство вины?
– Пожалуйста, – попросила Виолетта, – сделай все, чтобы ее не похоронили на кладбище, где лежит Леонина.
Филипп пообещал. «Даже если это случится, я собственными руками ее выкопаю!»
Виолетта повторила несколько раз:
– Не хочу, чтобы она пачкала землю моего кладбища.
В то утро Филипп не стал принимать душ. Наспех почистил зубы, прыгнул в седло и укатил, оставив растерянную Виолетту у шлагбаума, который предстояло опустить только через два часа.
74
Ты увидишь, как моя ручка, оперенная солнцем, разбросает снежинки по листку архангела пробуждения.
Почему проходящее время смотрит на нас в упор, а потом ломает?
Почему ты не остаешься со мной?
Почему уходишь?
Почему у жизни и кораблей на воде есть крылья?..
Банкетный зал пуст, только официантки убирают столы. Одна снимает бумажные скатерти, другая подметает белые конфетти.
Мы с Жюльеном танцуем одни на импровизированной дорожке. Последние лучи зеркального шара пятнают крошечными звездочками нашу мятую одежду.
Все разошлись, даже новоиспеченные супруги, даже Натан, отправившийся ночевать к кузену. Голос Рафаэля[86] звучит из громкоговорителей. Это последняя песня. Потом диджей, пузатый пятиюродный дядя, выключит свою машинерию.
Мне хочется растянуть прошедший день до бесконечности. Так бывало в Сормиу, когда наступала ночь, а мы все никак не могли утихомириться и бродили вдоль кромки моря, шлепая подошвами по воде.
Я так много не смеялась с тех самых пор. Никогда не смеялась. Я никогда не смеялась так, как сегодня. Мы с Леониной смеялись часто, но с ребенком не посмеешься, как со взрослыми людьми. Этот смех приходит из другого места. Как и слезы, и ужас, и радость. У всего есть собственное место внутри нас.
И еще один твой день уходит.
В этой короткой жизни не стоит умирать со скуки…
Рафаэль допел. Диджей пожелал нам в микрофон доброй ночи. Жюльен крикнул: «Спасибо, Деде!»
Я не была ни на одной свадьбе – кроме собственной. Если все свадьбы такие же веселые, пожалуй, стоит изменить привычкам.
Я надеваю куртку, а Жюльен исчезает на кухне и возвращается с бутылкой шампанского и двумя пластиковыми бокалами.
– Вам не кажется, что мы достаточно выпили?
– Нет.
Мы выходим, и нас обнимает теплый воздух. Жюльен держит меня за руку.
– Куда мы направляемся?
– В три часа ночи? Я хотел бы отвести вас к себе, но это далековато, пятьсот межевых столбов отсюда, так что придется вернуться в отель.
– Но я не намерена проводить с вами ночь.
– И это очень глупо, просто ужасно глупо. Потому что я – намерен. И на этот раз вы не сбежите.
– Вы меня запрете?
– Да – до конца ваших дней. Не забывайте, я – легавый и у меня есть все полномочия.
– Вы ведь знаете, Жюльен, у меня нет сил на любовь.
– Вы повторяетесь, Виолетта, чем очень меня утомляете.
Чувства просыпаются. Пузырики тихого безумия и радости поднимаются к горлу, ласкают рот, наполняют живот легкостью, заставляют смеяться. Я и не знала, что во мне живет этот звук, эта нота. Я чувствую себя музыкальным инструментом с одной лишней кнопкой. Спасительный дефект производства.
Это и есть молодость? Можно ли свести с ней знакомство, если тебе скоро полтинник? У меня не было молодости – так я считала и бережно, сама о том не ведая, хранила ее, запрятанную очень глубоко внутри. Она решила явиться во всем блеске сегодня, в эту субботу? На чужой свадьбе в Оверни? Рядом с не моим мужчиной?
Мы подходим к двери отеля. Замок заперт на два оборота. Жюльен меняется в лице.
– Перед вами король придурков, Виолетта! Вчера я звонил портье, и он попросил меня зайти ближе к вечеру и взять ключи и код…
Ну вот, опять… Я хохочу так громко, что эхо возвращается стереозвуком. У меня болит диафрагма, я задыхаюсь, икаю, квакаю, но остановиться не могу.
Жюльен смотрит на меня с веселым изумлением. Я пытаюсь выговорить: «Трудновато вам будет запереть меня навечно», – но слова не могут пробиться через водопад смеха. Он вытирает текущие по моим щекам слезы и сам смеется все громче.
Мы возвращаемся к его машине, этакая странная парочка – я, согнувшаяся пополам, обессиленная смехом, он – с бутылкой шампанского в руке и оттопыренными брючными карманами (в каждом лежит пластиковый бокал).
Мы садимся на заднее сиденье, и Жюльен наконец-то заглушает мой смех поцелуями. На дне души зарождается тихая радость.
Мне кажется, Саша где-то близко. Что он дает указания Жюльену, чтобы тот пересадил «черенки» в каждый из моих жизненно важных органов.
75
Я – фланёр, одержимый синдромом другого берега.
Сегодня хоронили Пьера Жоржа (1934–2017). Его внучка украсила гроб наивными рисунками, переворачивающими душу, и на необработанном дереве возникли синее небо и деревенский пейзаж. Она работала и думала, что дедушка прогуливается – там, наверху – и получает удовольствие, глядя на оставшихся на земле.
Пьера звали Эли Бару[87], как певца, но перед войной его родители, похороненные в Брансьоне, изменили ему имя и фамилию. Из Парижа приехала женщина-раввин, чтобы проводить Пьера в последний путь. Она спела поминальную молитву, очень красивую, а когда гроб опускали в семейную могилу, читала кадиш[88]. Потом каждый бросил горсть песка на крышку. Белого, как на морском берегу.
Сегодня «дежурил» другой Господь, и отец Седрик на время церемонии остался у меня на кухне.
Говорят, человек имеет такую семью, какой достоин. Глядя на собравшихся на церемонию детей и внуков Пьера, я говорю себе, что он наверняка был замечательным человеком.
В небольшом банкетном зале мэрии родные и друзья усопшего выпивают по стаканчику и поют для него. Двери открыты, и до меня доносятся голоса и музыка.
Женщина-раввин – ее зовут Дельфина – пришла ко мне выпить кофе и застала Седрика. Католический священник и дама из синагоги прекрасно смотрятся вместе, в моем доме смешались их религии. Смех и молодость. «Саша был бы в восторге…» – думаю я.
Погода была хорошая, и я отправилась поработать в саду, а Дельфина и Седрик сели в беседке и еще два часа разговаривали и смеялись.
Дельфину заворожила красота моего огорода и деревьев. Седрик устроил ей экскурсию – совсем как гордый собственник, как будто это его Бог, чей дом находится поблизости, помог вырастить все эти маленькие чудеса.
Занимаясь баклажанами, я слушала песню. Те, кто провожал Пьера Жоржа, вышли на площадь и устроились под деревьями.
Даже Дельфина и Седрик замолчали, так хороша была мелодия.
- Нет, я больше не хочу хвалить себя
- И страстно жаждать отклика на мое «люблю тебя».
- Нет, у меня больше нет сил надрывать сердце,
- Подражая играм, которые я знаю наизусть…
- Ты сегодня являешь мне лучшее из зрелищ.
- Ты так прекрасна, что могла бы помешать мне…
- Но я больше не прозреваю тайну
- И боюсь, что не сбудутся ни мои страхи, ни надежды,
- Ведь, несмотря на запертую в душе мечту,
- Мне не хватает мужества полюбить.
«Они поют для Пьера или для меня?»
В 18.30 все рассаживаются по машинам и уезжают в Париж. Я снова слышу ненавистный звук хлопающих дверей.
Мои трое мужчин поужинали со мной, на улице. Я сделала «быстрый» салат, пожарила картошку и яичницу-глазунью. Явились кошки, как будто решили послушать неинтересную, но радостную беседу странных двуногих. Ноно все время повторял: «Ну разве здесь не прекрасно, у нашей Виолетты?» Мы хором отвечали: «До ужаса прекрасно!» Элвис добавлял: Don’tleavemenow[89].
Мы расстались в 21.30. В июне дни намного длиннее, чем весной, и я еще долго сидела на скамейке и слушала тишину. Весь тот воображаемый шум, который больше не произведет Леонина, и мелодию любви, известную мне одной.
Я думаю о Натане, который спал на заднем сиденье, когда мы в воскресенье утром втроем возвращались домой. Между нами выросла зеленая веточка, она держится за землю тремя тонкими корешками, которые так легко вырвать. Это начало детской любви, и ее очень просто погубить.
Гель в волосах Натана превратился в белые плашки, напоминающие снег. Жюльен сказал сыну, что в Марселе ему придется несколько раз вымыть голову, прежде чем возвращаться к матери. Натан скорчил рожицу, надеясь, что я вмешаюсь.
Они высадили меня на улице, перед дверью, и Жюльен уже повернул ключ зажигания, но Натан захотел поздороваться с животными. Флоранс и Май Уэй явились поприветствовать мальчика, и он долго, с упоением гладил их.
– Сколько у тебя котов, если честно? – спросил он.
– Сейчас одиннадцать.
Я перечисляю имена, и получается стихотворение Превера.
Натан хохочет. Он насыпает свежий корм в миску, разбрасывает старый птицам. Наливает всем воду. Жюльен успевает сходить на могилу Габриэля Прюдана и навестить урну матери, а когда возвращается, мальчик просит «побыть еще немножко, ну па-пааа!». А я готова умолять: «Останьтесь подольше!» – но не делаю этого.
Они съели полдник в моем саду и уехали. Я их проводила до машины, и Жюльен попытался поцеловать меня в губы. Я не позволила. Только не при Натане!
Он захотел сесть рядом с отцом, но Жюльен сказал: «Нет, вот исполнится тебе десять, тогда милости прошу!» Мальчик заворчал, поцеловал меня в щеку. «До свидания, Виолетта…»
Мне жутко хотелось плакать. Дверцы машины хлопнули, но я притворилась спокойной. Уезжают так уезжают. И слава богу. У меня дел по горло.
Я вернулась в дом и закрыла обе двери. Элиана проводила меня до комнаты и разлеглась в изножье кровати. Я открыла окна и впустила вечерний напоенный ароматами воздух. Протерла лицо розовой водой, села на кровать и достала из ящика дневник Ирен Файоль.
Я подумала, что она несколько лет общалась с внуком. Интересно, какой бабушкой она была? Как приняла рождение Натана, родившегося через год после смерти Габриэля?
Любовь Ирен и Габриэля напоминает мне игру «Виселица», в которой нужно угадывать слово. И я еще не нашла правильного определения.
Жюльен пришел ко мне не один. Он привел мать и Габриэля.
Интересно, чем закончатся наши встречи?
76
Семья не разрушается, она трансформируется.
Одна ее часть переходит на невидимую сторону.
Сентябрь 1996
Тем утром, пообещав Виолетте, что Женевьева Маньян не будет лежать на брансьонском кладбище, Филипп сначала поехал в Макон, но в последний момент все-таки отправился в Брон через Лион и в середине дня оказался у гаража Пелетье. Припарковался подальше, чтобы никто его не заметил. Гараж выглядел точно таким, каким он его помнил. Белые с желтым стены. Он не был здесь тринадцать лет, но и сейчас чувствовал запах моторных масел, который так любил.
Изменились только модели и очертания машин. Он несколько часов не снимал шлем. Ждал. Очень долго ждал, чтобы увидеть их.
Около семи вечера подъехал «Мерседес». Франсуаза была за рулем, Люк сидел рядом. Сердце Филиппа заколотилось, как у бешеного боксера, и едва не выскочило из горла. Задние огни машины давно исчезли, а Филипп все вспоминал лучшие моменты своей жизни с этой семьей. Моменты, когда он чувствовал себя любимым и защищенным. Никто ничего от него не ждал. Родители были далеко.
Филипп не последовал за «Мерседесом». Он всего лишь хотел их увидеть, убедиться, что они живы и никуда не делись.
Он поехал по дороге на Биш-о-Шай. Проклятое место, где жили Женевьева Маньян и Ален Фонтанель.
Филипп был в пути всю ночь, но совсем не устал, он обожал мчаться сквозь тьму, навстречу ветру, пыли и ночным бабочкам.
Скоро он оказался рядом с домом. В одной из комнат первого этажа горел свет. Филипп постучал в дверь, не задумавшись ни о времени, ни об обстоятельствах. Ален Фонтанель открыл сразу, не спросив кто. Он был прилично пьян, синяк от побоев Филиппа успел рассосаться за две недели.
– Женевьева повесилась, – с ходу сообщил он, – так что сегодня ты мордобоем не развлечешься.
У Филиппа подкосились ноги, к горлу подкатила рвота, и его едва не вывернуло. Как он мог так низко пасть?
Стоявший перед ним мужчина – негодяй, но и сам он изрядная скотина. Трахался с Маньян. Однажды вечером «одолжил» ее приятелю – без стыда и зазрения совести.
Филипп едва не потерял сознание, вспомнив свой позор, и тяжело привалился к косяку. Он понял, как страдала Женевьева по вине двух мерзавцев – Филиппа Туссена и Алена Фонтанеля. У него похолодела спина, заломило затылок, словно призрак несчастной женщины пронзил его длинным стилетом. Тьма потащила его, обрушившись на плечи, как дикий зверь.
Фонтанель криво усмехнулся и пошел в комнату, оставив входную дверь открытой. Филипп последовал за ним по темному коридору. Внутри пахло затхлостью, прогорклым маслом и пылью, как в доме престарелых, где не в чести проветривание и влажная уборка. Филипп вспомнил, что Виолетта проветривала даже зимой. Виолетта… Как же сильно ему хочется обнять ее, так сильно, как он никогда не делал! Зато старик с кладбища уж точно не отказывает себе в этом удовольствии.
Они сели в столовой, где не было никакой еды, только десятки пустых пивных бутылок на покрытом клеенкой столе, да еще пара-тройка пузырей из-под водки и чего-то еще, тоже крепкого. Они начали пить – молча, не глядя друг на друга, а компанию им составлял дьявол.
Фонтанель заговорил много позже, заметив, что Филипп не отрываясь смотрит на фотографию двух мальчиков, стоящую на старом уродливом буфете. Снимок был сделан в школе, специально для родителей.
– Ребята у сестры Женевьевы, им там лучше, чем со мной. Я никогда не был хорошим отцом… А ты?
– …
– Насчет смерти малышек, твоей девочки… Женевьева была ни при чем… Ну, то есть она ничего не делала специально. Я знаю только конец истории. Я дрыхнул, решил, что мне снится кошмар. Она трясла меня и была как бесноватая. Выла, что-то мычала, я ни черта не понимал… Она заговорила о тебе, сказала, что здесь твоя дочь, вспомнила Мальгранж и судьбу, злую, как ведьма… Вспомнила свою мать… Тянула меня за рукав и кричала: «Идем! Скорее! Это ужасно… ужасно…» Женевьева никогда не была… такой. Когда я прибежал вниз, все уже выгорело…
Фонтанель хлопнул стопку водки, запил пивом, выдохнул и продолжил, ковыряя ногтем дырку в клеенке:
– Эта Кроквьей, директриса, она мало мне платила за уборку территории и другие работы. Мало и нерегулярно. А хотела, чтобы рос газон. Я тебе покажу газон, старая сволочь! Женевьева летом готовила еду и делала покупки. Старуха требовала, чтобы мы ночевали в замке, когда приезжали дети… Чтобы следили за ними. В тот вечер Женевьева не должна была работать, но, когда все разошлись по палатам, Люси Лендон попросила заменить ее на два часа и присмотреть за девочками, жившими на первом этаже. Люси хотела пойти к Летелье выкурить косячок. Женевьева не решилась отказать воспитательнице, та всегда ее поддерживала. Но она не осталась в замке. Улизнула. Оставила малышек одних, чтобы пойти к сестре и навестить наших мальчиков. Младший болел, и она беспокоилась. Летом Женевьева вечно сходила с ума из-за того, что приходилось бросать сыновей. Другие-то дети грелись на солнышке! Она вечно меня пилила: «Ты ничтожество, даже к морю не способен нас отвезти!» Проклятущая жизнь!
Фонтанель сходил в сортир, а вернувшись, сел на другой стул, как будто прежний кто-то занял.
– Женевьева обернулась за час, открыла дверь палаты № 1, у нее закружилась голова, она упала и ударилась лицом… Ей уже днем нездоровилось, она решила, что заразилась от сына. Поднялась… распахнула окно, чтобы продышаться… Это ее и спасло. Через пять минут она сообразила: что-то не так, девочки слишком крепко спят. Она не сразу поняла… В ванной комнате каждой палаты был установлен доисторический газовый водонагреватель, трогать их было строго запрещено… Но кто-то это сделал. Женевьева увидела, что люк безопасности распахнут…
Ален Фонтанель открыл очередную бутылку и продолжил свой рассказ:
– Мы знали, что в замке все прогнило, он стал миной замедленного действия… Я ничего не мог сделать. Они задохнулись… Отравились газом. Все четыре.
Фонтанель замолчал. Его голос впервые дрогнул, выдавая волнение. Он закурил, прищурившись.
– Я сразу выключил горелку. Нашел спичку, которой ее зажгли. Женевьева никогда не умела врать… Я знал про вас с ней. Догадался по влюбленным глазам. Она же была как безумная. Красила морду, надевала туфли, которые натирали ей ноги до крови. И воняла, как кокотка. В тот вечер я по лицу понял, что она ни в чем не виновата. От нее несло мертвечиной… Никто из персонала и близко к проклятому агрегату не подойдет добровольно. В уставе лагеря формального запрета не было, иначе директрису живьем бы съели. Она давно должна была поменять оборудование… Горазда была выманивать у родителей деньги, но из-за скупости не тратила ни копейки на ремонт.
В дверь постучали. Фонтанель не открыл. Буркнул: «Чертовы соседи…» – и плеснул в стакан водки. Филипп сидел неподвижно, только пил, пытаясь залить горе…
– Женевьева запаниковала. Сказала, что не хочет в тюрьму. Что, если кто-нибудь узнает об отлучке к сыновьям, на нее повесят всех собак. Она умоляла о помощи. Сначала я отказался. «Да как я помогу? Мы скажем правду… что это несчастный случай… Психа, который это сделал, найдут». Она совсем обезумела, стала меня оскорблять, ругалась, грозилась рассказать легавым, что я подглядываю за воспитательницами, ворую их трусики из грязного белья… что у нее есть доказательства. Я дал ей оплеуху, чтобы заткнулась… И вдруг вспомнил, как в армии один рядовой сжег полказармы, забыв выключить газ под кастрюлькой со жратвой… Вот так мне и пришла в голову эта идея… Огонь, он ведь все уничтожает. И никого не сажают в тюрьму… особенно если глупость сотворили девчушки… когда забыли на огне ковшик с молоком.
Филипп хотел крикнуть: «Заткнись!» – но не было сил открыть рот. Хотел встать, уйти, сбежать, заткнуть уши – и оставался сидеть, оцепенев от ужаса, как будто две ледяные ладони удерживали его на стуле. А Фонтанель продолжал:
– Я поджег кухню… Женевьева отнесла кружки в комнату девочек… Я ждал в конце коридора, оставив дверь приоткрытой. Женевьева поднялась в нашу комнату… С той ночи она хныкала, не переставая… Ей было страшно… Она все время говорила, что ты или твоя жена в конце концов ее прикончите…
Филипп дернулся, как от прикосновения электрошокера.
– Когда огонь добрался до комнаты, я рванул на второй этаж и начал колотить в дверь Летелье… Потом закрылся с Женевьевой в нашей комнате. Лендон проснулась, побежала вниз, увидела пожар и заорала как резаная. Я сделал вид, что выскочил из кровати и ни черта не понимаю… Летелье попытался войти в палату девочек, но было слишком поздно… Пока ехали пожарные, все сгорело… Это было хуже ада… Лендон так и не осмелилась спросить Женевьеву, где она была вечером и как получилось, что малышки встали, пошли на кухню и никто этого не заметил. Не осмелилась, потому что была виновата. Никто так и не выяснил, кто поджег фитиль водонагревателя… зачем… В какой момент… Сам понимаешь, я проверил все остальные комнаты и ничего подобного не обнаружил… Я никому не сказал.
Филипп потерял сознание, а когда пришел в себя, Ален Фонтанель сидел, глядя в пустоту, его глаза налились кровью, в одной руке он держал стакан, в другой – догоревшую до фильтра сигарету. Голова у Филиппа гудела, вкус во рту был отвратительный, в животе начались рези.
– Не смотри на меня так, я точно знаю, что Женевьева ничего не делала. Не пялься, говорю, я – грязный тип, люди меня сторонятся, переходят на другую сторону улицы, пусть так, но я и пальцем не тронул ни одного ребенка!
Женевьеву Маньян похоронили 3 сентября 1996 года. Ирония судьбы или несчастливое стечение обстоятельств: в этот день Леонине могло бы исполниться десять лет.
Когда гроб с ее телом опускали в семейную могилу на маленьком кладбище в Биш-о-Шай, в трехстах метрах от ее дома, Филипп уже вернулся на восток Франции, к своему шлагбауму.
Зимой 1996/97-го он не бывал в адресе, а мотоцикл скучал в гараже.
Родители заехали за ним один раз, в январе, чтобы вместе отправиться в Брансьон, на могилу Леонины, но он отказался сесть в машину. Повел себя как капризный ребенок, так он поступал, уезжая на каникулы к Люку и Франсуазе, наплевав на недовольство матери.
Полгода он играл на Nintendo в разные игры, где нужно было спасать принцессу, и делал это сотни раз, коль уж не сумел выручить из беды свою маленькую принцессочку.
Однажды утром, за завтраком с горячими тостами, Виолетта объявила, что место смотрителя кладбища в Брансьон-ан-Шалоне освобождается и она хочет его занять сильнее всего на свете. Она объяснила, какое это будет счастье, описала работу, как каникулы на курорте в пятизвездном отеле.
Филипп смотрел на нее как на безумную. Не из-за предложения пойти в смотрители. Он изумился, поняв, что она готова и дальше жить с ним вместе, и сначала сказал «нет». Решил – это из-за того старика, но сразу понял, что ошибается. Она могла бы просто бросить его, а предложила переехать на новое место.
Идея стать смотрителем кладбища внушала ему ужас, но в Мальгранже больше нечего было делать. Да и чем бы он мог заняться? Поход в агентство занятости закончился предложением подать подробнее резюме и перечислить все профессиональные умения. Он разбирался в мотоциклах и легко соблазнял женщин без высоких моральных устоев. Его хотели отправить на курсы механиков, окончив их, он мог бы получить работу в гараже, у концессионера или заняться продажами. Успеху очень даже поспособствует ваша внешность, мсье. Мысль о торговле, комиссионных и страховых полисах не внушала ничего, кроме омерзения. Вставать по звонку будильника, чего он отродясь не делал, следовать расписанию встреч, носить костюм и галстук, трудиться тридцать девять часов в неделю… Нет, лучше смерть, чем такой кошмарный ужас! Филипп никогда не хотел работать – разве что в восемнадцать лет, в гараже Люка и Франсуазы.
Между тем, дав согласие работать на кладбище, он будет каждый месяц получать зарплату, и эти деньги останутся его неприкосновенным запасом, а Виолетта на свои будет вести хозяйство. Жена останется в его теплой постели, будет по утрам подавать на стол тосты, стирать белье и мыть посуду. Ему всего-то и нужно – переехать и продолжать вести жизнь вечного подростка. Как там сказала Виолетта: «Я повешу шторы на все окна, а на церемониях тебе присутствовать не придется…» Он установит Nintendo в закрытой комнате и примется спасать принцесс одну за другой, там его не потревожит ни могильщик, ни посетитель, разыскивающий захоронение.
Ну и, наконец, он сможет выяснить, кто тот чертов сукин сын, который «оживил» обогреватель в ночь с 13 на 14 июля 1993 года в замке Нотр-Дам-де-Пре. Он будет задавать вопросы, пока не услышит нужные ответы, даже если придется применить насилие. Действовать придется скрытно, чтобы никто не явился требовать назад деньги, полученные по страховке, и сумму, выплаченную в качестве возмещения за смерть Леонины.
Филипп ненавидел себя за внушенную матерью манию бережливости, но она была непобедима. Как генетическое заболевание. Как вирус или смертоносная бактерия. Его скаредность напоминала врожденное уродство, проклятое наследие. Зачем ему копить? Филипп понятия не имел, на что в один прекрасный день потратит деньги…
Они переехали в августе 1997-го, арендовав совсем небольшой фургон, куда поместилось все их имущество.
Старика на кладбище не оказалось. Он исчез, оставив на столе записку. Филипп притворился дураком и не удивился тому, что Виолетте прекрасно знаком каждый уголок его дома. Она сразу побежала в сад и крикнула оттуда: «Иди сюда! Скорее!» Филипп много лет не слышал улыбки в ее голосе. Она держала в каждой руке по огромному помидору, румяному, как девичьи щечки, откусила от одного, и ее глаза засверкали от восторга. Такой Филипп помнил жену в тот день, когда родилась Леонина. Она сказала: «Попробуй!» – и он готов был отказаться, побрезговав, но сообразил, что огород разбит высоко, и вода с кладбища сюда не попадает, вымученно улыбнулся и заставил себя откусить. Сок потек по его пальцам, и Виолетта тут же облизала их. В это мгновение Филипп Туссен понял, что никогда не переставал любить жену. Увы, слишком поздно, пути назад нет.
Он выкатил мотоцикл из фургона и бросил небрежным тоном:
– Поеду прокачусь…
77
Спроси, что я предпочту – пройти мимо тебя, так и не узнав, или оплакивать, испытав счастье? Конечно, второе!
«22 октября 1996
Моя бесценная Виолетта!
Два месяца назад муж запретил тебе ездить в Брансьон. Мне тебя не хватает. Когда ты вернешься?
Сегодня утром я слушал Барбару[90]. Ее голос идеально подходит к осени, запаху влажной земли, в которой тихо засыпают корни, чтобы по весне возродиться. Осень – колыбель новой жизни. Листья меняют цвет, как на дефиле Высокой моды, как ноты, творимые голосом Барбары. Знаешь, она такая забавная, эта певица: если слушать внимательно, понимаешь, что для нее нет ничего серьезного, несмотря на все тяготы жизни. Я мог бы влюбиться в нее до беспамятства… будь она мужчиной. Что поделать, природа не наделила меня добродетельностью жены моряка!
Погода стоит теплая, заморозков не было, и я только что собрал последние помидоры и кабачки. Приближается День Всех Святых, он, как невидимый барьер, пройдет – и конец летним овощам. Мой салат все еще хорош, но через месяц останется только «Сахарная голова»[91]. Из земли показалась капуста. В ожидании первых холодов я перекопал некоторые грядки и засыпал их навозом там, где мы с тобой в августе копали картошку и лук. Мой крестьянский друг доставил пятьсот кило дерьма, и я спрятал его от дождя под брезентом рядом с сараем. Пованивает несильно (для земли и растений назем в любом случае полезней химической дряни!), соседи вряд ли пожалуются. Кстати, три дня назад похоронили Эдуара Шазеля (1910–1996), умершего во сне. Я иногда спрашиваю себя: что такого можно увидеть ночью, чтобы захотелось уйти на тот свет?
До меня дошли новости о Женевьеве Маньян. Печальное завершение жизни… Думаю, нужно забыть, Виолетта. Продолжать жить, не пытаясь узнать как, почему и кто. Навоз плодоноснее прошлого, оно больше похоже на негашеную известь. Яд, сжигающий ветки. Да, Виолетта, прошлое отравляет настоящее. Проигрываешь в памяти события прошлого – и немножко умираешь.
В прошлом месяце я начал обрезать старые розовые кусты. Для грибов было слишком жарко. Обычно, в конце лета, после двух-трех гроз с обильным дождем, через неделю вылезают лисички. Вчера я ходил в подлесок, в то тайное место, где их обычно полно, но вернулся почти как парижанин, усталый, недовольный и с пустыми руками – если не считать трех лисичек, корчивших мне насмешливые рожицы со дна корзинки. Они напоминали приплод червячков, но я все-таки положил их в омлет. А нечего было издеваться… На прошлой неделе я встречался с мэром и поговорил с ним о тебе, дал наилучшие рекомендации. Он согласен отдать тебе место смотрителя, но хочет сначала побеседовать. Я предупредил, что ты будешь не одна, а с мужем. Сначала он был не слишком доволен – еще одна зарплата! – но раньше на кладбище было четыре могильщика, теперь осталось три, так что ваша пара «укладывается в бюджет». На твоем месте я бы поторопился. Иначе тебя опередят – всегда найдется соискатель – племянник, кузина или сосед. Согласен, претенденты не толпятся у ворот кладбища, но будем бдительны! Я не могу оставить кошек и сад никому, кроме тебя!
Возвращайся, чтобы я представил тебя мэру. Вообще-то я склонен держаться подальше от народных избранников, но он – вполне приличный человек. Если даст тебе слово, не понадобится подписывать договор о намерениях. Соври что-нибудь мужу и приезжай как можно скорее. Я уже рассказывал тебе о доблести лжи? Если нет, завяжи узелок на память и напомни мне, когда увидимся.
Нежно тебя обнимаю, драгоценная моя.
Саша»
– Филипп, мне нужно съездить в Марсель!
– Но сейчас не август.
– Не в хижину. Я нужна Селии, на несколько дней. На три или четыре, не больше… Если не возникнет осложнений. Плюс время на дорогу.
– Зачем?
– Она в больнице, а Эмми не на кого оставить.
– Когда?
– Прямо сейчас, дело срочное.
– Сейчас?!
– Говорю же, это срочно!
– Что с Селией?
– Аппендицит.
– В ее возрасте?
– Эта напа́сть случается в любом возрасте… Стефани отвезет меня в Нанси, там я сяду в поезд. Пока я не приеду, Эмми побудет у соседки… Я обязана помочь Селии, ведь у нее никого, кроме меня, нет. Я оставила тебе расписание на листке бумаги, лежит рядом с телефоном. Сходила в магазин, тебе останется только разогреть в микроволновке рагу из белого мяса под белым соусом и гратен. В морозилке две твои любимые пиццы, в холодильнике – йогурты и готовые салаты. В полдень Стефани будет приносить тебе свежий багет. В ящике, под приборами, печенье. Все как обычно. Я быстро вернусь. Позвоню, когда доберусь.
Все двадцать пять минут, что мы ехали на вокзал, я напропалую врала Стефани. Втюхала ей ту же историю, что и Филиппу Туссену: у Селии аппендицит, нужно покараулить Эмми. Стефани не умеет врать: скажи я ей правду, она выдала бы меня, сама того не желая.
Стефани отпросилась на час и повезла меня в Нанси. Мы почти не разговаривали. Она хвалила новую марку биосухарей – несколько месяцев назад на полках «Казино» появились разные биологические продукты. И моя подруга рассуждала о них, как о Святом Граале. Я не слушала. Мысленно перечитывала письмо Саши. Перенеслась в его сад, потом в его дом, на его кухню. Я торопилась. Смотрела на белого тигренка, висевшего на зеркале, и подбирала правильные слова и нужные аргументы, чтобы убедить Филиппа Туссена переехать и согласиться на работу смотрителя кладбища.
Я добралась до Лиона, пересела в поезд на Макон, потом на междугородний автобус, ехавший мимо замка, и закрыла глаза, пока он не остался позади.
Я толкнула дверь своего будущего дома ближе к вечеру. День почти угас, было ужасно холодно, и у меня сразу треснула губа. В доме приятно пахло, должно быть, Саша зажигал ароматические свечи и снова надушил платочки любимыми духами. Увидев меня, он улыбнулся и сказал:
– Будь благословенна доблесть обмана!
Мой друг чистил овощи. Рука у него чуть дрожала, и он держал нож осторожно, как драгоценный камень.
Мы поели минестроне, суп был восхитительно густой. Поговорили о саде, грибах, песнях и книгах. Я спросила, куда он отправится, если нас возьмут на работу. Он ответил, что все предусмотрел. «Буду путешествовать, останавливаться, где захочется. Пенсия у меня такая же «тощая», как я сам, но мне хватит. Перемещаться по миру можно и во втором классе или автостопом». Саша жаждал познавать неведомое. Встречаться с немногочисленными друзьями. Совершенствовать их сады, а если таковых не окажется – тем лучше! – сажать деревья и цветы.
Центром притяжения для него была Индия. Со своим лучшим другом Сани, индусом, он познакомился в детстве. Сын посла, Сани с 70-х годов жил в Керале, и Саша много раз к нему ездил, в том числе со своей женой Вереной. Сани крестил Эмиля и Нинон. Саша хотел «встретиться со смертью» в Индии, так он всегда говорил.
На десерт был молочный рис, приготовленный накануне в стеклянных баночках из-под йогурта. Я зачерпнула ложкой с самого дня, чтобы достать карамель, и Саша сказал изменившимся голосом:
– Лишившись семьи, я очень сильно похудел. Я всегда боялся умереть первым и оставить их одних, без помощи и защиты. Думал: «А что, если они будут голодать? А вдруг замерзнут? Кто их утешит? Кто обнимет?» Когда уйду я, обо мне никто не заплачет. Я уйду, легкий и свободный от груза заботы о них.
– Я буду оплакивать вас, Саша.
– Не так, как жена и дети. Иначе. Как друг. Ты сама знаешь, что ни по одному человеку не станешь печалиться, как по Леонине.
Саша вскипятил воду для чая, сказал:
– Как же я рад тебя видеть, Виолетта! Ты ведь тоже мой настоящий друг, так что жди моих набегов. В отсутствие твоего мужа.
Он включил музыку, сонаты Шопена. И заговорил о живых и мертвых. О завсегдатаях. О вдовах. О самом тяжком – похоронах детей. Никто никому ничем не обязан, но персонал кладбища и служащих похоронного бюро связывает истинная солидарность. Взаимовыручка. Взаимозаменяемость. Могильщик может заменить «носильщика», который может заменить мраморщика. Который может заменить сотрудника похоронного бюро, который может заменить охранника, когда один из них не чувствует в себе сил пережить трудные похороны. Незаменим только кюре.
– Ты все сама увидишь и услышишь. Жестокость и ненависть, утешение и страдание, злобу и раскаяние, тоску, и радость, и сожаления. Все общество, все расы и все религии на нескольких гектарах земли.
В повседневности нужно помнить о двух вещах: не запирать посетителей – некоторые теряют ощущение времени, и остерегаться краж – люди частенько забирают с соседних могил свежие цветы и даже таблички («Моей бабушке», «Моему дяде» или «Моему другу» годятся для любой семьи).
– Стариков будет больше, чем молодых, которые уезжают учиться или работать и редко навещают могилы. А если приходят, то чаще всего – увы! – к ровеснику. Завтра 1 ноября, самый важный день года. Придется помогать тем, кто редко бывает на кладбище.
Саша показал мне, где лежат планы кладбища, карточки с именами усопших за последние полгода (они хранились в сарае рядом с домом, со стороны кладбища). Все остальные зарегистрированы в мэрии.
Я подумала, что Леонину тоже классифицировали. Такая юная – и уже занесена в графу официального документа.
На карточках для каждой могилы были выписаны фамилия, дата смерти и номер места.
В дни церемоний необходимо следить, чтобы провожающие не топтались на соседних могилах, и помнить, что один из трех могильщиков – неуклюжий растяпа.
У некоторых родственников будет разрешение на проезд на машине. Их легко опознать по шуму двигателя, в основном это старички на «Ситроенах».
– Все остальное будешь познавать «в процессе». Один день не похож на другой, – Саша ухмыльнулся. – Я мог бы написать роман или панегирик живым и мертвым. Наверное, так и сделаю, когда в сотый раз дочитаю «Правила виноделов».
Первый список Саша составил в новой школьной тетрадке. Написал имена кошек, живущих на кладбище, их характеристики, пристрастия в еде и привычки. Он соорудил кошачье «гнездо» из старых свитеров и одеял, выложив дно бересклетом, и поставил его у левой стены дома, а могильщики помогли ему соорудить на зиму теплое сухое убежище. Он записал адреса ветеринаров из Турнюса, отца и сына, которые приезжали вакцинировать и стерилизовать животных с пятидесятипроцентной скидкой. О собаках, спящих на могилах покойных хозяев, тоже придется заботиться.
На другой странице были зафиксированы – ха-ха! – фамилии могильщиков. Их имена, прозвища, привычки и полномочия. Адреса и функции братьев Луччини. И, наконец, фамилия служащего мэрии, регистрирующего смерти.
Закончил Саша следующей фразой: «Людей опускают в землю на этом кладбище уже двести пятьдесят лет, и это еще не конец».
Остальные, чистые страницы, он заполнял два дня. Писал о саде, овощах, цветах, фруктовых деревьях, временах года и посадках.
В День Всех Святых тонкий слой инея покрыл землю в саду. Ночью мы с Сашей собрали последние летние овощи. Закутались, взяли фонарики и работали. Саша спросил, что я почувствовала, узнав о самоубийстве Женевьевы Маньян.
– Я всегда считала, что дети не зажигали газ на кухне, что кто-то не затушил окурок или что-то в этом роде. Думаю, Женевьева Маньян знала правду и не могла этого вынести.
– Ты бы хотела узнать?
– После смерти Леонины только это и заставляло меня держаться. Сегодня для нас обеих важны лишь цветы.
Мы услышали, как перед кладбищем остановилась машина первых посетителей. Саша пошел открывать ворота. Я решила составить ему компанию. Он сказал: «Ты привыкнешь к часам работы. К чужому горю. Ты ни за что не будешь раздражаться на тех, кто явится раньше или задержится после закрытия. Тебе не всегда захочется просить их уйти».
Я весь день наблюдала за посетителями. Люди с хризантемами в руках деловито шли по аллеям. Кошки терлись о мои ноги, я их гладила, и сердце мое радовалось. Накануне Саша объяснил, что люди жертвуют деньги на кладбищенских животных, потому что верят: усопшие общаются с ними через собак и кошек.
Около пяти я сходила к Леонине. Нет, не к ней – к имени на мраморной доске. Кровь заледенела в жилах, когда я увидела Туссенов-старших, кладущих на могилу желтые хризантемы. Я не встречалась с родителями Филиппа после случившейся трагедии. Забирая сына, они ставили машину далеко от дома, а я не смотрела в окно, пока они не уезжали.
Мамаша и папаша Туссен постарели. Она держалась прямо, но как будто стала ниже ростом. Время их не пощадило.
Они ни в коем случае не должны меня увидеть – сразу доложат Филиппу Туссену, а он думает, что я в Марселе. Я наблюдала, спрятавшись, как злоумышленница, натворившая кучу дел.
Саша подошел сзади, так тихо, что напугал меня, взял за руку и, не задавая вопросов, сказал:
– Пошли, мы возвращаемся.
Вечером я рассказала, что видела на могиле Леонины родителей мужа. Описала, какая злая женщина его мать, как она всегда смотрела сквозь меня. «Они – убийцы, они послали мою дочь в тот злосчастный замок. Возможно, переезд в Брансьон и работа на кладбище – не лучшая идея… Видеть свекра и свекровь два раза в году на аллеях кладбища, смотреть, как они украшают цветами могилу, выше моих сил…»
Сегодняшняя встреча снова повергла меня в горчайшую печаль. Не было ни минуты, ни секунды, чтобы я не думала о Леонине, но теперь все изменилось. Я преобразила ее отсутствие: она ушла, но не от меня. Я ее чувствую. А сегодня, увидев Туссенов, поняла, что моя девочка отдалилась.
Саша попытался меня успокоить. Сказал, что, узнав о нашем переезде, родители Филиппа сами будут меня избегать, а может, даже перестанут приходить на кладбище.
– Так ты навсегда от них избавишься.
Следующим утром я встретилась с мэром. Он с ходу объявил, что мы с Филиппом Туссеном будем считаться нанятыми с августа 1997 года. Каждый из нас получит межпрофессиональную минимальную зарплату. Служебное жилье – дом смотрителя, оплаченное водоснабжение и электричество и никаких налогов.
– У вас есть вопросы?
– Нет.
Саша улыбнулся.
Мэр угостил нас чаем (в пакетиках, с ванилью) и черствым печеньем, которое с удовольствием макал в чашку, совершенно по-детски. Саша счел невежливым отказаться, хотя ненавидел чай в пакетах. «Пористый пластик на веревочке, позор нашей цивилизации, Виолетта! И они смеют называть это прогрессом!» Между двумя печенюшками господин мэр сказал, сверившись с календарем:
– Саша должен был предупредить вас – на кладбище всякое бывает. Лет двадцать назад здесь случилось нашествие крыс. Мы вызвали истребителя грызунов, и он рассыпал повсюду мышьяк, но крысы не ушли, и люди перестали навещать могилы. Это напоминало экранизацию «Чумы» Альбера Камю. Увеличили дозы яда – и никакого эффекта. В третий раз разложив отраву, специалист не ушел, а спрятался и наблюдал, как поведут себя грызуны. Вы не поверите, что выяснилось! Появилась маленькая старушонка с лопатой и совком, собрала отраву и направилась к выходу. Оказалось, что она уже несколько месяцев торгует мышьяком из-под полы! На следующий день газета опубликовала на первой полосе статью под хлестким заголовком: «На кладбище Брансьон-ан-Шалона торгуют мышьяком!»
78
Есть много замечательных вещей, о которых ты ничего не знаешь, – вера, которая сворачивает горы, свет твоей души, – думай о них, когда засыпаешь.
Любовь сильнее смерти.
– Каждая могила – мусорный бак. Тут хоронят останки, души отправляются в другое место.
Пробормотав эту фразу, графиня де Дарьё залпом выпивает водку. Мы только что похоронили Одетту Маруа (1941–2017) жену ее «великой любви». Графиня приходит в себя у меня на кухне за столом.
Она наблюдала за церемонией издалека. Дети Одетты знают, что она была любовницей их отца, соперницей матери, и относятся к ней более чем холодно.
Теперь графиня сможет класть подсолнухи на могилу любимого мужчины, зная, что никто не оборвет лепестки и не швырнет их в помойку.
– Я словно потеряла старую приятельницу… А ведь мы ненавидели друг друга. Как все старые приятельницы. Но я ревную, ведь она первой встретится с ним на небесах. Мерзавка всю жизнь меня опережала.
– Собираетесь по-прежнему украшать его могилу цветами?
– Нет. Не теперь, когда они наверху. Это было бы слишком неделикатно.
– Как вы встретили любовь всей вашей жизни?
– Он работал на моего мужа. Отвечал за конюшни. Красивый был мужчина. Видели бы вы его попку! Мускулистый, стройный, с чувственным ртом и бархатными глазами. Меня и сейчас пробирает дрожь. Наша связь продлилась четверть века.
– Почему вы оба не развелись?
– Одетта шантажировала его самоубийством: «Если ты меня бросишь, я покончу с собой…» Да и потом – между нами, Виолетта! – меня это устраивало. Что бы я стала делать со своей «великой любовью» сутки напролет? Это ведь работа! А я никогда ничего не умела делать руками, только держать книгу и играть на пианино. Он бы очень быстро устал от меня. Мы встречались, когда возникало желание. Он видел меня – накрашенную, надушенную, нарядную, от меня никогда не пахло кухней или детской рвотой, а мужчины обожают все красивое, сами знаете. Муж возил меня по всему свету, мы жили в палаццо, плавали в южных морях, я возвращалась загорелая, отдохнувшая, встречалась с ним, и мы страстно любили друг друга. Я напоминала себе леди Чаттерлей. Уверяла любовника, что граф давно не претендует на выполнение супружеского долга, он ведь на двадцать лет старше меня, у нас даже разные спальни! А он говорил, что секс совершенно не интересует Одетту. Мы лгали из любви, так было проще. Я плачу всякий раз, когда слушаю «Песню старых любовников»[92]… Кстати, о слезах – налейте мне на посошок, Виолетта. Сегодня я в этом нуждаюсь… Когда мы случайно встречались с Одеттой, она «расстреливала» меня взглядом, а я улыбалась. Мои муж и любовник умерли с интервалом в месяц. Оба – от сердечного приступа. Ужасно! Я все потеряла в мгновение ока. Землю и воду. Огонь и лед. Можно подумать, что Бог и Одетта объединили усилия, чтобы меня уничтожить. Я не жалуюсь – жизнь была длинная и красивая… Осталось одно – последнее – желание: пусть меня кремируют и развеют прах над морем.
– Не хотите лежать рядом с графом?
– С мужем на вечные времена?! Никогда! Я бы слишком боялась умереть со скуки!
– Но вы сами только что сказали, что в земле лежат бренные останки!
– Даже они будут скучать рядом с графом. Он вечно портил мне настроение!
Ноно и Гастон заходят выпить кофе. Увидев, что я хохочу, они изумляются. Ноно краснеет. У него слабость к графине. Как видит ее, заливается румянцем, как школьник.
Через несколько минут появляется отец Седрик. Он целует графине руку.
– Ну, святой отец, как все прошло? – нетерпеливо спрашивает она.
– Как похороны, графиня.
– Дети заказали музыку?
– Нет.
– Идиоты! Одетта обожала Хулио Иглесиаса.
– Откуда вы знаете?
– Женщина все знает о сопернице. Ее привычки, духи, вкусы. Когда мужчина приходит к любовнице, он должен чувствовать себя в отпуске, а не в общежитии.
– Все это не слишком… по-католически, госпожа графиня.
– Ну, отец, люди должны грешить, иначе ваша исповедальня опустеет. Церковь делает бизнес на грехе. Если людям не в чем будет себя упрекнуть, они перестанут ходить на мессу.
Графиня находит взглядом Ноно.
– Норбер, не будете ли вы столь любезны проводить меня?
Ноно смущается и краснеет.
– Конечно, госпожа графиня.
Едва они выходят за дверь, как Гастон разбивает чашку. Я нагибаюсь собрать осколки на совок, а он шепчет мне на ухо: «Я вот спрашиваю себя… уж не спит ли Ноно с графиней?»
79
Во времени, соединяющем небо и землю, скрывается прекраснейшая из тайн.
Дневник Ирен Файоль
29 мая 1993
Поль болен. Наш семейный доктор считает, что у него осложнения либо с печенью, либо с желудком, либо с поджелудочной. Поль страдает – и не лечится. Вместо того чтобы узнать разные мнения, он за одну неделю посетил трех ясновидящих, и они предсказали ему долгую прекрасную жизнь. Поль никогда не проявлял ни малейшего интереса к медиумам и прочим глупостям. Он напоминает мне атеистов, которые обращаются к Богу, когда корабль начинает тонуть. Мне кажется, он заболел из-за меня: я столько раз врала, чтобы улизнуть к Габриэлю, в номер отеля, что это добило моего мужа.
Лион, Авиньон, Шатору, Амьен, Эпиналь. Уже год мы с Габриэлем «захватываем» кровати, как пираты корабли или наемники чужие земли.
Я дважды записывала Поля на сканирование в Институт Паоли-Кальмета[93] – он не пошел. Каждый вечер я говорю ему, что лечиться нужно начать немедленно. Он улыбается и отвечает: «Не беспокойся, все будет хорошо».
Я вижу, что Поль страдает. По ночам он стонет от боли. Худеет.
Я в отчаянии. Чего он добивается? Мой муж сошел с ума или решил убить себя?
Я не могу заставить его сесть в мою машину и отвезти в больницу. Я все испробовала – улыбку, слезы, гнев, – он не поддается. Умирает. Дрейфует без руля и ветрил.
Я умоляла его поговорить со мной, объяснить, зачем он так себя ведет. В чем причина его самоотречения. Он не ответил и пошел спать.
Я пропала.
7 июня 1993
Этим утром Габриэль позвонил мне в розарий, голос у него был счастливый, он всю неделю выступает на процессе в Эксе, он хочет меня видеть, провести со мной все ночи. Он говорит, что думает только обо мне.
Я ответила: «Не получится. Нельзя оставлять Поля одного».
Габриэль повесил трубку, не попрощавшись.
Я схватила с прилавка снежный шар и что было сил швырнула в стену с жутким воплем.
Снега внутри, конечно, не было – только полистирен. Не настоящая любовь, только ночи в отелях.
Мы оба обезумели.
3 сентября 1993
Я отравила настой Поля. Подмешала сильный седативный препарат, чтобы он потерял сознание, тогда я смогу вызвать «Скорую».
Они увезли его в отделение неотложной помощи и обследовали.
У Поля рак.
Он так ослаблен болезнью и седативным, которое я ему скормила, что врачи решили госпитализировать его на неопределенный срок.
Поль сказал, что сам принял лекарство, чтобы избавиться от боли. Он поступил так, чтобы меня не побеспокоили.
Я объяснила Полю мой поступок: у меня не было выбора! Он сказал, что потрясен силой моей любви: «А я-то, идиот, думал, что ты меня разлюбила…»
Иногда мне хочется исчезнуть с Габриэлем. Но только иногда.
6 декабря 1993
Я позвонила Габриэлю, чтобы рассказать об операции и химиотерапии и объяснить, почему мы не можем увидеться.
Он ответил: «Понимаю…» И больше ничего не сказал.
20 апреля 1994
Сегодня утром в розарий пришла красивая беременная женщина. Сказала, что хочет купить коллекционные розы и пионы и посадить их в тот день, когда родится ее малыш. Мы поговорили о том о сем. О моем саде и ее доме, расположенном на юго-западе, где лучше всего растут выбранные ею цветы. Она призналась, что ждет девочку и это чудесно, я ответила, что у меня сын и это тоже чудесно. Она очень смеялась.
Я редко смешу других людей. Получается только с Габриэлем. И с сыном выходило, когда он был маленьким.
Расплачиваясь чеком, клиентка протянула мне удостоверение личности со словами:
– Извините, оно принадлежит моему мужу, но фамилия и адрес те же.
Я прочла имя и фамилию – Карина Прюдан – и адрес: Макон, дорога де Контамине, 19. В удостоверении личности стояло имя Габриэля. Его фотография, его дата и место рождения, тот же адрес и отпечаток пальца. На то, чтобы понять, в чем дело, потребовалось несколько секунд. Я почувствовала, что краснею. Жена Габриэля посмотрела на меня – пристально, прямо в глаза, потом забрала карточку и положила ее во внутренний карман куртки, у сердца, над будущим младенцем.
И ушла с растениями в картонной коробке.
22 октября 1993
У Поля ремиссия. Мы отпраздновали это с Жюльеном. Мой сын живет в квартире рядом со школой. Я теперь одна. Чувствую себя одинокой, как до его рождения. Дети заполняют наши жизни, а потом оставляют в ней огромную зияющую пустоту.
27 апреля 1996
У меня уже три года нет новостей о Габриэле. Каждый год, на мой день рождения, я надеюсь, что он проявится. Я думаю, я верю или я надеюсь?
Мне его не хватает.
Воображаю его в саду – с женой, дочкой, пионами и розами. Представляю, как сильно он скучает – он, обожающий прокуренные пивные, залы суда, трудные дела. И меня.
80
Говорите со мной, как делали всегда.
Не переходите на другой тон.
Не делайте торжественного или печального лица.
Продолжайте смеяться над тем, что смешило нас обоих.
Сентябрь 1997
Филипп уже четыре недели жил в Брансьон-ан-Шалоне. Каждое утро он открывал глаза, и его придавливала тишина. В Мальгранже мимо дома ездили легковушки и грузовики. Они останавливались, когда Виолетта опускала шлагбаум, звенел звонок, и по рельсам стучали колеса поездов. Здесь, в этой унылой деревне, его пугало молчание мертвецов. Даже посетители ходили по аллеям бесшумными шагами. И только колокол каждый час напоминал своим мрачным голосом, что время идет, но ничего не происходит.
За четыре недели он успел возненавидеть новое место жительства. Могилы, дом, сад, район. Даже могильщиков. Когда их фургон выезжал из ворот, Филипп здоровался издалека, не хотел панибратства с тремя «дегенератами». Безмозглый тип по прозвищу Элвис Пресли. Смешливый придурок, подбирающий всех калечных котов и другую живность, чтобы врачевать и выхаживать их. Растяпа, на каждом шагу получающий увечья, этакий «выпускник дурдома». Хорошая компания, ничего не скажешь.
Филипп всегда опасался любителей животных. Маленькому пушистому комочку позволительно умиляться женщине. Он знал, что Виолетта мечтает о кошках и собаках, но всегда категорически ей отказывал. Даже заставил поверить, что у него аллергия на шерсть, хотя на самом деле просто боялся любого зверья и находил его мерзким. Проблема заключалась в том, что на кладбище было полно кошек, а Виолетта и двое из трех придурков могильщиков кормили их.
Впервые после переезда, в этот день на 15.00 были запланированы похороны. Филипп рано уехал проветриться. Обычно он возвращался к полудню, но сегодня боялся встретиться с опечаленными родственниками, увидеть катафалк, поэтому катался по округе и к обеду оказался в Маконе. Стоя на светофоре, он увидел выходящих из детского сада малышей и в группке девочек узнал Леонину. Те же волосы, та же прическа, походка, движения и – главное! – платье. Розово-красное в белый горошек. В голове промелькнула безумная мысль: Что, если Леонины не было в комнате во время пожара? Что, если ее украли? Людишки вроде Маньян и Фонтанеля на все способны.
Он заглушил мотор и направился к девочке, но, оказавшись совсем близко, сообразил, что дочери было семь лет, когда они виделись последний раз. Сегодня Лео была бы уже коллежанкой. И вряд ли носила бы платье в горошек.
Филипп едва не задохнулся от ненависти. Он живет в этом про́клятом месте из-за них!
В придорожном кафе он заказал стейк с жареной картошкой и, доев, записал на обороте бумажной скатерти:
Эдит Кроквьей
Сван Летелье
Люси Лендон
Женевьева Маньян
Элоиза Пти
Ален Фонтанель
Что он будет делать с этими фамилиями? С людьми, виновными в том, что были тогда в замке и проявили небрежность? Кто зажег фитиль чертова водонагревателя? И зачем? Может, Фонтанель все выдумал? Теперь, когда Женевьева Маньян мертва, легко свалить все на нее. Или сказать, что загорелось случайно, что произошел несчастный случай. В конце концов, он мог промолчать, но выглядел искренним, когда заговорил и уже не мог остановиться. Все так, но нельзя забывать, сколько они оба выпили в загаженной столовой жуткого дома!
Филипп перечитал список фамилий, который составлял слишком часто. Он должен довести дело до конца. Встретиться – наедине! – с остальными участниками событий. Хватит прятать голову в песок!
18 ноября 1997
Люси Лендон пригласила пациентку в приемный покой и в этот момент узнала его. Она помнила лица всех родителей, которых видела в суде, тех, кого называли «гражданские истцы». Отца Леонины Туссен она тогда выделила среди остальных, потому что он был невероятно хорош собой и почему-то пришел на процесс один, в отличие от родителей Анаис, Надеж и Осеан.
Она давала показания. Объяснила, что в ту ночь сумела только поднять тревогу и вывести детей из других комнат, что не слышала, как погибшие девочки ходили на кухню.
Люси Лендон все время мерзла, как будто жила на сквозняке. Тепло одевалась – и все равно дрожала. Ледяная пустыня, где она оказалась после драмы, пожирала ее, как огонь, убивший малышек. У нее на коже образовался нетающий иней. Увидев отца Леонины, она обняла себя за плечи, начала растирать руки, как будто надеялась согреться.
Что он тут делает? Семьи жертв в округе не живут. Ему известно, кто она такая? Это случайная встреча или он явился по ее душу? У него назначена встреча или он хочет поговорить именно с ней?
Он сидел лицом к окну и как будто ждал своей очереди, положив шлем на пол у ног. Туссен. Люси поискала его фамилию в журналах записи трех докторов, работавших этим утром в кабинете, где она секретарствовала. Не нашла. Два часа врачи вызывали пациентов, но фамилия Туссен не прозвучала. В полдень он все еще сидел у окна. Вместе с двумя другими страдальцами, ожидавшими своей очереди. Через полчаса приемная опустела. Люси Лендон вошла и закрыла за собой дверь. Он повернул голову и посмотрел на нее в упор. Блондинка, стройная, хорошенькая. В другой ситуации он бы за ней приударил. Если быть точным – употребил.
– Добрый вечер, мсье, вам назначено?
– Я хочу поговорить с вами.
– Со мной?
– Да.
Она впервые услышала, как звучит его голос, и была разочарована. Тягучий, акцент чуточку деревенский. Речь не соответствовала «оперению». Через две секунды она запаниковала, руки снова задрожали.
– Зачем?
– Фонтанель сказал, что вы попросили Женевьеву Маньян последить вместо вас за детьми тем вечером… Это правда?
Он задал вопрос нейтральным тоном, в голосе не прозвучали ни гнев, ни ненависть, ни страсть. Он не назвался, был уверен, что узнан. Не сомневался, что она поняла значение слов тем вечером.
Врать бессмысленно. Люси осознала, что у нее нет выбора. Фамилия Фонтанель привела ее в ужас. Старый похотливый кобель с мрачным взглядом. Люси никогда не понимала, как его могли нанять для работы с детьми.
– Да, правда. Я попросила Женевьеву подменить меня. Я была со Сваном Летелье, на втором этаже. Заснула. Кто-то постучал в дверь. Я спустилась вниз и увидела… пламя… Мне ужасно жаль, но я ничего не могла сделать, ничего…
Филипп встал и вышел, даже не кивнув Люси. Пока что слова Фонтанеля подтверждаются.
12 декабря 1997
– Кто-нибудь питал к вам неприязнь?
– Неприязнь?
– До пожара кто-нибудь мог держать на вас зло?
– Зло?
– Кто-нибудь хотел отомстить вам так сильно, что испортил оборудование?
– Я не понимаю, мсье Туссен.
– Нагреватели, установленные на первом этаже, были неисправны?
– Неисправны?
Филипп схватил Эдит Кроквьей за воротник. Он поджидал ее на подземной парковке супермаркета «Кора» в Эпинале. Она переехала сюда вместе с мужем, выйдя из тюрьмы.
Женщина подвезла тележку к машине, открыла багажник и начала перекладывать покупки. Когда он подошел, она не сразу его узнала, а когда поняла, кто этот мужчина, решила, что сейчас расстанется с жизнью. Подумала: Ну, вот и все, сейчас я умру. Все это время она ждала, что кто-нибудь из родителей убьет ее, и не поверила, что придется всего лишь отвечать на вопросы.
Филипп выяснил, где она живет, и потратил два дня на наблюдение. Ее повсюду сопровождал муж. Одна тень следовала за другой. Этим утром она впервые села за руль и одна поехала в магазин. Филипп не упустил ее.
– Я никогда не бил женщин, но, если вы не прекратите отвечать вопросом на вопрос, сломаю вам челюсть… Поверьте, мне терять нечего, я потерял самое дорогое.
Он ослабил хватку, и Эдит Кроквьей заметила, как потемнели его голубые глаза, словно зрачки расширились от ярости, заполнив собой всю радужку.
– Итак, вопрос первый. Правда ли, что дети мыли руки холодной водой у себя в палатах, потому что водонагреватели проржавели и сгнили?
Она задумалась – всего на две секунды – и едва слышно произнесла: «Да».
– Следующий вопрос. Персоналу было известно, что к ним нельзя прикасаться?
– Да… Они не функционировали много лет.
– Идем дальше. Ребенок мог включить один из приборов?
Она нервно повела головой слева направо и сказала:
– Нет.
– Почему?
– Они находились в двух метрах от пола и были скрыты за люком безопасности. Риск равнялся нулю.
– Так кто же мог это сделать?
– Что именно?
– Поджечь фитиль одного из водонагревателей.
– Никто. Говорю вам, никто!
– А Маньян?
– Женевьева? Зачем бы она стала это делать? Бедняжка Женевьева… Почему вы все время говорите о нагревателях?
– Вы ладили с Фонтанелем?
– Да. У меня ни с кем не было проблем. Никогда.
– А с кем-то из соседей? С любовником?
Лицо Эдит Кроквьей менялось под градом вопросов Филиппа, она не могла взять в толк, чего он добивается.
– Послушайте, господин Туссен, вплоть до 13 июля 1993 года моя жизнь шла как по нотам.
Филипп терпеть не мог это выражение – его мать часто так говорила. Ему захотелось убить бывшую директрису, хотя он понимал, что женщина уже мертва. Жалкое пальтишко, печальное лицо, грустные глаза. Он пошел прочь. Эдит Кроквьей окликнула его:
– Господин Туссен…
Он нехотя обернулся.
– Что вы пытаетесь выяснить?
Филипп не ответил, сел на мотоцикл и скрепя сердце поехал в сторону Брансьон-ан-Шалона. Он замерз и очень устал. Виолетта ничего не знала о нем три дня. Ему хотелось лечь на чистые простыни. Отдохнуть. Сесть за Nintendo, вернуться к прежним привычкам, ни о чем не думать…
81
Я не знаю, ты во мне, я в тебе или ты мне принадлежишь.
Я думаю, мы оба находимся внутри другого, созданного нами, существа, имя которому – «мы».
Габриэлю Прюдану не нравились фильмы, которые выбирала его жена в видеопрокате на углу их улицы. Он все время засыпал перед телевизором, потому что не любил романтические комедии. Габриэль предпочитал «Приключения есть приключения» Клода Лелуша (диалоги он знал наизусть) или «Обезьяну зимой» Анри Вернея с Бельмондо и Габеном.
Американцы – за исключением Роберта де Ниро – оставляли его равнодушным, но он никогда не противоречил Карине. Ему нравился воскресный вечерний ритуал, когда он дремал на диване, чувствуя плечом тепло тела жены и ее пряный аромат. Засыпая, он переставал слышать английскую речь, звучавшую с экрана, и воображал красавцев актеров с идеальными, волосок к волоску, стрижками, которые встречались со столь же безупречными красавицами, терзали друг друга, расставались и снова встречались на улице, чтобы упасть друг другу в объятия и больше не расставаться. На титрах Карина тихонько будила его, ее глаза были красны от слез – она всегда плакала над мелодраматическими сценами, – и говорила, весело, но и раздраженно: «Ты снова заснул, милый!» Они заходили в комнату дочери, которая росла слишком быстро, умиленно смотрели на нее, потом занимались любовью, а в понедельник он уезжал в суд, чтобы защищать клиентов, клянущихся, что «ничего такого не сделали».
Тем вечером 1997 года Габриэль изменил привычке. Карина вставила кассету в видеомагнитофон, и история захватила его с первых кадров. Он как будто оказался внутри действия. Потрясающие мужчина и женщина не «ломали комедию», они действительно переживали любовь с первого взгляда, а он был единственным привилегированным свидетелем и чувствовал себя как в суде, когда допрашивал свидетелей обвинения или защиты. Карина несколько раз бросала на мужа встревоженный взгляд, удивляясь, что он бодрствует.
На последних минутах, когда героиня, сидящая в машине рядом с мужем, не открыла дверцу, чтобы перейти в другой автомобиль, где ждал ее любовник, и тот включил указатель поворота, чтобы уехать навсегда, Габриэль почувствовал, что эмоциональный заслон, выстроенный им четыре года назад, чтобы забыть Ирен, рушится под натиском бури, циклона, урагана, природной катастрофы. Он вспомнил, как после возвращения из Антиба ждал Ирен в машине. «Вернусь через пять минут, только отдам помощнице ключи от пикапа…» Он прождал несколько часов, сжимая руками руль. Сначала Габриэль представлял, какой будет жизнь рядом с Ирен, мечтал о счастливом будущем. Потом ожидание стало пыткой. Он разжал пальцы, вылез и пошел в розарий. Продавщица сказала, что уже несколько дней не видела Ирен. Он искал ее на улицах, отчаянно надеясь на удачу и отказываясь понимать, что она не вернется, потому что сделала выбор в пользу привычной жизни и ничего не станет менять ради него. Из любви к мужу и сыну. Против собственной воли… Как же часто он слышал это выражение в суде.
Габриэль вернулся в машину, включил фары, и они осветили беспросветную ночь.
Прошло какое-то время, и однажды утром секретарша передала ему, что некая Ирен Файоль просила назначить ей встречу. В первый момент у него мелькнула дурацкая мысль о совпадении, но, увидев знакомый номер телефона – номер розария, который он ни разу не решился набрать, – понял, что это и правда она.
Был Седан, другие города, другие отели. Это продлилось год, потом заболел Поль и родилась Хлоэ. С одной стороны – болезнь, с другой – надежда.
Четыре года он ничего не знал об Ирен. Что с ней сталось? Она по-прежнему живет в Марселе? Сохранила розарий или продала его? Он помнил ее улыбку, запах, кожу, веснушки, тело. Волосы, которые так любил ерошить. С ней все было не так, как с другими. С ней все было лучше.
Габриэля довела до слез сцена фильма, где дети развеивали прах матери с моста. В мире Габриэля мужчины не плачут. Даже в случае вынесения дичайших, неожиданных, невероятных приговоров. Даже оправдательных. Последний раз он плакал в восемь лет, когда упал с велосипеда и ему зашивали рану на голове, не вколов лидокаин. А вот Карина не плакала. В другой, обычный, день она бы насквозь промочила платок, но реакция Габриэля ужасно ее испугала.
Она вспомнила встречу с Ирен в розарии. Ее тонкие руки, цвет волос, светлую кожу, аромат духов. Вспомнила, как протянула ей удостоверение личности Габриэля, чтобы обозначить свое присутствие и – главное – беременность.
Карина узнала о существовании Ирен, когда секретарша из кабинета Габриэля оставила ему сообщение: портье отеля «Ложи» в Лионе хотел вернуть вещи, забытые мсье Прюданом во время его последнего визита. На предыдущей неделе ее муж-адвокат выступал в суде Лиона. Карина позвонила в отель, поговорила с портье, дала свой адрес и два дня спустя получила пакет с двумя белыми шелковыми блузками, шарфом от Hermès и щеткой, на которой осталось немного длинных белокурых волос. Сначала она решила, что произошла ошибка. Но потом вспомнила, как мрачно выглядел Габриэль после возвращения с триумфально выигранного процесса. Она испугалась, но он только отмахнулся и ответил, что просто очень устал.
Следующей ночью Габриэль несколько раз звал во сне какую-то Рен. Утром она спросила: «Кто такая Рен?» Он покраснел.
– Рен?
– Ты всю ночь повторял это имя.
Габриэль рассмеялся – боже, как она любила этот громогласный смех! – и ответил: «Это жена моего подзащитного. Услышала, что мужа оправдали, и грохнулась в обморок». Глупая отговорка! Карина была знакома с делом. Клиента Габриэля звали Седрик Пьоле, его жену – Жанной. Она не подала виду, не продолжила «допрос» – в конце концов, человек может сменить имя или иметь не одно, а два.
Габриэль звал Рен еще много ночей. Карина отнесла это на счет работы, стресса, давления обстоятельств. Ее муж брал на себя слишком много дел.
Когда они встретились, Габриэль был вдовцом, недавно расстался с последней подругой. На прямой вопрос: «У тебя кто-нибудь есть?» – он ответил: «Время от времени».
Она вспомнила тот короткий разговор, взяв в руки блузки, от которых пахло легендарными герленовскими духами L’Heure bleue, и выбросила одежду и щетку в мусоропровод. Эти вещи принадлежали не шлюхе, не случайной любовнице. Все гораздо серьезнее. Габриэль изменился. Достаточно давно. Он возвращается домой, но «отсутствует», его что-то занимает, даже мучит. Карина заметила, что он пьет больше вина за едой, и мягко ему на это указала. Он в ответ процитировал Одиара: «Если мне чего-то не хватает, то не вина, а опьянения». За ложью Габриэля стояла другая женщина. Найти номер телефона в последних счетах оказалось нетрудно. Разговаривал Габриэль всегда в девять утра, не дольше двух минут. Так себя ведут, когда хотят поздороваться, услышать голос. Она набрала номер, попала в розарий и повесила трубку. На следующей неделе ответила та же девушка.
– Розарий, слушаю вас.
– Здравствуйте, мадемуазель. Надеюсь, вы мне поможете. Мои розы недомогают, на краях лепестков появились желтоватые пятна.
– Какого они сорта?
– Не знаю.
– Вы могли бы приехать к нам, захватив несколько черенков?
Через несколько дней Карина позвонила снова.
– Розарий, слушаю вас.
– Это Рен?
– Подождите, пожалуйста, я вас переключу. Как вас представить?
– Это ее знакомая.
– Ирен, это вас!
Карина ошиблась: Габриэль во сне звал не Рен, он взывал к Ирен. Кто-то поднял трубку, и Карина услышала женский голос – низкий, чувственный.
– Я слушаю…
– Ирен?
– Да.
Карина повесила трубку. В этот день она долго плакала. «Время от времени» Габриэля – эта женщина.
Чтобы довести историю до логического завершения, она позвонила четвертый – и последний – раз.
– Розарий…
– Здравствуйте, могу я узнать ваш адрес?
– Марсель 7, квартал де ла Роз, дорога де Мовэ-Па, 69.
Карина вынула кассету, вернула ее в обложку. Габриэль выглядел пристыженным и напоминал сейчас одного из своих клиентов.
Она убрала фильм в сумку, чтобы утром перед работой обменять его в прокате, и сказала:
– Четыре с половиной года назад я видела Ирен. Когда носила Хлоэ.
Габриэль, закаленный в столкновениях с прокурорами, судьями и клиентами, не нашелся, что ответить жене. Так и остался сидеть, разинув рот.
– Я ездила в Марсель. Купила у нее розу и белые пионы. Представилась, когда платила. Те цветы я выбросила в море… Так делают, когда поминают тех, кого забрала стихия.
В тот вечер они не зашли в детскую и не любили друг друга, лежали в кровати, повернувшись спинами. Она не спала. Вспоминала, как Габриэль смотрел фильм и наверняка прокручивал в голове все пережитое с Ирен. Они больше никогда о ней не говорили. Прожили несколько месяцев раздельно. Карина еще долго ругала себя за то, что показала ему «Мосты округа Мэдисон»[94]. Этот фильм потом много раз показывали по телевизору, но она не пересматривала его – в отличие от Габриэля.
Дневник Ирен Файоль
20 апреля 1997
Я год не открывала дневник, но расстаться с ним совсем не могу. Прячу под бельем на полке, как наивная девица. Открываю иногда и читаю, забыв о времени. По большому счету, воспоминания – те же каникулы на частных пляжах. Перешагнув порог определенного возраста, перестаешь вести дневник, а я давно его переступила. Но… Наверное, Габриэль будет вечно возвращать меня к моим пятнадцати годам.
Он потерял много волос. Располнел. Но черные глаза по-прежнему хороши, и глуховатый голос звучит для меня как симфония.
Мы встретились в кафе рядом с розарием. Он позволил мне заказать чай, не пошутив, как обычно: «Это скучный напиток», – и не добавил в чашку кальвадос. Он показался мне успокоившимся. Габриэль – очаровательный человек, но «быстро воспламеняющийся». Специфика работы адвоката, вечно сражающегося в суде с оппонентами, опровергающего чужие аргументы. Как-то вечером в Антибе он сказал, что однажды его добьет несправедливость некоторых приговоров.
Сидя напротив, заказывая одну чашку кофе за другой, он рассказывал мне, как жил, о своей младшей дочке, и о старшей, вышедшей замуж, о разводе и работе. Спрашивал, как Поль и Жюльен, особенно Поль, его рак, его ремиссия. Его очень интересовало, как реагировал Поль, узнав, что спасен.
Габриэль сказал, что понимает, почему я поступила так, как поступила. Похвастался, что бросил курить, что посмотрел потрясший его фильм, что у него мало времени, потому что завтра его ждут в Лилле и придется лететь самолетом, чтобы не опоздать на встречу с коллегами во второй половине дня. Он впервые не попросил меня поехать с ним. Мы пробыли вместе час, и последние десять минут он держал мои пальцы в ладонях, а на прощание закрыл глаза и поцеловал их.
– Хочу, чтобы мы лежали рядом на кладбище. Жизнь не удалась. Так пусть хоть смерть удастся. Ты согласна провести со мной вечность?
Я не задумываясь ответила «да».
– Не сбежишь на этот раз?
– Нет. Но вы получите только мой прах.
– Мне все равно. Я хочу получить нашу вечность на двоих. Наши имена рядом. Габриэль Прюдан и Ирен Файоль будут выглядеть не хуже, чем Жак Превер и Александр Траунер[95]. Ты знала, что поэт и его декоратор похоронены рядом? Гениальная идея – покоиться бок о бок с декоратором! По сути, ты была моим декоратором. Дарила мне прекраснейшие пейзажи.
– Ты собрался умирать, Габриэль? Ты болен?
– Ты впервые сказала мне «ты». Нет, я не умираю. Во всяком случае, не собираюсь. Все дело в фильме. Он перевернул мне душу. Ладно, пора идти. Спасибо, Ирен, и до скорого. Люблю тебя.
– Я тоже вас люблю, Габриэль.
– Ну хоть что-то общее у нас есть…
82
Здесь покоится моя любовь.
Это случилось в январе 1998 года, однажды утром. Я только что узнала их фамилии. Злосчастные фамилии Маньян, Фонтанель, Летелье, Лендон, Кроквьей, Пти. Они хранились в заднем кармане джинсов Филиппа Туссена и почти не читались. Список прошел через стиральную машину, чернила растеклись, как будто кто-то плакал над мятой бумажкой. Я повесила штаны сушиться на батарею в ванной, а когда снимала, увидела выглядывающий уголок обрывка бумажной скатерти, сложенный вчетверо. На нем Филипп еще раз записал фамилии.
– Зачем?
Я села на бортик и несколько раз произнесла это слово: «Зачем?»
Мы жили в Брансьон-ан-Шалоне уже пять месяцев. Филипп Туссен ускользал из дома дважды в день двумя способами: в дождливые дни – с помощью видеоигр, в погожие – верхом на мотоцикле. Короче, вел себя как в Мальгранже. Только отлучки стали длиннее.
Он как зачумленных сторонился посетителей кладбища, похорон, открывания и закрывания ворот. Мертвецов боялся больше, чем поездов. Опечаленные родственники пугали его сильнее профсоюзных деятелей. Он быстро сошелся с местными фанатами мотоциклетных гонок по окрестностям. Полагаю, их долгие прогулки плавно перетекали в сексуальные загулы. В конце 1997-го Филипп отсутствовал четыре дня кряду, вернулся совершенно разбитым, и я, как ни странно, сразу поняла, увидела, почувствовала, что «общался» он не с любовницами.
Приехав, Филипп сказал: «Извини, надо было позвонить, мы заехали дальше, чем собирались, и телефонной кабины на маршруте не оказалось. Деревня есть деревня…» Он впервые оправдывался. Впервые извинялся за то, что не подавал признаков жизни.
Филипп оказался дома в день эксгумации Анри Анжа, погибшего в двадцать два года на поле брани, в 1918 году, в Санси, что в департаменте Л’Эн. На белой стеле читались слова: «Вечно скорбим». Вечность Анри Анжа подошла к концу в январе 1998-го, его останки переместили в оссуарий. Моя первая эксгумация. Мы с могильщиками ничего не могли поделать – пришлось потревожить его покой: могила пришла в полный упадок.
Когда ребята вскрывали гроб, источенный жучком, изъеденный влажностью и временем, я услышала мотоцикл Филиппа Туссена. Я оставила их доделывать работу и пошла к дому. Сработал рефлекс: когда муж возвращается, я его встречаю. Как слуги своего господина.
Филипп медленно снял шлем, и я заметила, что он очень устал и плохо выглядит. Приняв душ, он молча поел, потом отправился отдыхать и проспал до следующего утра. В одиннадцать ночи я легла, и он, не просыпаясь, прижался ко мне.
Филипп уехал после завтрака, но отсутствовал сравнительно недолго – несколько часов. Позже он признался, что был в Эпинале, общался с Эдит Кроквьей.
Я не возвращалась ни в дом Женевьевы Маньян, чтобы расспросить Фонтанеля, ни в ресторан, где работал Сван Летелье. Не пыталась узнать, где живут воспитательницы. Директриса должна была уже выйти на свободу – год она отсидела. Я больше не ездила мимо замка. Не слышала голос Леонины, вопрошающий, почему той ночью все сгорело. Саша не ошибся: новый дом и новая работа постепенно излечивали меня.
Я сразу нашла собственные ориентиры на кладбище и в саду. Мне нравилось общество могильщиков, братьев Луччини и кошек. И те и другие все чаще заглядывали ко мне на кухню угоститься – кто чашечкой кофе, кто блюдечком молока. Если мотоцикл Филиппа Туссена стоял у двери, ведущей на улицу, они занимались своими делами. Отношения с моим мужем поддерживались на уровне «добрый день – добрый вечер». Кладбищенские люди и Филипп Туссен не питали друг к другу интереса. А кошки вообще бежали от него, как от прокаженного.
Только господин мэр, наносивший нам визит раз в месяц, плевать хотел на присутствие/отсутствие Филиппа Туссена. Общался он только со мной. Судя по всему, мэр был доволен «нашей» работой. Первого ноября 1997 года, посетив семейную могилу и увидев посаженные мной сосны, он спросил, не хочу ли я выращивать цветы в горшках и продавать их. Я согласилась.
Первая церемония, на которой я была уже в качестве смотрительницы кладбища, состоялась в сентябре 1997 года. В тот день я начала заносить в журнал речи, описывать присутствующих, цветы, гроб, фразы на лентах и табличках, погоду, выбранные стихи и песни, посетила ли похороны кошка или птица. Я сразу почувствовала, что просто обязана сохранять впечатления последнего мгновения, чтобы ничего не было забыто. Для всех тех, кто не смог присутствовать на церемонии, потому что боль была слишком сильной, или горе терзало душу, или случилась важная командировка. Есть люди, не приемлющие похорон, значит, кто-то должен рассказать, засвидетельствовать, описать все в деталях. Как бы мне хотелось, чтобы кто-нибудь сделал это для моей дочери! Моей девочки. Моей великой любви. Неужели мы расстались навек?
Я сижу на бортике ванны, держу в руке клочок бумажной скатерти с расплывшимися фамилиями и чувствую непреодолимое желание последовать примеру Филиппа Туссена и «проветриться». Уйти из дома хоть на несколько часов. Увидеть другие улицы, другие лица, магазины, торгующие одеждой и книгами. Вернуться к жизни, к водному потоку, ведь я пять месяцев покидала кладбище, только чтобы купить необходимое в центре города.
Я пошла искать Ноно, чтобы он отвез меня в Макон, и сразу договориться о возвращении. Он спросил:
– У тебя есть права?
– Да.
Он протянул мне ключи от казенного пикапа.
– Я имею право сесть за руль?
– Ты – муниципальная служащая, значит, имеешь полное право. Я сегодня утром залил полный бак. Желаю хорошо провести день!
Я направилась в Макон. После езды на «Фиате» Стефани я ни разу не чувствовала себя такой свободной. Я пела: «Нежная Франция, страна моего детства, милый край беззаботности, я сохранила тебя в сердце». Почему я вдруг вспомнила песню воображаемого дядюшки Шарля Трене? Они всегда заменяли мне несуществующие воспоминания…
В десять утра я остановилась в центре города. Магазины уже работали. Для начала я выпила кофе в бистро. Сидела и смотрела, как живые люди входят и выходят, шагают по тротуарам, останавливаются на красный свет. Живые французы не в трауре.
Я пересекла мост Сен-Лоран, погуляла по улицам – шла, куда глаза глядели, спустилась к Соне. В этот день родились два моих гардероба – «зима» и «лето». Я купила на распродаже серое платье и тонкий розовый свитерок.
Проголодавшись, я переместилась в квартал ресторанов, чтобы купить сэндвич. Было холодно, но небо радовало яркой синью, и я пообедала у воды, сидя на лавке, и поделилась остатками с утками. Потом потерялась – вспомнила свою спасительницу, сиамскую кошку, и отвлеклась. Оказалась на незнакомых улицах, удалилась от центра, брела и разглядывала ограды, пустые качели, беседки, прикрытые брезентом от январских холодов.
В этот момент, метрах в ста впереди, я увидела припаркованный мотоцикл Филиппа Туссена. Одно из колес было закреплено дополнительным запорным устройством. Сердце забилось, как у девчонки, которая без разрешения родителей вышла из дома. Захотелось повернуться и сбежать с «места преступления», но что-то меня остановило: нужно было узнать, что он тут делает. Обычно Филипп уезжал в одиннадцать утра, а возвращался не раньше четырех, и я считала, что он успевает забраться достаточно далеко. Иногда он рассказывал, что видел. Ему случалось преодолеть за полдня четыреста километров. Я смотрела на «Хонду» и думала: «Как странно, мотоцикл всегда припаркован у нашего дома, но Филипп никогда не предлагал мне покататься, и второго шлема у него нет, а когда он покупает новый, прежний продает…»
В палисаднике вдруг остервенело залаяла собака, я вздрогнула и тут-то и заметила его – в окне домика, стоявшего на пожелтевшей лужайке, на другой стороне улицы. Я узнала его силуэт, его манеру надевать на ходу кожаную куртку, его лицо фавна, его худобу. Это был Сван Летелье. По рукам побежали мурашки, как будто я их «отсидела». Летелье находился в небольшом, в четыре этажа, бетонном строении пастельных тонов не первой свежести. Древние балконы с трухлявыми перилами и несколько пустых цветочных ящиков знавали лучшие времена.
Сван Летелье появился в холле, толкнул металлическую дверь и пошел по противоположному тротуару. Я следовала за ним до бара на углу и увидела, что внутри его ждет Филипп Туссен. Сван сел за столик, и они повели разговор – спокойно, как старые знакомые.
Филипп Туссен разматывал нить истории. Но какой? Он искал – что-то или кого-то. Отсюда и список – один и тот же, который он записывает на обороте ресторанного счета и бумажной скатерти, словно бы пытается разгадать загадку.
Через стекло витрины я видела только его волосы, совсем как в первый вечер в «Тибурене», когда он сидел у стойки спиной ко мне, а его белокурые локоны становились то зелеными, то красно-синими под светом прожекторов. Волосы Филиппа уже начали седеть, блеск юности потускнел, как и зеркальный шар на потолке танцпола. Много лет я смотрела на мужа в «хмурую» погоду. Девушки, нашептывавшие ему на ухо обещания, исчезли – одновременно с медальным профилем. В его жизни остались пастозные красавицы неопределенного возраста и чужие, случайные постели. Запах, который они оставляли на его коже, изменился: тонкие ароматы сменились дешевым ширпотребом.
Мужчины были одни в полутемном зале бистро. Ничто не предвещало ссоры или скандала, но через пятнадцать минут Филипп вдруг резко поднялся и пошел к выходу, так что я едва успела спрятаться в проулке за баром. Он сел на мотоцикл и умчался.
Сван Летелье спокойно допивал кофе. Я подошла и сразу поняла, что он меня не узнает.
– Чего он хотел?
– Я не понимаю…
– О чем вы говорили с Филиппом Туссеном?
Он понял, кто я такая, и его лицо окаменело.
– Он сказал, что дети отравились газом. Что кто-то поджег фитиль нагревателя. Ваш муж ищет несуществующего виновного. Хотите знать мое мнение? Лучше бы вы оба забыли прошлое и жили дальше.
– Придайте вашему мнению форму ракеты и запустите его куда подальше!
Глаза Летелье едва не выпали на стол от изумления, но он не посмел огрызнуться. Я вышла на улицу, и меня вырвало желчью, как горчайшего пьянчугу.
83
У каждого человека своя звезда.
Для путешественников звезды – указующие знаки, для остальных – всего лишь маленькие огоньки.
– Иногда я жалею, что ругала Леонину, если она капризничала или не слушалась. Жалею, что будила ее, заставляла вставать, чтобы накормить завтраком и повести в школу, когда она хотела еще поспать: «Ну мама, ну еще чуточку!» Жалею, что не знала, как скоро ее не станет… Жалею – но недолго. Предпочитаю вспоминать о хорошем, продолжать жить с тем счастьем, что она мне оставила.
– Почему вы не родили еще детей?
– Потому что осиротела. Перестала быть матерью. Потому что у меня не было достойного отца для моих будущих детей… И потом… детям трудно жить «другими», «теми, кто пришел на смену».
– А сейчас?
– А сейчас я уже старая.
Жюльен хохочет.
– Замолчите!
Я прикрываю рот ладонью. Он ловит мою ладонь и целует пальцы. Мне страшно. Я сейчас так уязвима, что боюсь всего на свете.
Натан и его кузен Валентин спят рядом с нами, на диване. Лежат валетом под сбитыми простынями, одеяла оказались в ногах, черноволосые головы лежат на белоснежных наволочках. Они, как глоток свежего воздуха на природе, как прогулка по тропинке среди зеленого орешника. Коснуться ладонью детских шелковистых волос – все равно что пройтись весной в лесу по прошлогодним листьям.
Жюльен, Натан и Валентин приехали из Оверни вчера вечером. Будто бы на Пардоне Натан замучил отца просьбами: «Давай не поедем в Марсель, поедем к Виолетте, ну давай, папа, ну поедем к Виолетте!» В конце концов Жюльен сдался и повез их на… кладбище. Они добрались около восьми вечера, ворота были уже закрыты. Им пришлось стучать в дверь, ведущую на улицу, но я не услышала. Была в саду, пересаживала остатки салата. Мальчишки подкрались ко мне на цыпочках и закричали: «Мы – зомби!» Элиана залаяла, сбежались кошки – они вспомнили Натана.
Вчера вечером мне хотелось быть одной, я чувствовала усталость, думала лечь пораньше и посмотреть какой-нибудь сериал. Ни с кем не разговаривать – это важнее всего. Я постаралась не показать, что не рада сюрпризу. Потому что была не рада. И хотела бы, но не могла. Все время думала: «Какой же Натан громогласный! А Жюльен слишком молод…»
Комиссар ждал нас на кухне и выглядел смущенным.
– Простите, что свалились вам на голову без предупреждения, но мой сын влюбился в вас… Поужинаете с нами? Я зарезервировал комнату у мадам Бреан.
Как только Жюльен Сёль открыл рот, одиночество упало с меня, как мертвая кожа. В мозгу случилось просветление, словно над головой зажегся фонарь. Так бывает в пасмурный день, когда небо вдруг раскрывается и выпускает на волю солнце, чьи лучи высвечивают окружающий пейзаж. Мне ужасно захотелось удержать всех троих при себе.
К черту ресторан, ужинать будем у меня! К дьяволу мадам Бреан, ночевать останетесь в моем доме!
Я сделала роскошные бутерброды с сыром, сварила ракушки, пожарила глазунью, нарезала помидорный салат. Жюльен помог мне накрыть на стол. На десерт был клубничный сорбет из морозилки. Старая привычка – всегда иметь в холодильнике лакомство, если у тебя ребенок. Привычка столь же неистребимая, как вести малыша за руку.
Я напоила Жюльена белым вином, чтобы он не передумал и остался у меня. Со мной.
Я вымыла посуду и постелила мальчикам на широком диване, где спала, когда навещала Сашу. Они издавали вопли восторга и прыгали на скрипевших от удовольствия старых пружинах.
Перед тем как лечь, они умоляли меня устроить поход по аллеям, чтобы «увидеть призраков». Они читали фамилии на стелах и задавали вопросы, их удивляло, что на одних могилах много цветов, а на других нет вовсе, зато даты жизни утешали: большинство людей умерли очень старыми.
Ужасно разочарованные – даже самое маленькое привидение не показалось! – они потребовали «пугательных» историй, и я рассказала о Диане де Виньрон и Рен Дюша, которых будто бы видят в окрестностях кладбища, на обочине дороги и на улицах Брансьон-ан-Шалона. Мальчики напугались, и я успокоила их, признавшись, что сама никогда «дам в белом» не встречала и считаю это легендой.
Жюльен ждал нас в саду, сидел на скамейке, курил и гладил Элиану, думая о чем-то своем. Он улыбнулся, когда дети пожаловались, что не увидели призрака, а ведь другие встречали его – правда, правда, папа! – и на кладбище, и за оградой. Натан и Валентин уговаривали меня показать им открытки с изображением Дианы в образе привидения, но я сказала, что они потерялись.
Мы вернулись в дом, мальчики три раза проверили двери и убедились, что все заперто на два оборота. Я оставила им свет в коридоре, ведущем в мою комнату, но они увидели кукол мадам Пинто и потребовали персональные фонарики.
Мы с Жюльеном поднялись на второй этаж, постаравшись не опрокинуть ни одну коробку. Он дышал мне в затылок и шептал:
– Поторопитесь.
Не успели мы закрыть дверь, как Натан и Валентин ворвались в мою спальню и плюхнулись на кровать. Нам осталось только лечь и гладить их по головам, встречаясь пальцами в шелковых шевелюрах.
Дождавшись, когда мальчики уснут, мы спустились на первый этаж и занялись любовью на диване. В четыре утра маленькие дикари влезли к нам под простыни и тут же засопели, а я лежала и прислушивалась к их дыханию, как к сонатам Шопена, которые всегда слушал Саша.
В шесть утра Жюльен потянул меня за руку, отвел в спальню, и мы предались любви. Я не думала, что такое когда-нибудь снова со мной случится. Разве что с незнакомцем. Посетителем кладбища. Вдовцом. Отчаявшимся. Чтобы убить время.
Мы шептались, уткнувшись носами в пиалы с кофе. От моих рук пахло корицей и табаком, волосы взлохматились, губы потрескались. Мне страшно. Как только Жюльен уедет – а он обязательно уедет, – ко мне вернется одиночество, вечное и бессмертное.
– А у вас почему нет детей, кроме Натана?
– Аналогичный случай – не нашел подходящую мамочку.
– Куда делась мать Натана?
– Полюбила другого. Ушла от меня.
– Это тяжело.
– Очень.
– Вы все еще ее любите?
– Вряд ли.
Он встает, целует меня. Я задерживаю дыхание. До чего же приятно, когда тебя целуют в хорошие дни! Я чувствую себя неловкой, неумелой. Я все забыла. Можно научиться спасать жизни, но реанимировать чувственность гораздо труднее.
– Мы уедем, как только мальчики проснутся.
– …
– Видели бы вы свое лицо вчера вечером, когда мы появились… Я ужасно расстроился… Если бы не Натан, я бы сразу смылся.
– Я отвыкла…
– Я не вернусь, Виолетта.
– …
– Не имею никакого желания приезжать раз в месяц на кладбище, чтобы покувыркаться с вами.
– …
– Вы живете с мертвецами, романами, свечами и несколькими каплями портвейна в придачу. Вы были правы, здесь нет места для мужчины. Тем более для мужчины с ребенком.
– …
– Я вижу по вашим глазам, что вы не верите в нашу историю.
– …
– Не молчите, прошу вас! Скажите хоть что-нибудь.
– Вы правы. Во всем.
– Сам знаю. Нет, ничего я не знаю! Это вы у нас всезнайка. Подавайте иногда признаки жизни. Но не слишком часто, иначе я буду ждать и надеяться.
84
Мы оказались на краю пустоты, потому что повсюду ищем лицо, которое потеряли.
Дневник Ирен Файоль
13 февраля 1999
Я понятия не имею, как Габриэль узнал о смерти Поля. Я заметила его на кладбище Сен-Пьер. Он стоял в отдалении, прятался за чьей-то могилой, как вор.
Хоронили моего мужа, а я смотрела только на Габриэля. Кто я? Что за чудовище?
Я опустила глаза, чтобы произнести безмолвную молитву, а когда подняла их, Габриэль исчез. Я отчаянно – и безрезультатно – искала его взглядом по всем закоулкам кладбища.
Я заплакала – по-вдовьи.
Когда женщина теряет мужа, ее называют вдовой. А как ее называют, если она теряет любовника? Песня?
8 ноября 2000
Я продаю розарий.
30 марта 2001
Сегодня утром позвонил Габриэль. Он звонит раз в месяц. И каждый раз удивляется, слыша мой голос. Задает несколько вопросов: «Как ты? Что делаешь? Что на тебе надето? Волосы собраны в хвостик? Что сейчас читаешь? Ходила недавно в кино?» Как будто хочет убедиться, что я все еще существую.
27 апреля 2001
Габриэль приехал пообедать. Ему понравилась моя новая квартира. «Похожа на тебя…» – так он сказал.
– Комнаты очень светлые и хорошо пахнут. Как ты.
Его насмешило, что я поселилась на улице Паради[96].
– Чего веселишься?
– Ты – мой персональный рай.
– Время от времени.
– Ты когда-нибудь видела кривые на электрокардиограмме?
– Да.
– Кривые моего сердца – это ты.
– Говорун!
– Надеюсь. Мне за это платят огромные деньги.
Он сказал, что я не умею готовить, что мне лучше удается выращивать цветы, чем жарить мясо на сковородке.
Он спросил:
– Не скучаешь по работе?
– Нет. Почти нет. Разве что по цветам.
Он спросил:
– Можно покурить на кухне?
– Конечно. Вы снова курите?
– Да. Это как с тобой – не могу остановиться.
Он, как обычно, рассказал о делах, которые ведет, о старшей дочери – «Почти ничего о ней не знаю…» – и о младшей, Хлоэ. «Мне ужасно не хватает малышки, скорее всего, я снова сойдусь с ее матерью…»
– Да, придется вернуться к Карине, хотя повторение – не мой метод.
Он поинтересовался новостями Жюльена.
Перед уходом поцеловал меня в губы. Словно мы были подростками. Какого рода слово «любовь»?
22 октября 2002
Сегодня день Габриэля.
Теперь, приезжая в Марсель, он каждый раз обедает у меня. Заказывает два блюда дня у поставщика снизу (моя стряпня омерзительна: «Мало масла, мало сметаны, мало соуса, ты все варишь в воде, а я предпочитаю, чтобы мои овощи томились в вине!»)
Он звонит в дверь, держа в руках два алюминиевых корытца с едой. Он всегда доедает за мной. Обычно я мало ем. А когда на кухне Габриэль, ем меньше, чем мало.
Он снова живет с Кариной, чтобы быть рядом с Хлоэ. Так он говорит. Я отвечаю: «Так вы говорите…» Он отвечает: «Не ревнуй. У тебя нет причин. Ни к кому».
– Я и не ревную.
– Совсем чуть-чуть. Я вот ревную. У тебя кто-нибудь есть?
– Кто у меня может быть?
– Ну не знаю… любовник, мужчина, мужчины, ты ведь красавица. Я не знаю – когда ты куда-нибудь входишь, все на тебя смотрят. Все тебя хотят. Повсюду.
– А я вижу вас.
– Но мы не спим вместе.
– Хотите доесть?
– Да.
5 апреля 2003
Сегодня день Габриэля. Он позвонил вчера вечером, сказал, что будет во второй половине дня, после суда. Нужно купить «Сюз», Габриэль обожает этот аперитив.
Бывают дни без. И дни без Габриэля.
25 ноября 2003
Вчера вечером Габриэль пришел поздно. Съел остатки супа, йогурт и яблоко. Выпил стакан «Сюз» – хотел сделать мне приятное, показать, что оценил заботу.
– Разбуди меня завтра утром в семь, если я вдруг засну.
Он сказал это так, как будто у него было в заводе ночевать у меня, хотя это никогда не случалось, и через двадцать минут отключился на диване. Я накрыла его пледом, а сама не сомкнула глаз. Потому что он был в соседней комнате. Мужчина рядом. Я всю ночь думала: Габриэль – мой «мужчина рядом». Я вспомнила эпизод из фильма «Соседка» Франсуа Трюффо, когда Фанни Ардан выходит из больницы и говорит своему мужу, думая при этом о любовнике, которого собирается убить: «Хорошо, что ты догадался принести мне белую блузку. Я ее обожаю (*нюхает кофточку), потому что она белая».
Сегодня утром я нашла Габриэля лежащим на животе, обувь он снял. В гостиной было накурено – он вставал ночью, чтобы покурить. Хорошо, хоть окно приоткрыл.
Габриэль принял душ, выпил кофе. Пил и повторял между глотками: «Ты прекрасна, Ирен». Уходя, он, как обычно, поцеловал меня в губы. Когда он появляется, нюхает мою шею. Делает глубокий вдох. А на прощание целует в губы.
22 июля 2004
Я решила переспать с Габриэлем. В нашем возрасте полезно заниматься любовью. Кроме того, меня не вечно будут хотеть. Как только я открыла ему дверь, Габриэль понял, увидел, прочел, почувствовал, что я его хочу. И сказал:
– Ой-ей, начинаются осложнения.
– Не в первый раз.
– Нет, не в первый.
Я не оставила ему времени закончить фразу.
85
Не плачьте у моего гроба, меня там нет, я не сплю.
Я – тысяча дующих ветров.
Мой список для Ноно готов. В этом году, как и в предыдущие, он будет меня заменять, поливать цветы на могилах вместо семей, уехавших в отпуск. Элвис займется Элианой и кошками. Отцу Седрику я поручаю огород и садовые цветы. Доверяю ему карточку, написанную Сашиной рукой, – он составлял по одной на каждый месяц.
АВГУСТ
Приоритет месяца: полив.
Нужно поливать вечером, тогда свежесть сохранится на всю ночь, но не слишком рано, иначе земля не успеет остыть и вода сразу испарится. Поливать слишком рано – все равно что пи́сать в скрипку.
Нужно поливать с наступлением темноты, лейкой – брать воду из колодца или отстоенную дождевую. Лейка нежнее шланга, если поливаешь из шланга, уминаешь землю и она перестает дышать. Земля должна дышать. Вот почему время от времени ты очень осторожно взрыхляешь землю под деревьями, чтобы проветрить ее.
Собирать зрелые фрукты.
Помидоры могут подождать несколько дней.
Баклажаны собирай каждые три дня, иначе они перерастают и делаются жесткими.
Фасоль собирай каждый день. И сразу употребляй. Или консервируй. Можешь срезать хвостики с плодоножками и заморозить. Или раздать соседям.
То же касается всего остального: не забывай, мы выращиваем, чтобы делиться, иначе это лишено смысла.
Отец Седрик будет заботиться об огороде не один. Когда ликвидировали «джунгли» в Кале, суданские семьи нашли приют в замке Шардоне. Наш кюре ездит туда три раза в неделю и помогает добровольцам. Молодая пара, Камаль и Анита – обоим по восемнадцать лет, – ждут ребенка. Префектура разрешила отцу Седрику приютить их в своем доме. Он будет покровительствовать им как можно дольше после рождения ребенка, чтобы они вернулись к учебе, получили дипломы и постоянный вид на жительство. Ситуация деликатная, все очень шатко, кюре говорит, что «живет на пороховой бочке, но радуется этой хрупкости». Я знаю, что он будет счастлив разделить жизнь семьи, которую «удочерил». Сколько бы это ни продлилось – месяц или десять лет.
– Все эфемерно, Виолетта. Мы недолговечны, непреходяща лишь любовь Господа.
С тех пор как Камаль и Анита поселились в доме священника, они каждый день бывают у меня на кухне и, в отличие от других, остаются надолго. Анита обожает Элиану, Камаль – мой огород. Он часами изучает Сашины карточки и мои каталоги от Willem&Jardins и помогает мне. Камаль очень способный юноша. Когда я впервые сказала, что у него «зеленая рука», он не понял, был сбит с толку: «Но, Виолетта, я же черный!»
Я поделилась с Анитой методом Боше, дала ей «День малышей». Она читает мне вслух и, когда ошибается, спотыкается на слове, я повторяю, не заглядывая в книжку, потому что знаю ее наизусть.
Открыв книгу в первый раз, Анита спросила: «Чья она, вашего ребенка?» Я ответила вопросом на вопрос: «Можно потрогать твой живот?» – «Ну конечно…» – ответила она. Я положила обе ладони на ее хлопковое платье, и Анита засмеялась – ей стало щекотно. Ребенок пнул меня ножкой, и девушка сказала: «Он тоже смеется!» И мы смеялись втроем на моей кухне.
Если нужно будет организовать похороны, меня заменит Пьер Луччини. Следовало поручить что-нибудь и Гастону, и я попросила его брать мою почту и складывать ее на этажерке рядом с телефоном. Я почти уверена, что у него не получится вскрывать их.
Я лежу на кровати и смотрю на открытый чемодан, стоящий на комоде. Доскладываюсь завтра. Я всегда набираю лишние вещи, когда еду в Марсель, а в бухте мало что надеваю. Хожу в одном и том же.
Впервые я увидела чемодан в 1998-м. Филипп Туссен ушел навсегда, но я этого еще не знала. Четырьмя днями раньше он чмокнул меня, бросил: «До скорого…» Филипп собирался расспросить Элоизу Пти, вторую воспитательницу, последнюю неопрошенную. Он пообещал: «Потом я остановлюсь. Потом мы изменим нашу жизнь. Мне до ужаса надоели могилы. Поедем на Юг».
Он сделал это один.
В тот день планы Филиппа Туссена изменились. Он поехал не к Элоизе Пти, а в Брон, к Франсуазе Пелетье.
Я уже четыре дня была одна. Сидела на корточках в огороде, носом в листья настурций, висевшие на бамбуковых подпорках. Кошки почуяли, что Филиппа Туссена в доме нет, и прибежали в сад поиграть в прятки. Одна из них опрокинула таз с водой, остальные изобразили испуг и запрыгнули в него, как блохи. Я расхохоталась и вдруг услышала от двери дома знакомый голос: «Приятно слышать, как ты веселишься сама с собой…»
Я решила, что это галлюцинация. Что ветер в деревьях сыграл со мной злую шутку, подняла глаза и увидела чемодан на столе в беседке. Он был синий, как вода в Средиземном море в солнечный день. На пороге стоял Саша. Я подошла и осторожно погладила его по лицу, потому что все еще не верила. Я думала, он обо мне забыл. Сказала: «Я боялась, что вы меня бросили!»
– Никогда! Слышишь, Виолетта? Я никогда тебя не оставлю.
Саша рассказал, как прошли его первые месяцы на пенсии. Он отправился к Сани, почти брату, живущему на юге Индии. Потом в Шартр, Безансон, на Сицилию и в Тулузу, посещал дворцы, церкви, монастыри, ходил по улицам, осматривал другие кладбища. Купался в озерах, реках и морях. Лечил разбитые спины, вывихнутые лодыжки и поверхностные ожоги. Возвращался в Марсель, где посадил для Селии ароматные травы в балконные ящики. Захотел обнять меня до того, как отправиться в Валанс – поклониться могилам Верены, Эмиля и Нинон. После этого паломничества он снова уедет в Индию, к Сани.
Саша решил остановиться у мадам Бреан на два-три дня, чтобы повидаться с мэром, Ноно, Элвисом, кошками и всеми остальными.
Синий чемодан предназначался мне – в нем лежали подарки: чаи, ладан, шарфы, ткани, украшения, разные сорта меда, оливковое масло, марсельское мыло, свечи, амулеты, книги, Бах – пластинки на 33 оборота, семена подсолнечника. Саша покупал сувениры повсюду, где бывал.
– Я привез тебе отпечаток путешествия.
– И чемодан?
– Конечно, ведь однажды ты тоже уедешь.
Саша обошел сад со слезами на глазах. Сказал: «Ученица превзошла учителя… Я знал, что у тебя получится».
Мы пообедали. Каждый раз, когда вдалеке раздавался шум мотора, я думала, что это может быть Филипп Туссен. И, слава богу, ошибалась.
Девятнадцать лет спустя я ловлю себя на том, что жду другого человека. Утром, открывая ворота кладбища, я ищу его машину на стоянке. Иногда, шагая по аллеям, слышу за спиной шаги и оборачиваюсь с мыслью: Он здесь, он вернулся.
Вчера вечером мне показалось, что стучат в дверь со стороны улицы, я спустилась и… поняла, что ошиблась.
В последнюю нашу встречу он сказал: «Увидимся на днях…» Я его не остановила, не задержала, только пожелала «удачного возвращения домой». Иными словами – «ну и ладно…» Когда Натан и Валентин помахали мне с заднего сиденья, я поняла, что больше их не увижу.
С того утра Жюльен только раз дал о себе знать. Прислал открытку из Барселоны, сообщил, что они с Натаном проведут там два месяца, а бывшая жена будет время от времени навещать их.
Встреча Ирен и Габриэля могла бы сослужить службу Жюльену и матери Натана. Я была мостом, переходом. Жюльен должен был пройти через меня, чтобы понять, что не может потерять мать своего ребенка. Благодаря Жюльену я узнала, что все еще могу заниматься любовью. Могу быть желанной. А это немало.
86
Мы пришли сюда в поисках чего-то или кого-то.
В поисках любви, которая сильнее смерти.
Январь 1998
В тот день, когда Виолетта увидела его в Маконе со Сваном Летелье, Филипп затылком почувствовал взгляд. Знакомое присутствие. Но не обратил внимания. Вернее, обратил, но не обернулся. Он смотрел на Свана Летелье. На его крысиное личико. Это сравнение впервые пришло ему в голову на суде. Маленькие, глубоко посаженные глазки, грубые черты, тонкогубый рот.
По телефону Летелье сказал: «Приходи к двенадцати в бар на углу, там нам никто не помешает».
Филипп задавал вопросы ледяным тоном, с угрожающей интонацией: «И не смей врать, мне терять нечего…» Он несколько раз повторил главный вопрос: Кто мог зажечь старый поломанный газовый водонагреватель?
Летелье, судя по всему, действительно не знал, что произошло той ночью. Он стал белым как полотно, услышав в пересказе Филиппа признание Алена Фонтанеля: Женевьева Маньян ушла к заболевшему сыну, вернулась в замок, запаниковала, обнаружив, что четыре девочки задохнулись, отравившись газом, и они решили устроить поджог, изобразить бытовой несчастный случай, Фонтанель колотил ногой в дверь Летелье, чтобы разбудить его и весь остальной персонал.
Сван не поверил. Сказал, что Фонтанель – алкоголик, придурок, вот и наговорил бог знает что, пытаясь объяснить необъяснимое.
Да, в дверь вроде бы стучали, но он тяжело просыпался, потому что они с воспитательницей накурились. Запах, дым, огонь. Невозможность войти в комнату № 1 – пламя слишком высокое. Ад на земле. В такие моменты говоришь себе, что это обычный кошмар и все, что происходит нереально. Летелье помнил, как девочки – в ночных рубашках, босые, или в носках, или в незашнурованных кроссовках – стояли на улице, а весь персонал словно бы с ума сошел. Старуха Кроквьей задыхалась, остальные тряслись, что-то бормотали. Ждали пожарных. Считали и пересчитывали по головам живых и невредимых детей с заспанными глазами. Никто из взрослых никогда больше не будет спать крепко. Детишки, напуганные пожаром и бледностью взрослых, требовали пап и мам. Родителям звонили, предупреждали, пришлось врать, умолчать о том, что четыре девочки погибли.
Сван Летелье сказал Филиппу, что до сих пор винит себя, думает, что ничего бы не случилось, останься воспитательница на своем посту.
Они с Люси Лендон ничего не сказали властям о Женевьеве Маньян, потому что чувствовали себя виноватыми. Люси не должна была просить Женевьеву Маньян подменить ее, но Сван настаивал, и она это сделала. Короче, обязанностями пренебрегли все.
Кроквьей экономила каждый сантим и годами не меняла линолеум, не обновляла асбест и стекловату, не делала не то что капитального – даже косметического ремонта. Огонь распространился мгновенно, потому что в кухонных помещениях все обветшало и держалось на честном слове. Причастны были все: Маньян, Лендон, Фонтанель и он, Сван Летелье, и нести груз вины было очень тяжело… Единственное, в чем Сван не сомневался, – никто сознательно не запустил бы нагреватели на первом этаже. Все знали, что трогать их нельзя. Это старое оборудование было скрыто за люками безопасности из гипсокартона и недоступно для детишек. Сван хорошо помнил, что сказала Эдит Кроквьей накануне приезда отдыхающих, которые должны были сменять друг друга в течение двух месяцев: «Сейчас разгар лета, наши пансионеры смогут умываться холодной водой, а душ будут принимать в общих душевых, там оборудование совсем новое». Сван помнил это, потому что отвечал за готовку и стоял на раздаче. Он ведал аппаратом для приготовления картофеля фри и столовой, а к ванным комнатам – благодарение Богу! – отношения не имел.
Сван Летелье замолчал. Сделал несколько глотков кофе, размышляя над тем, что узнал от Филиппа. Насколько правдоподобна его версия? Неужели Фонтанель поджег кухню? Дети надышались газом? Он махнул гарсону, чтобы тот принес ему еще чашку эспрессо. Филипп понял, что повар – свой человек и завсегдатай этого заведения, здесь все говорили ему «ты».
Узнав о самоубийстве Женевьевы Маньян, Летелье не удивился. После той ночи она превратилась в тень и на суде выглядела ужасно. В последний раз они разговаривали после того, как та женщина подкараулила его у выхода из ресторана, где он работал. Сван позвонил Женевьеве, потому что запаниковал и решил, что обязан предупредить ее.
– Какая женщина? – спросил Филипп Туссен.
– Ваша жена.
– Вы ее с кем-то спутали.
– Это вряд ли. Она сказала: «Я – мать Леонины Туссен».
– Как она выглядела?
– Было темно… Я плохо помню. Она сидела в сквере на скамейке. Вы не знали?
– Когда?
– Года два назад.
Филипп решил, что услышал все, что хотел, а отвечать на чужие вопросы не собирался. Он встал, буркнул: «Пока…» – и ушел. Сван Летелье смотрел ему вслед, ничего не понимая. Филипп обернулся, и ему показалось, что он увидел на тротуаре Виолетту. Я схожу с ума.
Он вернулся в Брансьон.
Впервые на его памяти дом оказался пуст. Впервые он обошел все аллеи, но Виолетту не нашел.
Кто такая Виолетта? Чем она занимается, когда он уезжает на целый день? С кем видится? Чего добивается?
Виолетта вернулась через два часа после него. Она была очень бледна. Присутствие Филиппа на кухне удивило ее так, как если бы он был незнакомцем. Потом она встряхнулась, протянула ему клочок бумаги и спросила:
– Леонина задохнулась?
Филипп узнал свой почерк. Фамилии, написанные на обороте скатерти, почти не читались.
Вопрос Виолетты подействовал как удар тока. Он думал, что бы такое соврать, бормотал, путался в словах, словно жена застала его в объятиях одной из многочисленных любовниц.
– Не знаю, может быть, я ищу… Не уверен, что хочу знать, я как-то растерялся…
Она подошла, невыразимо нежно погладила его по щеке и молча поднялась в спальню. Не накрыла на стол, не приготовила обед. А когда он лег рядом, взяла его за руку и задала тот же вопрос: «Леонина задохнулась?» Он понял, что, если промолчит, она будет повторять его до бесконечности. И Филипп все рассказал. Умолчал лишь о связи с Женевьевой Маньян. Он передал жене содержание всех бесед – с Аленом Фонтанелем, не скрыв, что в первую встречу, в больничном кафетерии, избил его до полусмерти, с Люси Лендон – в приемной врача, с Эдит Кроквьей – в Эпинале, на подземной парковке супермаркета, и со Сваном Летелье – сегодня, в маконском бистро.
Виолетта слушала молча, не отнимая руки. Филипп проговорил несколько часов, не видя ее лица в полумраке комнаты. Он чувствовал напряженное внимание жены, она не шевелилась, не задала ни одного вопроса. Филипп не выдержал и спросил сам:
– Ты правда встречалась с Летелье?
Она ответила сразу, без раздумий:
– Да. Раньше я хотела знать.
– А теперь?
– Теперь у меня есть сад.
– С кем ты еще виделась?
– С Женевьевой Маньян. Один раз. Но ты уже знаешь.
– А еще?
– Ни с кем. Только с ней и Сваном Летелье.
– Клянешься?
– Да.
87
Ни сожаления.
Ни раскаяния.
Жизнь, прожитая на полную катушку.
Еще и сегодня, смотря по телевизору «Фанни», «Мариуса» или «Сезара», я плачу на первых же репликах, хотя знаю их наизусть. Обожаю лица Ремю, Пьера Френе и Оран Демазис в этих черно-белых лентах. Люблю каждый жест, каждый взгляд. Отец, сын, молодая женщина и любовь. Я бы очень хотела иметь такого отца, как Сезар, и такую же первую любовь, как у Фанни и Мариуса.
Я увидела первую часть трилогии в десять лет, когда жила в очередной приемной семье. Я была одна, другие дети уехали на летние каникулы или к родителям. В школу на следующий день идти было не нужно. Взрослые устроили в саду барбекю, позвали друзей. Мне позволили выйти из-за стола, я пошла в дом и увидела, что в столовой работает телевизор. Тогда-то я и открыла для себя «Мариуса». Фильм шел уже полчаса. Фанни лила слезы на кухонную клетчатую скатерть, сидя напротив матери, которая резала хлеб. Я услышала первую реплику: «Ну же, дурочка, ешь суп и перестань плакать, он и без того соленый».
Меня сразу заворожили лица и диалоги, юмор и нежность. Невозможно было оторваться от экрана. В тот вечер я посмотрела все три части и легла очень поздно.
Мне все еще нравится универсальная и абсолютная простота их чувств, слова, которые они произносят, – такие красивые и точные, музыка их голосов.
Я влюбилась в Марсель и марсельцев заочно. Это чувство напоминало изначальную мечту. Красоту в чистом виде я ощущаю всякий раз, возвращаясь в Сормиу, на узкой извилистой дороге, ведущей к синему великолепию. Я понимаю Марселя Паньоля[97] и героев его трилогии, увидевших свет среди скал, рядом с прозрачными бирюзовыми водами, играющими в прятки с девственным небом и приморскими соснами, которые Природа насадила тут и там, как истинный художник. В этом пейзаже напрочь отсутствует жеманство, он прост и величествен. Бесспорен. Потому-то Мариус так любит море, а господин Панис, как говорит Сезар, «ходит под парусом, чтобы ветер забирал чужих детей».
Я открываю красные ставни в домике Селии, смотрю на старый кухонный шкаф, стол и желтые стулья из неструганого дерева, коврик под раковиной, букетики сухой лаванды, кафельный пол, где многие плитки заменяли, не считаясь с «правильным» цветом, небесно-голубые панели на стенах и думаю… о Сезаре. Он запрещает Мариусу и Фанни целоваться, потому что она замужем за другим мужчиной, говорит: «Нет-нет, дети, не делайте этого, Панис – хороший человек, не выставляйте его на посмешище перед семейной мебелью».
Пляжный домик – хижину, как я его называю, – построил в 1919 году дед Селии по матери. Перед смертью он взял с нее слово никогда с ним не расставаться. Потому что он сто́ит всех дворцов мира!
Я приезжаю сюда двадцать четыре года. Каждое лето накануне встречи Селия заполняет холодильник и стелит чистое белье. Она покупает кофе и фильтры, лимоны, помидоры и персики, овечий сыр, жидкость для мытья посуды и «Кассис». Напрасно я умоляю ее не делать этого, говорю, что могу сама сходить в магазин, пытаюсь всучить ей деньги – она ничего не желает слышать и только повторяет: «Ты ничего обо мне не знала, когда приютила в своем доме!» Один раз я сделала попытку тайно оставить конверт с деньгами в ящике комода – и неделю спустя получила их назад по почте.
Распахнув окна и разложив вещи, я спускаюсь в бухту – пообщаться с местными рыбаками. Они рассказывают мне о море, жалуются, что рыбы становится все меньше, а местные забывают особый – сочный – южный говор. Они дарят мне морских ежей, каракатиц и засахаренные десерты, приготовленные их женами или матерями.
Селия встречала меня на перроне. Поезд опоздал на час, и от нее сильно пахло кофе. Мы не виделись год и обнялись, как самые близкие люди.
Она спросила:
– Ну, что нового, родная?
– Филипп Туссен умер. Потом ко мне приезжала Франсуаза Пелетье.
– Кто?
88
Я улыбаюсь там, где сейчас нахожусь, ибо моя жизнь была прекрасна и – главное – я любил.
Филипп Туссен не вернулся, а Саша остался у мадам Бреан.
В тот день, когда был открыт синий чемодан с подарками, я сказала Саше – еще не зная, что мужчина, с которым я делила жизнь, ни дня не разделяя ее, – был по сути своей гораздо лучше, чем казался.
Еще не зная, я сказала Саше, что тот, кто казался мне законченным эгоистом, кого я не слушала, в чью сторону больше не смотрела, тот, кто покинул меня, погрузил в бескрайнее одиночество, выглядел совсем другим человеком в тот день, когда я увидела его в маконском бистро со Сваном Летелье.
Еще не зная, я сказала Саше, что в тот вечер, вернувшись из Макона, Филипп Туссен признался, что пытается выяснить, как все случилось на самом деле. Что он допросил персонал замка и некоторых принуждал говорить. Что на суде внимательно слушал показания – и не поверил ни одному человеку. Что пока не нашел только Элоизу Пти.
Муж описывал встречу с Аленом Фонтанелем и остальными, и я держалась за его руку, потому что боялась упасть, хотя мы лежали на кровати. Я воображала слова и лица тех, кто последним видел мою дочь живой. Тех, кто не сумел позаботиться о Лео и ее улыбке. Тех, кто проявил небрежность.
Маленькие девочки остались одни, потому что воспитательница и повар курили травку и тешили плоть. Женевьева Маньян ушла к сестре, оставив подопечных без присмотра. Директриса – из тех, кто «заметает пыль под ковер», – умела одно: получать от родителей чеки.
Чтобы не развалиться на части, я сконцентрировалась на новом стиральном порошке с запахом ветра-пассата, которым накануне постирала простыни. Чтобы не скулить в супружеской постели, я все время представляла себе бочонок порошка, украшенный узором из розовых и белых цветов таитянской гардении. Они навели меня на воспоминание о платьицах Леонины, которые были похожи на волшебные ковры-самолеты. Я всю ночь вдыхала запах чистых простыней и слушала Филиппа Туссена. Он говорил со мной – по-настоящему – впервые в жизни.
Я снова погладила его по лицу, и мы занялись любовью – как в молодости, когда его родители сваливались нам на голову без предупреждения и заставали голыми в койке. А потом узнала. Узнала, что он спал с Женевьевой Маньян, когда мы жили в Мальгранж-сюр-Нанси, но уже успела впервые поверить мужу.
Филипп Туссен не вернулся, а Саша остался у мадам Бреан.
В 1998-м, выждав месяц, я отправилась в жандармерию, чтобы заявить об исчезновении мужа. Сделать это мне посоветовал господин мэр. Если бы не он, я бы и пальцем не пошевелила. Бригадир посмотрел на меня с искренним недоумением – зачем было так долго ждать, а потом все-таки заявить?
– Он часто уезжал.
Жандарм повел меня в соседний кабинет, чтобы заполнить формуляр, и предложил кофе, от которого я не решилась отказаться.
Я дала описание Филиппа. Офицер попросил принести его фотографию, но мы не снимались с момента переезда на кладбище. Последним по времени был снимок, сделанный в Мальгранж-сюр-Нанси. Тот, где он обнимает меня за талию и улыбается в объектив.
Бригадир спросил, какой марки был мотоцикл Филиппа, как он был одет, когда я видела его в последний раз.
– Джинсы, черные кожаные сапоги, черный бомбер, красная водолазка.
– Особые приметы? Татуировка? Родимое пятно? Родинки?
– Нет.
– Он взял с собой какие-то вещи, важные бумаги, документы, что позволяло бы предположить намерение отсутствовать продолжительное время?
– Его видеоигры и фотографии нашей дочери остались дома.
– Поведение или привычки вашего мужа изменились за последние недели?
– Нет.
Я не рассказала офицеру, что в тот последний раз Филипп Туссен собирался в Валанс, к Элоизе Пти. Он вышел на ее след – узнал, что она работает билетершей в кинотеатре, и связался с ней из дома. Она назначила встречу на четверг через неделю, в 14.00, у входа.
В тот день Элоиза Пти позвонила во второй половине дня. Я сняла трубку, подумав, что это из мэрии, из отдела регистрации смертей, хотят что-то выяснить о состоявшихся или планируемых похоронах, узнать фамилию, имя, дату рождения, номер аллеи.
Элоиза Пти представилась дрожащим голосом, и я не сразу разобрала, что она говорит, а когда поняла, в чем дело, у меня пересохло во рту и вспотели ладони.
– Что-то случилось?
– Я жду господина Туссена больше двух часов, но его все нет и нет!
Любой другой человек на моем месте обзвонил бы все больницы от Макона до Валанса, любой задал бы Элоизе Пти вопрос: «Где ты была, когда сгорела палата № 1? Дрыхла по соседству?» Но я просто сказала, что понимать тут нечего. Филипп Туссен всегда был и останется непредсказуемым человеком.
Бывшая воспитательница долго молчала, потом повесила трубку.
Я не сказала бригадиру, что через семь дней после гибели Филиппа Туссена, через семь дней после его несостоявшейся встречи с Элоизой Пти, на детскую могилу, в которой лежало то, что осталось от моей дочери, пришла молодая женщина. Она выглядела сильно потрясенной и, как многие другие посетители, захотела купить цветов и выпить чего-нибудь горячего. Я сразу узнала Люси Лендон. На цветной фотографии, которую я сохранила, у нее было молодое улыбающееся лицо. На пороге кухни стояла седая женщина с потухшим взглядом.
Я сделала ей чай… с водкой. Парадокс – мне хотелось добавить в чашку крысиного яда, но поила горячительным, и она раскрылась.
У меня на левой ладони до сих пор видны шрамы от собственных ногтей. Я слушала Люси Лендон, изо всех сил сжимая кулак, чтобы она не заметила, не узнала, что из моей линии жизни течет кровь.
Люси сказала, что работала в замке Нотр-Дам-де-Пре.
– В том летнем лагере, где пять лет назад был пожар, может, слышали? Четырех девочек похоронили на вашем кладбище. Я с тех пор не сплю, все вижу огонь и все время мерзну.
Она не умолкала, а я все подливала. Мне было так страшно, что физической боли я не чувствовала. Напоследок она «одарила» меня еще одним откровением:
– У бедняжки Женевьевы Маньян была связь с отцом маленькой Леонины Туссен.
– Связь?
Во рту появился металлический вкус. Вкус крови. Я как будто глотнула расплавленной стали, но все-таки сумела повторить: «Связь?»
Больше я ничего не сказала. Она встала, собираясь уходить. Посмотрела на меня. Вытерла рукавом заплаканное лицо. Громко всхлипнула, и мне захотелось ее ударить.
– Да, с отцом Леонины Туссен. За год или два до этой драмы. Женевьева тогда работала в школе… Кажется, где-то рядом с Нанси.
Я не сказала бригадиру, что выкричала свою ненависть и боль в объятиях Саши, поняв, что Маньян убила четырех девочек, чтобы отомстить Филиппу. Нам. Нашей дочери.
Я не сказала, что Филипп Туссен расспрашивал персонал замка, где погибла наша дочь. И делал это после суда, потому что не поверил ни одному услышанному там слову. Он делал это, потому что хотел реабилитировать себя, искал не виновного, а доказательство своей невиновности.
Бригадир спросил, мог ли Филипп Туссен иметь любовницу.
– У него их было много.
– В каком смысле?
– У моего мужа всегда было много женщин.
Это был неловкий момент. Бригадир даже не сразу решился записать, что Филипп Туссен трахал все, что движется. Он покраснел и принес мне еще кофе. Пообещал позвонить, если появятся новости. В следующий раз я увидела этого человека, когда он хоронил на моем кладбище свою мать, Жозетту Ледюк, в девичестве Бертомье (1935–2007).
Узнав, что у Филиппа Туссена была интрижка с Женевьевой Маньян, я потеряла Леонину второй раз. Родители похитили ее у меня случайно, он отобрал намеренно. Несчастный случай стал убийством.
Я вела себя как вандал на руинах, вытаскивая из-под обломков воспоминания о том, как тысячи раз утром шла с дочерью в школу, как забирала ее после уроков и могла видеть Женевьеву в коридоре, у раздевалки, во дворе, под крытой галереей. Она могла обращаться ко мне, говорить «Здравствуйте», «До свидания, до завтра», «Хорошая погода», «Одевайте ее потеплее, чтобы не простудилась», «Она сегодня выглядит усталой», «Она забыла свою тетрадь о классной жизни, ту, что в синей обложке». На школьном празднике, между танцами и серпантинами, эта женщина наверняка обменивалась парой фраз с моим мужем. Они переглядывались, улыбались друг другу – молча, как сообщники, как любовники.
Я пыталась вычислить, сколько времени они общались, когда и где встречались, почему она выместила обиду на детях, как должен был обращаться с ней Филипп Туссен, чтобы она совершила подобное. Я думала, думала, готова была разбить голову об стену, но так ничего и не придумала.
Я, конечно, видела Женевьеву Маньян, но не замечала ее. Она оставалась частью школьной мебели, ящики которой были закрыты для меня на два оборота ключа. Ты не в состоянии вспомнить, Виолетта…
Саше пришлось взять на себя мои рабочие обязанности, потому что я ни на что не годилась. Сидела или лежала и пыталась понять.
Не вернись Саша в этот момент моей жизни с синим чемоданом, набитым подарками… Филиппу Туссену удалось бы меня «добить». Саша снова стал наводить порядок в моей жизни. На этот раз он учил меня не сажать и не сеять, но сопротивляться свирепой зиме. Он массировал мне ноги и спину, поил чаем, лимонной водой, варил супы, готовил пасту, наливал вино. Читал. Заботился о саде. Продавал мои цветы, поливал их, сопровождал опечаленных родственников во время похорон. Предупредил мадам Бреан, что останется на неопределенный срок.
Он каждый день заставлял меня вставать, умываться, одеваться и разрешал снова лечь в постель, а сам приносил завтрак на подносе, кормил и ворчал: «Как же, уйду я на пенсию, пока ты так себя ведешь…» Он включал музыку на кухне и оставлял дверь открытой, чтобы мне было слышно.
А потом солнце повело себя на манер кладбищенских кошек: проникло в комнату и забралось под простыни. Я встала, отдернула шторы, потом открыла окна, спустилась на кухню, включила чайник, проветрила и вышла в сад. Поменяла воду цветам. Снова начала общаться с родственниками, кормила их чем-нибудь горячим, поила крепким. И все время повторяла: «Ты представляешь, Саша, Филипп Туссен спал с Женевьевой Маньян!» Дни напролет доставала его одним и тем же: «Я не могу даже донести на эту женщину, потому что она умерла, понимаешь? Умерла!»
– Ты должна прекратить, Виолетта! Не ищи причины, иначе потеряешь себя.
Саша пытался меня урезонить, приводил разумные доводы.
– Да, они были знакомы, но это не значит, что она именно поэтому решила отыграться на детях. Это чудовищное совпадение, несчастный случай. Клянусь тебе. Просто несчастный случай – и ничего больше!
Я сопротивлялась, твердила свое, переливала из пустого в порожнее, но Саша сумел меня убедить. Филипп Туссен сеял зло, Саша – только добро, такой уж он был человек.
Виолетта, плющ душит деревья, никогда не забывай обрезать его. Никогда. Как только задумываешься о чем не нужно и понимаешь, что сумрак затягивает тебя, бери секатор и режь, пока рука не заболит.
Филипп Туссен исчез в июне 1998-го.
Саша покинул Брансьон-ан-Шалон 19 марта 1999-го. Он снова уехал, уверенный, что я убедилась: драма была случайной, а не преднамеренной.
– Теперь ты сможешь двигаться вперед, Виолетта.
Думаю, он отправился в путь в начале весны, чтобы не сомневаться, что за лето я привыкну к его отсутствию и смирюсь. Снова расцветут сады.
Он часто заговаривал о своем последнем путешествии, но всякий раз чувствовал, что я еще не готова отпустить его. Он хотел полететь в Бомбей, а оттуда добраться на юг Индии, в Амритапури, что в Керале. Там он собирался устроиться, как у мадам Бреан – на неопределенное время. Саша часто говорил:
– Доживать свой век в Керале, рядом с Сани, моя мечта. Вообще-то, в моем возрасте ни одна мечта не молода.
Он не собирался лежать в земле рядом с Вереной и детьми, хотел, чтобы его тело сожгли на погребальном костре в Индии, на Ганге.
– Мне семьдесят лет. Впереди еще несколько лет жизни. Посмотрю, что сумею сделать с их землей, постараюсь передать то немногое, что знаю о растениях. Продолжу лечить, облегчать боль. Мне очень нравятся эти планы.
– Предложите ваши «зеленые» руки индусам?
– Тем, кто пожелает.
Однажды вечером, за ужином, мы говорили о «Правилах виноделов». Я призналась Саше, что он был моим доктором Ларчем, воображаемым отцом. Он ответил, что в один из ближайших дней «отпустит мою руку», потому что знает, что я готова. Ведь даже псевдоотцам приходится расставаться с детьми. А потом добавил, что наступит утро, когда он не забежит домой, чтобы принести мне мягкого хлебушка и свежую газету.
– Но вы же не исчезнете, не попрощавшись?!
– Если я скажу тебе «до свидания», то не уеду. Можешь вообразить нас с тобой, обнимающимися на перроне вокзала? Зачем нам невыносимое? Тебе не кажется, что мы оба достаточно предавались печали? Мое место не здесь, Виолетта. Ты молода, мир прекрасен, я хочу, чтобы ты снова начала жить. С завтрашнего дня я буду прощаться с тобой ежедневно.
Он сдержал слово. Каждый вечер, прежде чем отправиться на ночлег к мадам Бреан, обнимал меня и говорил: «До свидания, Виолетта, позаботься о себе, я тебя люблю». Как в последний раз. А наутро возвращался. Клал на стол между чайными коробками и журналами по цветоводству багет и свежий номер ежедневной газеты «Сона и Луара». Болтал с братьями Луччини, Ноно и остальными. Гулял по аллеям с Элвисом, чтобы взглянуть на кошек. Отвечал на вопросы посетителей, искавших аллею или фамилию. Помогал Гастону полоть сорняки. Вечером, после совместного ужина, снова сжимал меня в объятиях и говорил: «До свидания, Виолетта, позаботься о себе, я тебя люблю». Как в последний раз.
Так продолжалось всю зиму. А утром 19 марта 1999-го он не пришел. Я побежала к мадам Бреан. Саша уехал. Он давно сложил чемодан и накануне вечером решил наконец реализовать свою самую заветную мечту.
89
Мы жили вместе в счастье.
Мы покоимся вместе – с миром.
Дневник Ирен Файоль.
13 февраля 2009
Мне позвонила моя бывшая продавщица: «Мадам Файоль, по телевизору только что передали, что у вашего друга-адвоката сегодня утром случился сердечный приступ, прямо в суде… Он сразу умер».
Сразу. Габриэль умер сразу.
Я часто говорила, что умру раньше него. Не знала, что одновременно с ним. Если умирает Габриэль, умираю и я.
14 февраля 2009
Сегодня День святого Валентина. Габриэль терпеть не мог этот праздник.
Когда я пишу в дневнике его имя – Габриэль, Габриэль, Габриэль, – мне кажется, что он рядом. Наверное, дело в том, что он еще не похоронен. Мертвые остаются поблизости, пока не легли в землю. Расстояния между нами и Небом пока не существует.
Мы поругались в последнюю нашу встречу. Я попросила его уйти. Габриэль разозлился и побежал вниз по лестнице, ни разу не оглянувшись. Я ждала, думала, что услышу звук шагов, надеялась, что он вернется, но он этого не сделал, не вернулся. Обычно он звонил каждый вечер, но после ссоры телефон молчал. И я бессильна изменить ход событий.
15 февраля 2009
От Габриэля мне осталась свобода, которой я наслаждаюсь каждый день. Свобода – это одежда, купленная в Антибе (она лежит в глубине ящика), бутылка «Сюз», открытая в баре, несколько билетов на поезд туда-обратно и «Мартин Иден» Джека Лондона. Габриэль подарил мне «Женщину» Анн Дельбе[98] в очень редком издании. Его завораживала фигура Камиллы Клодель.
Несколько лет назад я на три дня приехала к нему в Париж, и он сразу повел меня в музей Родена. Хотел открывать творения Клодель вместе со мной. В парке он поцеловал меня рядом с «Гражданами Кале».
– Их руки и ноги лепила Камилла. Смотри, какая красота!
– У вас тоже очень красивые руки. Я только их и видела в нашу первую встречу, в суде Экс-ан-Прованса.
Таким он был, Габриэль – неожиданным. Он был скалой, надежной и могучей. Мачо, который никогда бы не позволил женщине заплатить по счету в ресторане или самой налить себе вина. Габриэль был воплощенная маскулинность, как сейчас модно говорить. Я готова была поручиться головой, что мой любимый предпочтет Родена Клодель и будет восхищаться «Бальзаком» или «Мыслителем», а он пришел в восторг от «Вальса» Камиллы.
Мы ходили по музею, и он держал мою руку, как ребенок. Ни одна величественная работа Родена не тронула его сердце, а перед «Сплетницами», маленькой скульптурной группой Камиллы Клодель, он сильно сжал мои пальцы. Габриэль наклонился к цоколю и замер, как будто не мог надышаться четырьмя маленькими женщинами из зеленого оникса, которые родились больше века назад. Я услышала, как он шепнул: «Они растрепаны».
Мы вышли, он закурил и признался, что не шел «к Родену», потому что хотел оказаться в музее вместе со мной. «Я должен был уцепиться за твою руку, чтобы не украсть «Сплетниц»! Я увидел их на фотографии, когда был студентом, и влюбился. Я всегда жаждал обладать ими».
Габриэль знал, что при первой личной встрече с этой работой ему понадобится надзиратель.
– Я адвокат, защищаю в суде проходимцев. Но это не значит, что сам я иной. Эти болтушки такие маленькие и изящные, что я запросто мог бы спрятать их под пальто и сбежать. Можешь представить, каково это – держать их у себя дома, любоваться каждый вечер перед сном, встречаться взглядом по утрам, за кофе?
– Вы проводите жизнь в отелях, так что это было бы затруднительно.
Он расхохотался:
– Твоя рука не дала мне совершить кражу. Нужно сдавать ее внаем всем моим болванам-клиентам. Это помогло бы им избежать кучи глупостей.
Вечером мы ужинали вдвоем в «Жюль Верне»[99], на самом верху Эйфелевой башни. Габриэль сказал: «В эти три дня мы будем нанизывать одну банальность на другую, в мире нет ничего лучше банальных поступков и общих мест». Закончив фразу, он надел мне на руку бриллиантовый браслет, сверкавший на моей светлой коже, как тысяча солнц. Блеск камней наводил на мысль о подделке – вроде тех, которые носят голливудские звезды в мыльных сериалах.
На следующий день в Сакре-Кёр я поставила свечу перед золоченой Богоматерью, а он застегнул у меня на шее бриллиантовое колье, поцеловал в затылок и обнял за плечи. Прижал к себе и прошептал: «Ты похожа на новогоднюю елку, любовь моя!»
В последний день, на Лионском вокзале, прямо перед тем, как я поднялась в вагон, он взял мою руку и надел мне кольцо на средний палец.
– Хочу, чтобы ты правильно меня поняла. Я знаю, что ты не любишь украшения, так что продай эти побрякушки и потрать деньги на путешествия или купи дом, решай сама. И никогда не благодари меня, я от этого зверею. Подарки – способ защитить тебя, если со мной что-то случится. Я приеду к тебе на следующей неделе, а ты позвони, когда доберешься до Марселя. Мне тебя уже не хватает, эти расставания просто ужасны! Впрочем, я люблю скучать по тебе. Я люблю тебя.
Я продала колье и купила квартиру. Браслет и кольцо лежат в банковском сейфе, их унаследует мой сын. Он получит то, что оставил мне любимый человек. Это будет справедливо. Габриэль хотел, чтобы все было по справедливости.
У него был сильный характер. Никто не рисковал противоречить ему. Я в том числе. Но в последнюю нашу встречу сделала это. Он позволил себе открытый выпад против коллеги по цеху, женщины-адвоката, и об этом написали все газеты. Она защищала клиентку, над которой годами издевался муж-садист, за что и поплатился жизнью. Я рискнула упрекнуть Габриэля за такое поведение.
Мы занимались любовью, потом пришли на кухню, он улыбался, выглядел легким, счастливым. Переступая порог квартиры, он расслаблялся, как будто освобождался от слишком тяжелых чемоданов. Я пила чай и задавала вопросы. Обвиняющим тоном: «Как вы могли напасть на адвокатессу, защищающую жертву домашнего насилия?! В кого вы превратились? За кого себя принимаете? Куда подевались ваши идеалы?»
Габриэль не просто обиделся, он пришел в бешенство. Кричал, что я ничего не знаю и дело гораздо сложнее, чем кажется. «Куда ты лезешь? Пей чай и молчи! Единственное, на что ты способна, это выращивать жалкие розочки, которые сама же потом и срезаешь! Портишь все, к чему прикасаешься!»
– Ты же вечно во всем сомневаешься, Ирен! Ни разу в жизни не смогла самостоятельно принять ни одного решения!
Кончилось тем, что я заткнула уши и попросила Габриэля «немедленно покинуть мой дом». Он начал одеваться, и я сразу пожалела о сказанном, но было поздно. Мы оба были слишком горды, чтобы извиниться. Нам казалось, что лучше расстаться на горькой ноте.
Ах, если бы повернуть время вспять…
Мне хотелось распахнуть окна и крикнуть прохожим: «Помиритесь! Попросите прощения у любимых, пока еще не поздно…»
16 февраля 2009
Мне позвонил нотариус: Габриэль сделал все необходимые распоряжения, чтобы меня похоронили рядом с ним на кладбище в Брансьон-ан-Шалоне, его родной деревне. Мэтр пригласил меня в свою контору, чтобы передать оставленный Габриэлем конверт.
«Любовь моя, сладкая, нежная, чу́дная моя любовь, я по-прежнему люблю тебя – с рассвета и до заката. Я тебя люблю.
Я выступаю в суде, отвожу свидетелей, импровизирую, защищаю убийц, невиновных, жертв – и занимаю слова у Жака Бреля, чтобы яснее выразить свою мысль.
Если ты читаешь это письмо, значит, я больше не живу. Я опередил тебя – впервые за все время нашего знакомства. Ничего нового я написать не могу, разве что признаться, что всегда терпеть не мог твое имя.
Ирен – отвратительное имя, просто безобразное. Тебе все идет, ты можешь носить что захочешь. Но твое имя подобно зеленому «бутылочному» цвету. Или горчичному.
В тот день я ждал тебя в машине и знал, что ты не вернешься и я зря теряю время. Это самое «зря» мешало мне уехать сразу.
Она не вернется, ты зря ждешь.
Как же мне тебя не хватало! И это было только начало.
Наши отели, любовь во второй половине дня, ты под простынями. Ты воплощаешь в себе все мои «любови». Первую, вторую, десятую и последнюю. Ты останешься моим лучшим воспоминанием. Моей самой великой надеждой.
Провинциальные города превращались в столицы, стоило тебе сделать шаг по их тротуарам. Они навсегда отпечатывались в моей памяти. Твои руки в карманах, твои духи, твоя кожа, твои шарфы… моя родина.
Моя любовь.
Видишь, я не обманщик: для тебя приготовлено место в вечности. Интересно, там, наверху, ты продолжишь говорить мне «вы»?
Не торопись, времени у меня много, я подожду. Насладись вволю видом неба с земли. И – главное – последними снегопадами.
До скорого свидания.
Габриэль».
19 марта 2009
Я впервые побывала на могиле Габриэля. Выплакалась, хотела выкопать его, встряхнуть, крикнуть: «Скажите мне, что это неправда, скажите, что вы не умерли!» – и поставила новый снежный шар на черную мраморную плиту. Я пообещала Габриэлю, что буду приезжать время от времени и не дам ему покоя. Я долго смотрела на свою будущую могилу.
А потом вслух ответила на его письмо:
– Любимый, вы тоже останетесь моим прекраснейшим воспоминанием… Женщин у меня было меньше, чем у вас, не женщин, конечно, а мужчин. Вы могли соблазнить одним жестом. Да что я говорю – и жест не требовался, вам достаточно было оставаться собой. Вы – моя первая любовь, моя вторая любовь, моя десятая любовь, моя последняя любовь. Вы забрали всю мою жизнь, я сдержу слово и присоединюсь к вам в вечности. Согревайте мое место, как делали это в отелях, если приходили первым и ждали меня в широкой «случайной» кровати… Вы пришлете мне адрес вечности, к дальнему путешествию нужно хорошенько подготовиться. Я еще не решила, поеду ли поездом, полечу самолетом или поплыву на корабле. Люблю вас.
Я долго оставалась рядом с ним. Поставила свежие цветы, выбросила увядшие, прочла все надписи на табличках. Кажется, они так называются.
За кладбищем, где лежит Габриэль, приглядывает дама, и это замечательно! Он так любил женщин… Она прошла мимо меня и поздоровалась. Мы немножко поговорили. Я не знала, что существует такая профессия – «смотрительница кладбища». Что людям платят зарплату за то, что они заботятся о могилах. Кроме всего прочего, она продает у ворот цветы.
Я продолжу писать этот дневник, чтобы Габриэль продолжал жить, но Боже, до чего же длинна жизнь…
90
Ноябрь вечен, жизнь почти прекрасна, воспоминания – тупики, куда мы возвращаемся Снова и снова.
Июнь 1998
От Макона до Валанса было едва ли двести километров, но дорога казалась ему бесконечной. Когда Филипп просто «катался», ни одна автострада, ни одна грунтовка не была слишком длинна для него, но, если нужно было попасть из пункта А в пункт Б, он брюзжал. Не терпел принуждения, «обязаловки».
Виолетте стало известно, что муж пытается выяснить истину, и он мгновенно утратил весь свой запал, словно откровенный разговор с женой полностью его демобилизовал. Слово не освободило, а опустошило душу единственного хранителя тайны, он не мог продолжать лихорадочную погоню за химерой.
Казалось, даже Виолетта повернулась спиной к прошлому.
Он решил, что поговорит с Элоизой Пти и сразу займется чем-нибудь другим. Встреча с бывшей воспитательницей станет последним свиданием с минувшим.
Она ждала его перед кинотеатром, где теперь работала, рядом с расписанием сеансов. Над ней висела огромная афиша «Английского пациента», и Филипп сразу заметил Элоизу, несмотря на ажиотаж у касс. Они виделись два года назад, на суде, и сразу узнали друг друга.
Элоиза повела Филиппа в кафе RelaisH, недалеко от вокзала, словно боялась, что их увидят и «подумают что-нибудь не то». Они шли молча, Филипп не чувствовал ничего, кроме пустоты и уныния, и спрашивал себя, что он тут делает. «Тебе не о чем спрашивать эту женщину, зачем ей что-то делать со старым газовым нагревателем. Она ведь наверняка ничего не понимает в технике…»
Они заказали по сэндвичу, бутылочку «Виттель» и кока-колу. В Элоизе ощущалась удивительная кротость, и Филипп расслабился, проникся к ней доверием. Не то что к остальным. Она не станет лгать.
Элоиза рассказала, как 13 июля 1993 года в замок приехали дети. Как их расселяли по комнатам – «по родству душ», потому что многие были знакомы и не хотели, чтобы их разделяли. Они с Люси Лендон постарались удовлетворить всех, и им это вроде бы удалось. Девочки убрали одежду и личные вещи в шкафчики у кроватей.
Им подали полдник, и все отправились на прогулку в парк, потом на луга – взглянуть на пони и отвести их (конечно, вместе с конюхом!) на ночь в конюшни. Девочкам ужасно понравилось поливать маленьких лошадок из шланга, брызгая водой друг на друга, чистить им бока и кормить вместе со взрослыми. Рассаживаясь за накрытые к ужину столы, они щебетали – весело, как зяблики. «Двадцать четыре девчушки создают много шума, понимаете?» По комнатам они разошлись около половины десятого вечера, освежившись в общей душевой.
– А почему не в ванных комнатах, ведь, если я не ошибаюсь, в каждой комнате была ванная?
Вопрос удивил Элоизу.
– Не знаю… Душевая в замке была совсем новая, я и сама там мылась.
Она помолчала, покусывая нижнюю губу.
– Знаете, а ведь в моей комнате тоже не было горячей воды, только холодная.
– Почему?
Элоиза надула щеки, как продавец воздушных шаров, и ответила сожалеющим тоном:
– Я правда не знаю… Трубы были старые. Замок разрушался, повсюду пахло плесенью. А Фонтанель даже лампочку и ту сразу не менял. Дети приезжали из северных и восточных департаментов, уставшие от дороги и жары, так что в первый вечер легли спать без всяких споров. Мы с Люси Лендон обошли палаты – три на первом этаже, три на втором – без четверти десять. В каждой комнате жили четыре малышки, и все уже лежали. Одни читали, другие болтали, рассматривали фотографии и рисунки.
– О чем болтали?
– Ну, о чем разговаривают в этом возрасте? «У тебя красивая пижама», «Дашь поносить платье?», «Хочу такие же туфли, как у тебя». Обсуждали кошек, дома, родителей, братьев и сестер, школу, учительниц, подружек. Но главной темой были пони, ведь на следующий день им предстояло впервые сесть в седло.
Элоиза Пти замолчала. Ей было трудно заговорить о палате № 1. Она ни разу не произнесла вслух имена: Леонина, Анаис, Осеан, Надеж – называла их детьми из комнаты № 1 и глаз на Филиппа не поднимала.
Комната Леонины была последней, куда зашли воспитательницы. Девочки уже задремывали, и Люси дала каждой фонарик – на случай, если понадобится встать среди ночи, сказав, что будет спать рядом, так что приходите, если приснится кошмар или заболит животик. В коридоре будет гореть свет.
Они расстались: Элоиза пошла к себе, а Люси – к Свану Летелье. Женевьева Маньян должна была находиться поблизости, на первом этаже. Воспитательницы видели ее на кухне – она чистила медные кастрюли, выставив их на стол, выглядела то ли усталой, то ли расстроенной.
– Я легла и сразу уснула, – продолжила Элоиза, – через какое-то время встала, чтобы закрыть хлопавшую створку окна.
В ее голубых глазах промелькнуло странное выражение: она как будто заново переживала тот проклятый вечер и что-то видела через стекло. Так бывает, когда глядишь через плечо собеседника и замечаешь знакомый силуэт или неожиданное движение.
– Вы что-нибудь видели?
– Когда?
– Когда закрывали окно.
– Да.
– Что?
– Их.
– Кого – их?
– Сами знаете.
– Женевьеву Маньян и Алена Фонтанеля.
Элоиза Пти пожала плечами. Филипп Туссен не понял смысла этого жеста.
– У вас и правда была связь с Женевьевой?
– Кто вам наболтал? – ощетинился Филипп.
– Люси. Она говорила, что Женевьева очень вас любила.
Ему стало так стыдно и гадко на душе, что он зажмурился.
– Я пришел поговорить о дочери…
– Что вы хотите узнать?
– Кто поджег фитиль водонагревателя в палате № 1. Дети отравились газом. А ведь все знали, что ни в коем случае нельзя трогать чертовы водогрейки!
На крик Филиппа обернулись клиенты, читавшие газеты за столиками, и даже те, кто стоял в очереди за билетами в кассу.
Элоиза густо покраснела – ей совсем не хотелось, чтобы их разговор приняли за ссору влюбленных. Она сказала – мягко, понимающе (так обращаются с сумасшедшими, чтобы не раздражать их):
– Я не понимаю, о чем вы.
– Кто-то запустил оборудование в ванной.
– В какой ванной?
– В сгоревшей палате.
Филипп видел, что Элоиза не придуривается, она действительно не понимает, о чем речь. И он засомневался. Что, если история с нагревателем – полный бред? Что, если кто-то из двоих – Женевьева Маньян или Ален Фонтанель – из мести устроил поджог?
– Вы считаете, что несчастье случилось из-за старого газового нагревателя?
Вопрос Элоизы отвлек Филиппа от мрачных мыслей.
– Нет, пожар устроил Фонтанель… Хотел покрыть Маньян.
– Но зачем?
– Она в тот вечер пообещала вашей подруге Лендон покараулить вместо нее девочек, сама ушла к сестре – навестить заболевшего сына, а когда вернулась, было уже поздно… Малышки задохнулись.
Элоиза зажала ладонями рот, голубые глаза промокли слезами. Филипп вспомнил тот день, когда искал в море Франсуазу, а она испугалась, запаниковала, стала отбиваться. Элоиза сейчас очень ее напоминала.
Они молчали целых десять минут, не прикасаясь к еде, потом он заказал эспрессо.
– Что-нибудь еще?
– Это могут быть они.
– Фонтанель и Маньян? Да.
– Нет, люди.
– Какие люди?
– Пара, ваши знакомые. Я видела в окно, как они уходили со двора.
– Что за пара?
– Кажется, ваши родители. Вы приехали вместе с ними на следующий день.
– Ничего не понимаю.
– Но вы ведь знаете, что вечером они были в замке?
– Чьи родители?
У Филиппа закружилась голова, показалось, что он падает с крыши небоскреба.
– Четырнадцатого июля вы приехали вместе. Я думала, вам известно об их вечернем визите. Обычно родственники не навещают детей в такое время. Потому-то я и удивилась.
– Вы рехнулись! Мои родители живут в Шарлевиль-Мезьере. Они никак не могли оказаться в Бургундии в вечер пожара.
– Но оказались, и я их видела! Клянусь вам! Я видела, как они уходят, когда закрывала окно.
– Вы, должно быть, обознались…
– Нет. У вашей матери был пучок… Она держалась очень прямо… Я ничего не путаю. И я их снова видела в Маконе. Они ждали вас после суда.
И тут Филипп вспомнил. Это напоминало вспышку молнии, удар, взрыв, как будто незначительная деталь, годами прятавшаяся в подсознании, всплыла на поверхность. Нечто неправильное, противоречивое, бессмысленное, в силу обстоятельств не привлекшее его внимания 14 июля 1993 года.
Он позвонил родителям и сказал: «Леонина умерла». Через несколько часов они за ним заехали, и Филипп впервые сел рядом с отцом – мать лежала на заднем сиденье. Подавленный, убитый горем, Филипп промолчал всю дорогу, слыша, как охает и стонет мать. Отец молился, читал про себя «Ave Maria».
Филипп всегда считал своего родителя ханжой, который так боится жену, что ходит перед ней на задних лапках. Он всегда мечтал, чтобы его отцом был Люк, но госпожа Природа ошиблась – или посмеялась над ним, выбрав из Туссенов не брата, а сестру.
Элоиза упомянула его родителей, и он вспомнил, что отец не спросил у него адрес замка и знал, как туда доехать. А ведь в детстве мать с отцом вечно ссорились из-за «географического кретинизма» Туссена-старшего… Да, они ехали в замок не первый раз.
Элоиза наблюдала за Филиппом и думала, что, несмотря на мрачный вид, он невероятно хорош. Лицо Леонины она вспомнить не смогла. Четыре девочки стерлись из ее памяти, остались только голоса: они разговаривали о пони, задали ей много смешных вопросов.
Бывшая воспитательница не призналась Филиппу, что Леонина потеряла плюшевого любимца и они вместе долго его искали. Девочка тогда сказала: «Этому кролику столько же лет, сколько мне…» Элоиза дала ей маленького медведика, забытого кем-то из детей, и пообещала, что утром обшарит весь замок и найдет кролика. Обязательно.
– Поклянитесь памятью Леонины, что никогда никому не расскажете о моих родителях! – сказал он.
Женщина онемела от неожиданности. «Он что, мысли читает?»
– Мы никогда не встречались и ни о чем не разговаривали… Обещайте!
Элоиза подняла правую руку – как в суде – и сказала: «Клянусь!»
– Памятью Леонины?
– Памятью Леонины.
Филипп написал на салфетке номер телефона в Брансьоне и протянул ей.
– Через два часа наберите это номер. Вам ответит моя жена, вы представитесь, скажете, что я не явился на встречу, хотя вы долго ждали…
– Но…
– Прошу вас.
Элоиза пожалела его и кивнула.
– А если она начнет задавать вопросы?
– Не начнет. Я слишком сильно ее разочаровал, так что она не снизойдет.
Филипп встал, чтобы оплатить счет у кассы. Махнул Элоизе рукой, надел шлем и сел на мотоцикл, стоявший у кинотеатра.
Он бросил взгляд на входивших и выходивших людей и вспомнил наставление матери: «Никому не доверяй, слышишь, мой мальчик? Никому!»
До Шарлевиль-Мезьера почти семьсот километров, он доберется затемно.
Подъехав к дому, он несколько минут смотрел через стекло на родителей. Они были в гостиной, сидели рядом на диване с обивкой в бессмертниках. Такие стоят на заброшенных могилах. Виолетта терпеть не может увядшие цветы и всегда их выбрасывает.
Отец уснул, мать смотрела какой-то старый сериал. Виолетта его уже видела. История любви священника и девушки, действие происходит в Австралии или какой-то другой дыре[100]. В некоторых местах Виолетта беззвучно плакала, вытирая лицо рукавом. Мать Филиппа смотрела на актеров, поджав губы, явно не одобряя их поступки. Зачем она выбрала эту сентиментальную картину? При других обстоятельствах Филипп посмеялся бы.
Он вырос в доме, который теперь казался ему старой декорацией. Кусты разрослись, живые изгороди давно не стригли. Решетку заменили белым заборчиком, как в американских поместьях, подновили фасад и поставили двух львов по обе стороны от входной двери. Гранитные хищники явно скучали в этом особнячке 70-х годов. Ничего не поделаешь, нужно держать фасон перед соседями. Отец когда-то работал почтальоном, мать – клерком в этом же ведомстве, они вступили в профсоюз работников почтовой, телеграфной и телефонной службы, сделали небольшую, но все-таки карьеру, жили экономно и сумели кое-что отложить.
У Филиппа были ключи от дома. Он всегда носил их на связке с брелоком в виде миниатюрного регбийного мяча, утратившего первоначальные цвета и форму. Кто мог захотеть вломиться в непритязательное жилище и встретить там молящегося святошу и его злобную женушку – два корнишона в банке с уксусом.
Филипп не был здесь много лет. Со дня встречи с Виолеттой. Виолетта… Родители ни разу не удостоили ее приглашением в свой дом. Слишком уж презирали. Брезговали.
Шанталь Туссен вскрикнула, увидев на пороге гостиной сына. Ее крик разбудил мужа, он вздрогнул и заморгал глазами.
Филипп открыл было рот и тут заметил на стенах фотографии Леонины, две из которых были сделаны в школе. В памяти всплыло улыбающееся лицо Женевьевы Маньян, и у него закружилась голова. Да так сильно, что пришлось ухватиться за буфет.
Виолетта убрала все снимки дочери в ящик прикроватной тумбочки, в бумажник, разложила между страницами книги, которую читала и перечитывала.
Мать подошла к нему, спросила – совсем тихо: «Все в порядке, малыш?» Филипп выставил перед собой руку с развернутой ладонью, приказывая ей остановиться. Родители переглянулись. Их сын заболел? Сошел с ума? Таким бледным он был утром 14 июля 1993-го, когда они привезли его на место трагедии. Он выглядит постаревшим на двадцать лет.
– Что вы делали в замке вечером, незадолго до пожара?
Отец бросил взгляд на мать, ожидая указаний. Заговорила – как всегда – она. Голосом жертвы или жеманной милой маленькой девочки, которой никогда не была.
– Армель и Жан-Луи Коссены встретились с нами в Ла Клейет перед тем, как везти Катрин… то есть Леонину и Анаис в замок. Мы назначили встречу в кафе, мы не сделали ничего плохого.
– Что-вы-там-де-ла-ли?
– Мы были на свадьбе кузины Лоранс… ехали в Шарлевиль, ну, и воспользовались случаем, чтобы побывать в Бургундии.
– Вы никогда НИЧЕГО не делали случайно. Мне нужна правда.
Мать заколебалась, поджала губы, глубоко вздохнула, но Филипп сразу окоротил ее:
– Будь так любезна, не начинай хныкать!
Сын никогда не говорил с ней подобным тоном. Вежливый, хорошо воспитанный мальчик, отвечавший: «Да, мама», «Нет, мама», «Хорошо, мама», – умер. Он начал меняться, потеряв дочь, и окончательно исчез, когда похоронил себя рядом с той женщиной. Филипп сразу предупредил их: «Не смейте появляться на кладбище, я не хочу, чтобы вы пересекались с Виолеттой…»
До трагедии он не подчинялся матери в одном-единственном случае, когда проводил каникулы у своего дяди Люка и его молодой жены, любительницы слишком коротких юбок. Его всегда влекло к плебейкам, дешевкам и нищебродкам.
Шанталь Туссен продолжила прокурорским тоном:
– Я хотела встретиться с Коссенами, чтобы проверить, что твоя жена положила в чемодан нашей внучки. Убедиться, что ей всего хватает. Я не могла допустить, чтобы девочке было стыдно перед подружками. Твоя жена молода и часто… плохо следила за Катрин… Длинные ногти, грязные уши, платья, севшие при стирке… Я от этого начинала болеть.
– Ты бредишь, мама! Виолетта прекрасно заботилась о нашей дочери! Ее звали Леонина! Слышишь, ты? Леонина!
Женщина неловким судорожным движением запахнула полы халата.
– Армель Коссен открыла багажник, и я все проверила, пока малышки играли в тени, рядом с твоим отцом и Жаном-Луи. Многого не хватало, и мне пришлось выбросить старье и заменить его вещами.
Филипп Туссен представил, как мать перебирает маленькие вещички его дочери. Он всегда ненавидел ее бесцеремонность, а сейчас ему и вовсе хотелось придушить это… существо, привившее ему высокомерное презрение к окружающим. Она опустила глаза, не в силах выносить ненавидящий взгляд сына.
– Около четырех Коссены уехали в замок с детьми. Мы с твоим отцом не хотели отправляться в путь раньше ночи – из-за жары. Вернулись в кафе съесть что-нибудь легкое. В туалете я увидела игрушку Леонины, она забыла ее рядом с раковиной. Малышка без нее не засыпала, я постирала эту… этого кролика, решив, что он быстро высохнет.
Шанталь Туссен села на тахту, как будто ей вдруг стало тяжело выносить груз собственных слов. Муж последовал за ней, как верный песик, ожидающий награды, взгляда, ласки, которых никогда не получал.
– Мы вошли в замок, как на мельницу, не увидели никакой охраны, все двери были открыты настежь. Леонину мы нашли в первой же комнате. Она уже лежала и очень удивилась, увидев нас. Но игрушке обрадовалась, правда, взяла ее незаметно от девочек. Должно быть, искала повсюду, но никому не сказала, боялась насмешек.
Мать Филиппа начала всхлипывать. Муж обнял ее за плечи, но она отодвинула его.
– Я спросила девочек, хотят ли они послушать сказку. Они сказали «да», и я прочла «Мальчика-с-пальчик». Потом они почти сразу уснули. На прощание я поцеловала внучку. Последний раз в жизни.
– А нагреватель? – рявкнул Филипп.
Заплаканные, жалкие родители съежились, напуганные яростью сына.
– Что – нагреватель? Какой нагреватель? – пролепетала Шанталь между двумя всхлипами.
– Водонагреватель в ванной! В комнате была ванная! И чертов нагреватель! Вы к нему прикасались?
Отец открыл рот – впервые за вечер – и произнес со вздохом:
– Ах, это…
Филипп готов был отдать все на свете, чтобы папаша заткнулся и молчал – как обычно. Или начал молиться. Но несчастному показалось, что он наконец-то будет полезен жене, и решил опередить ее:
– Твоя мать спросила Леонину, хорошо ли она почистила зубки перед сном, и малышка кивнула, но другая девочка пожаловалась, что вода в кране ужасно холодная. Твоя мать попросила меня взглянуть, в чем дело, и я обнаружил, что фитиль не горит…
Филипп схватил отца за воротник халата и произнес умоляюще, как заклинание:
– Молчи, молчи, молчи, молчи, молчи, молчи, молчи, молчи, молчи, молчи, молчи…
Родители были так напуганы, что не могли шевельнуться. Филипп пробормотал еще несколько неразборчивых слов и молча покинул комнату.
Садясь на мотоцикл, он уже знал, что не поедет в Брансьон. Понимал, что лишился дома – отныне и навсегда. С того момента, когда попросил Элоизу Пти позвонить Виолетте и сказать: «Ваш муж не явился на встречу со мной…» Виолетта давно не ждет его.
Утром он сказал жене, что хочет все начать с нуля и переехать на юг, и ее взгляд подарил ему надежду, но сегодня он понял, что не может с ней встретиться.
Шанталь Туссен выбежала на улицу в халате, надеясь урезонить сына. Опасно садиться за руль в таком состоянии. «Ты слишком устал, ты раздражен, отдохни, я приготовлю тебе бефстроганов и карамельный десерт, ты его обожаешь, завтра ты на все посмотришь иначе и…»
– Лучше бы ты умерла, рожая меня, мама. Это была бы самая большая удача в моей жизни.
Он стартовал и помчался в Брон, успев увидеть в зеркале, как мать рухнула на тротуар. Филипп понимал, что своей последней фразой подписал ей смертный приговор. Сегодня, завтра или через много дней он будет приведен в исполнение. Отец последует за ней. Он всегда следовал за женой.
Его единственным желанием было оказаться рядом с Люком и Франсуазой и все им рассказать. Они найдут нужные слова, скажут, что ему делать, оставят в своем доме, потому что ему не перед кем отчитываться. Филипп хотел стать ребенком, сыном Люка, и покончить с прежней жизнью.
91
Когда на моем могильном холмике приляжет отдохнуть обнаженная ундина, я попрошу Иисуса простить меня за то, что радуюсь, глядя, как тень креста падает на ее тело.
Дневник Ирен Файоль
2013
Я вошла в дом дамы с кладбища. Она взглянула на меня, узнавая лицо, но не понимая, кто я такая. Она была одна, сидела за столом и листала каталог по садоводству.
– Я выбираю весенние луковицы. Вы больше любите нарциссы или крокусы? Я обожаю желтые тюльпаны.
Она погладила ладонью цветные фотографии ярких цветов.
– Нарциссы. Пожалуй, я предпочитаю нарциссы. Я тоже люблю цветы. Раньше у меня был розарий.
– Где?
– В Марселе.
– О, я бываю в Марселе каждый год. В бухте Сормиу.
– Я ездила туда с моим сыном Жюльеном, когда он был маленький. Очень давно.
Дама с кладбища улыбнулась мне, как сообщница.
– Хотите что-нибудь выпить?
– Зеленого чая, если можно.
Она встала, чтобы поставить чайник. Я подумала: «Она могла бы быть моей дочерью, ей примерно столько же лет, сколько Жюльену. Но мне вряд ли понравилось бы иметь дочь. Не знаю, что смогла бы рассказать ей о жизни, какие дала бы советы. Мальчик похож на дикий цветок, на боярышник, он будет расти сам по себе, если его кормить, поить и одевать. Если говорить ему, что он красивый и сильный. Мальчик хорошо растет, если у него есть отец. С девочкой всегда намного сложнее.
Дама с кладбища красавица. Она была в прямой черной юбке и тонком сером свитере. Элегантная. Деликатная. Я почти пожалела, что у меня не было дочери. Она насыпала чай в чайничек, залила кипятком и поставила на стол мед. У нее было хорошо. Вкусно пахло. Она сказала, что любит розы. Их аромат.
– Вы живете одна?
– Да.
– Я прихожу сюда к Габриэлю Прюдану.
– Он лежит на аллее 13, на участке «Кедры».
Верно?
– Да. Вы помните местоположение всех могил?
– Большинства. Он был знаменитым адвокатом, и на похороны пришло много людей. В каком году?
– В 2009-м.
Дама с кладбища взяла регистрационный журнал за 2009 год и нашла фамилию Габриэля. Итак, она действительно все записывает. «18 февраля 2009, похороны Габриэля Прюдана, проливной дождь. Присутствуют сто двадцать восемь человек. Бывшая жена, две дочери, Марта Дюбрёй и Хлоэ Прюдан. По распоряжению усопшего нет ни цветов, ни венков. На табличке от семьи выгравировано:
В знак уважения
к Габриэлю Прюдану,
храброму адвокату.
«Смелость для адвоката важнее всего, без нее остальное не имеет смысла. Талант, культура, знание законов полезны, но без смелости в решающий момент остаются только слова, пустые фразы, которые вспыхивают и умирают».
Робер Бадинтер.
Ни кюре, ни креста. Кортеж пробыл на кладбище полчаса. Все разошлись, как только двое служащих похоронного бюро опустили гроб в могилу. Все еще шел очень сильный дождь».
Дама с кладбища налила мне чаю, и я попросила ее еще раз прочесть заметки о похоронах Габриэля. Она охотно согласилась.
Я воображала стоящих вокруг могилы заплаканных людей под зонтиками, все тепло одеты, шеи обмотаны шарфами.
Я сказала даме с кладбища, что Габриэль приходил в ярость, услышав от кого-нибудь фразу: «Какой же вы мужественный человек!» Он считал, что не требуется особого мужества, чтобы дать понять председателю суда, что он идиот. Что настоящее мужество – раздавать каждый день еду бездомным у ворот де ла Шапель или прятать в своем доме евреев в 1942 году. Габриэль все время повторял, что он ничем не рискует.
Она спросила, много ли мы с Габриэлем разговаривали, я ответила: «О да!» – и попросила, чтобы тема мужества осталась между нами. Я не хотела, чтобы люди, заказавшие траурную табличку, узнали, как сильно они заблуждаются.
Дама с кладбища улыбнулась.
– Конечно. Все, что произносится в этих стенах, тут и остается.
Я чувствовала к ней невероятное доверие и вела себя, как человек, которому ввели сыворотку правды.
– Я приезжаю на могилу Габриэля два-три раза в год, чтобы встряхнуть снежный шар, который поставила на плиту. Вырезаю газетные статьи, отчеты о судебных процессах и читаю ему вслух. Пересказываю мировые новости – я говорю о его мире, юридическом. Так что он осведомлен обо всех уголовных делах и преступлениях по страсти, о вечных сюжетах, которые интересовали его при жизни. На кладбище Сен-Пьер в Марселе, у мужа, я бываю чаще и каждый раз прошу у него прощения за то, что буду лежать рядом с Габриэлем. Урну с моим прахом «прикопают» рядом с его могилой – Габриэль отдал необходимые распоряжения. Никто не сможет этому воспротивиться. Мы не были женаты. Знаете, мне всегда хотелось прийти к вам и предупредить, что в тот день, когда мой сын Жюльен все узнает, он явится к вам, чтобы задать вопросы.
– Почему ко мне?
– Потому что захочет понять, с какой стати я завещала похоронить меня не рядом с его отцом, а «у ног» Габриэля. Жюльен захочет узнать, кем был Габриэль Прюдан, и первым человеком, с которым он сможет поговорить, станете вы. Со мной ведь произошло то же самое.
– Хотите, чтобы я сказала ему что-то особенное?
– Нет. Нет, я уверена, что вы найдете верные слова. Или Жюльен в кои веки раз не станет изображать молчальника и у вас… состоится диалог. Вы сумеете помочь моему сыну, станете его «ведущим», как говорят летчики.
Я с сожалением рассталась с дамой с кладбища, зная, что больше в Брансьон-ан-Шалон не приеду, и вернулась в Марсель.
2016
Я дописала мой дневник. Я знаю, что скоро увижусь с Габриэлем. Я уже чувствую запах его сигарет. Мне не терпится. Нужно объясниться, ведь в последнюю нашу встречу мы поссорились. Пришла пора помириться.
Я помню запах ее духов. Почти не помню лицо. Только седые волосы, кожу, тонкие руки, плащ. Но особенно аромат. Я помню трогательность момента. То, как она говорила о Габриэле. Со мной остались звук ее голоса и уверенность, что однажды я увижу на пороге моего дома Жюльена.
Когда он впервые постучал в дверь, я забыла об Ирен. До чего же он был хорош в мятой одежде! Жюльен не напомнил мне мать, хрупкую светлую блондинку. У него были растрепанные жгуче-черные волосы и напоенная солнцем кожа. Когда Жюльен впервые коснулся меня ладонями, пропахшими табаком, я содрогнулась от наслаждения. И очень испугалась.
Перед тем как уехать в Марсель, я много раз набирала номер, но на звонки никто не отвечал. Он словно бы перестал существовать. Я даже позвонила в комиссариат, и мне ответили, что он в отъезде, но ему можно написать.
Что я могу написать?
Жюльен,
я безумна, одинока, невыносима. Вы в это поверили, уж я постаралась.
Жюльен,
я была так счастлива в вашей машине.
Жюльен,
я была так счастлива с вами на моем диване.
Жюльен,
я была так счастлива с вами в моей кровати.
Жюльен,
вы молоды. Но, по-моему, нам на это плевать.
Жюльен,
вы слишком любопытны. Ненавижу ваши повадки легавого.
Жюльен,
я хотела бы, чтобы ваш сын стал моим пасынком.
Жюльен,
вы в моем вкусе. Впрочем, я мало что в этом понимаю. Но думаю, что не ошибаюсь.
Жюльен,
мне вас не хватает.
Жюльен,
я умру, если вы не вернетесь.
Жюльен,
я жду вас. Я надеюсь на вас. Хочу изменить свои привычки, если вы измените ваши.
Жюльен,
я согласна.
Жюльен,
было хорошо. Просто замечательно.
Жюльен,
да.
Жюльен,
нет.
Жизнь выкорчевала мои корни. Моя весна мертва.
Я с тяжелым сердцем закрываю дневник Ирен. Как полюбившийся роман. Роман-друг, с которым трудно расставаться, который хочется держать под рукой. Честно говоря, я счастлива, что Жюльен оставил мне этот дневник в качестве прощального подарка. Когда вернусь домой, поставлю его на полку между любимыми книгами, а пока кладу в пляжную сумку.
Сейчас десять утра, я сижу на белом песке, опираясь спиной о скалу. В тени алеппской сосны. Деревья здесь растут в трещинах между камнями. Когда я дочитала последнюю страницу дневника, запели цикады. Солнце раскочегарилось вовсю и покусывает мне пальцы. Летом оно сжигает кожу в мгновение ока.
По извилистой тропинке к пляжу спускаются курортники с рюкзаками. В полдень на маленьком пляже будет полно ярких полотенец и зонтов. Мороженщиц с ящиками. Детей в Сормиу немного. В разгар сезона курортники и местные попадают в бухту пешком. Дорога вниз от стоянки Бометт занимает не меньше часа, и отцы часто несут детей на плечах. Счастливчики селятся в домиках на берегу.
Здесь разрешают курить в барах. Почтальоны сами расписываются за заказные письма, чтобы не тащиться по адресу второй раз, если человека вдруг не оказывается на месте. В Марселе все делают по-своему.
Вчера вечером Селия осталась на ужин. Она приготовила паэлью с морепродуктами и разогрела ее на большой сковороде. Я за это время разобрала свой синий чемодан и развесила платья на вешалках. Мы вытащили садовый чугунный столик, расстелили скатерть, налили воды и розового вина в красные графины. Набрали льда в желтую плошку, нарезали деревенского хлеба и поставили две разные тарелки. В домике вся посуда случайная, предметы попадали сюда в разное время и порознь. Мы рассказывали друг другу всякие глупости, ели золотистый рис и запивали его прохладным розовым вином.
Мы засиделись, и Селия осталась ночевать. Спала на одной кровати со мной, как в самый первый раз в Мальгранж-сюр-Нанси, во время забастовки железнодорожников.
Мы пили розовое вино. Селия зажгла свечи, и дедовская мебель «танцевала» в их свете. Окна были открыты, и сквозняк доносил до нас аромат паэльи. Я почувствовала голод, подогрела остатки, предложила Селии, но она отказалась. Я опустошила тарелку и, ставя ее на пол, взглянула на чудесный профиль подруги. Ее голубые глаза светились, как звезды в ночи. Я задула свечи.
– Мне нужно кое-что сказать… Это лишит тебя сна, но мы в отпуске, так что ничего страшного. Я больше не могу держать это в себе.
– …
– Франсуаза Пелетье была великой любовью Филиппа Туссена. Последние годы он прожил с ней. У нее. Явился в дом в тот день 1998 года, когда исчез из моей жизни. Но это не все. Я знаю, почему он исчез. Почему не вернулся к нам. В ту ночь… не пожар убил детей, а старик Туссен.
Селия вцепилась в мою руку и прошептала, совершенно ошеломленная:
– Что ты такое говоришь?
– Он поковырялся в старом газовом водонагревателе и поджег фитиль, не зная, что это запрещено. Строго-настрого. Им не пользовались много лет. Фитиль погас. Газ убивает быстро и мягко… они умерли во сне.
– Кто тебе это сказал?
– Франсуаза Пелетье. А она узнала от Филиппа Туссена. Потому-то он и не вернулся домой. Не мог больше смотреть мне в глаза… Помнишь песню Мишеля Жонаса[101]: «Скажите мне, скажите, что она ушла не из-за меня, скажите мне, скажите мне это»?
– Помню…
– Мне стало легче, когда я узнала, что Филипп Туссен ушел не из-за меня. Что все дело в его родителях.
Селия еще крепче сжала мою руку.
Заснуть не удалось, я думала о стариках Туссенах. Они давно умерли. В 2000-м со мной связался нотариус из Шарлевиль-Мезьера – он разыскивал их сына.
На рассвете в окно залетел теплый ветер, и Селия открыла глаза.
– Давай-ка сварим крепкого кофейку.
– Я кое-кого встретила.
– Давно было пора.
– Но все кончено.
– Почему?
– У меня своя жизнь, свои привычки… Уже давно. К тому же он моложе. И живет не в Бургундии. И у него семилетний сын.
– Много всяких «и». Но жизнь и привычки меняются.
– Думаешь?
– Уверена.
– Ты сменила бы привычки?
– Почему нет?
92
Жизнь – долгая потеря всего, что любишь.
Май 2017
Филипп жил в Броне уже девятнадцать лет. Девятнадцать лет назад он приехал из Шарлевиль-Мезьера к Франсуазе. Девятнадцать лет назад оказался утром у гаража в плачевном состоянии. Он решил, что в этот день родится заново. И зачеркнет день предыдущий, когда в последний раз общался с родителями. Филипп подвел жирную черту под прошлым, из которого хотел дезертировать. Плотно придавил крышкой годы, прожитые с Виолеттой, и запер мать с отцом в темной комнате памяти.
Оказалось очень просто назваться Филиппом Пелетье, стать сыном родного дяди. Племянник или сын в глазах окружающих – почти одно и то же. Филипп был «членом семьи», а значит, Пелетье.
Все получилось «на раз». Удостоверение личности спрятать в дальнем углу ящика, опустошить банковский счет, чтобы мать ничего о нем не знала. Превратить деньги в чеки на предъявителя. Не голосовать. Не использовать карточку социального страхования.
От Франсуазы он узнал, что Люк умер в октябре 1996-го. Люк. Умер и похоронен. Филипп очень горевал, но на могилу идти отказался: поклялся, что ноги его больше не будет ни на одном кладбище.
Год назад Франсуаза продала дом и теперь жила в Броне, в двухстах метрах от гаража. Она долго болела, очень похудела и постарела, но для Филиппа была еще желаннее, чем в воспоминаниях. Он промолчал, осознавая, как много зла натворил, скольким людям причинил боль.
Франсуаза поселила его в гостевой комнате. Как взрослого сына. Ребенка, которого у нее никогда не было. Была только надежда. Филипп купил новую одежду с первой зарплаты, которую Франсуаза выдала ему наличными вместо чека. Через несколько месяцев жизни в Броне он заговорил о переезде в маленькую студию недалеко от гаража, но Франсуаза сделала вид, что не слышит. И он остался. Их странное совместное проживание продолжилось: одна ванная на двоих, одна кухня, одна гостиная, совместные трапезы и разные спальни.
Он рассказал Франсуазе все. О Леонине, Женевьеве Маньян, нагревателе, адресе, оргиях, кладбище. О признании родителей, сделанном в Шарлевиле. Промолчал только о Виолетте. Произнес одну-единственную фразу: «Она ни в чем не виновата…»
Со временем он забыл, что в другой жизни его звали Филиппом Туссеном.
Жизнь с Франсуазой вернула ему мужество. Он научился работать в гараже, привык к запаху смазки, чинил жестянку, моторы, усмирил желания.
В декабре 1999-го Франсуаза тяжело заболела, нехорошо кашляла, температура зашкаливала, и Филипп вызвал врача. Выписывая рецепт и назначения, доктор спросил, кем он приходится Франсуазе, и Филипп не задумываясь ответил: «Мужем». Она улыбнулась и не возразила. Улыбка вышла бледная и усталая. Покорная.
По совету врача Филипп набрал в ванну горячей воды, раздел Франсуазу и помог лечь. Он впервые увидел ее обнаженной. Взяв махровую рукавичку, он протер ей живот, спину, лицо, шею и лоб. Она сказала: «Будь осторожен, не заразись!» – «Это случилось двадцать восемь лет назад…» – ответил он. В ночь с 31 декабря 1999 года на 1 января 2000-го они впервые занимались любовью. Встретили новый век в одной постели.
Филипп жил в Броне уже девятнадцать лет. Тем утром они с Франсуазой приняли решение продать гараж. Оба тосковали по солнцу и подумали, что было бы хорошо переехать в Сен-Тропе. Денег хватит на безбедную жизнь, Франсуазе скоро исполнится шестьдесят шесть, она всю жизнь работала. Теперь пришла пора отдохнуть.
Она отправилась в агентство недвижимости, специализировавшееся на продаже торговых и промышленных предприятий, а Филипп зашел домой переодеться во что-нибудь полегче и не потеть в синем рабочем комбинезоне. Он по-быстрому принял душ, натянул чистую футболку и пошел на кухню – съесть глазунью и бутерброд с сыром. Наливая кофе, он услышал, как на кафельный пол в прихожей упала почта, подобрал ее и кинул на стол. Сам он читал только журнал «Авто-Мото», который выписала для него Франсуаза, об остальных «бумажках» заботилась она.
Он размешивал сахар в чашке и вдруг прочел, не веря глазам: «69500, Брон, авеню Франклина Рузвельта, 13, господину Филиппу Туссену, в доме г-жи Франсуазы Пелетье».
Господину Филиппу Туссену. Он осторожно, как бомбу, взял в руки конверт, проштемпелеванный в Маконе. В качестве отправителя было указано адвокатское бюро. Он почему-то вспомнил тот день, когда увидел маленьких девочек, выходящих из детского сада, и принял одну из них за свою Леонину. Она была одета в платье в горошек.
Воспоминания обрушились на него, как убийственная лавина, как удар кулаком в живот. Смерть дочери, похороны, суд, переезд, своя неприспособленность к жизни, родители, мать, игровые приставки, горячие тела тощих баб, обвислые груди, жирные животы, лица Люси Лендон и Элоизы Пти, Фонтанеля, поезда, могилы, кошки.
Господин Филипп Туссен.
Он дрожащими пальцами вскрыл конверт. Вспомнил руки Женевьевы Маньян в их последнюю встречу, когда она сказала: «Я бы никогда не причинила зла малышкам».
Виолетта Туссен, в девичестве Трене, дала поручение адвокату устроить их развод «по взаимному согласию». Юрист просил господина Филиппа Туссена в кратчайшие сроки связаться с адвокатским бюро и договориться о встрече.
Он читал и видел лишь обрывки фраз: …иметь при себе удостоверение личности… название нотариальной конторы… был составлен брачный договор… профессия… национальность… место рождения… те же сведения для каждого из детей… согласие супругов на расторжение… без претензий на компенсацию… суд высшей инстанции Макона… оставление супружеского очага… без «продолжения».
Невозможно! Нужно немедленно это остановить. Сесть в машину времени.
Филипп сунул конверт во внутренний карман куртки, застегнул шлем и рванул туда. Хотя поклялся, что ноги его там не будет.
Как Виолетта нашла его адрес? Как узнала о Франсуазе? Откуда ей известна его новая фамилия? Родители давно умерли, но и пока были живы, понятия не имели, где живет их сын. Им ничего не было известно о Броне и Франсуазе. Нет, невозможно. Он не пойдет к этому адвокату. Никогда.
Она должна оставить его в покое. Они с Франсуазой переедут. Он теперь Филипп Пелетье. Фамилия Туссен будет вечно приносить ему несчастье. Кладбищенская фамилия, ассоциирующаяся со смертью и хризантемами. Фамилия, от которой несет могильным холодом и воспоминанием о кошках.
Две жизни, одна в сотне километров от другой. Он ни разу не подумал о том, что Брон находится так близко от Брансьон-ан-Шалона.
Он припарковался перед домом, у двери со стороны улицы. Как незнакомец у жилища, которое всегда терпеть не мог. Доставшегося им от прежнего смотрителя кладбища. Деревья, которые Виолетта посадила в 1997-м, стали высокими и ветвистыми. Решетка ограды перекрашена в темно-зеленый цвет. Он вошел без стука. Девятнадцать лет. Прошло девятнадцать лет!
Она все еще здесь? Начала новую жизнь? Конечно, начала, иначе зачем ей развод? Решила снова выйти замуж.
Что за странный привкус во рту? Металлический. Как будто в горло засунули ствол пистолета. Волна ненависти поднимается из глубины на поверхность. Хочется сжать кулаки. Ударить. Давно он не чувствовал этой горечи. Последние девятнадцать лет прожиты тихо и беззаботно. И вот зло возвращается. Он снова становится человеком, которого не любил, тем, кто сам себя не любил. Филиппом Туссеном.
Нужно вернуться в сегодняшнее утро. Отринуть мрачное прошлое раз и навсегда. Не жалеть себя. Не расслабляться. Нет, он не пойдет к адвокату. Нет. Он уничтожил удостоверение личности. Порвал с прошлым.
На кухонном столе, на журналах по садоводству, стояли пустые кофейные чашки. На вешалке – три шарфа и белый жакет. Ее запах. Аромат розы. Она живет здесь.
Он поднялся в спальню. Пару раз ударил по коробкам с жуткими куклами. Не удержался. Он и стены измолотил бы кулаками, если бы мог. Комната перекрашена, на полу бледно-голубой ковер, на кровати светло-розовое покрывало, тюль и шторы цвета свежего миндаля. На белом туалетном столике – крем для рук, книги, загашенная свеча.
В верхнем ящике комода лежало белье – того же цвета, что стены. Он лег. Представил, как она спит здесь.
Думает ли она о нем? Ждет ли? Она его искала или не потрудилась?
Он закрыл тяжелой крышкой прожитые с Виолеттой годы, но еще очень долго видел ее во сне. Слышал ее голос. Она окликала его, а он не отзывался, прятался в темном углу, надеясь, что Виолетта его не заметит, затыкал уши, чтобы не слышать ее мольбу. Просыпался весь в поту, на простыне, пропитавшейся чувством его вины.
В ванной он обнаружил духи, куски мыла разных сортов, кремы, соли для ванн, свечи, романы. В большой ивовой корзине с тремя ручками лежало белье, белая шелковая ночная рубашка, черное платье. Серый жакет.
В этом доме нет мужчины. Никакой общей жизни. Так зачем же она решила вспомнить о нем? Какого черта мусолит все это дерьмо? Хочет забрать деньги? Добивается алиментов? Нет. В письме адвоката сказано: «По взаимному согласию… без продолжения». Он услышал голос матери: «Не доверяй никому!»
Филипп спустился по лестнице. Опрокинул последние кукольные коробки. Ему захотелось сходить на кладбище, на могилу Леонины, но он не поддался импульсу.
За его спиной промелькнула тень. Филипп вздрогнул от испуга, но это была всего лишь старая собачонка. Она свернулась клубочком в своей корзинке и тихо засопела. В углу кухни, на полу, стояли миски с кормом. Филипп передернулся от омерзения, подумав, что мог бы все еще жить тут… вместе с блохастыми. Брр! Он вышел через заднюю дверь прямо в сад Виолетты.
Здесь тоже все разрослось, как в книжке сказок Леонины: плющ и дикий виноград карабкались вверх по стенкам, деревья хвастались друг перед другом желтыми, красными и розовыми листьями, земля притягивала взгляд цветочным ковром. Можно было решить, что сад перекрасили, как и спальню.
Виолетту он увидел не сразу. Она сидела на корточках в огороде. Они не виделись девятнадцать лет. Сколько ей теперь?
Не разнюнивайся!
Она была в черном платье в белый горошек, старом фартуке и резиновых сапогах. Отрастила волосы, собранные в хвост, несколько непослушных прядей щекочут шею. Руки защищены толстыми полотняными перчатками.
Виолетта его не замечала. Она поднесла правое запястье ко лбу, как будто хотела прогнать мошку или стряхнуть травинку или лепесток.
Ему захотелось схватить ее за шею и придушить. Любить и душить. Заставить замолчать. Исчезнуть. Чтобы не чувствовать вины перед ней.
Когда Виолетта поднялась и повернулась, на ее лице не отразилось ничего, кроме ужаса. В глазах не было ни удивления, ни гнева, ни любви, ни злости, ни сожаления. Только ужас.
Не будь слабаком!
Она не изменилась. Осталась все той же хрупкой девушкой, которая наливала ему выпивку в клубе «Тибурен». Чудесная улыбка. Морщинки. Черты лица все еще тонкие, красиво очерченный рот и кроткий взгляд. Возраст выдавали разве что углубившиеся носогубные складки.
Сохраняй дистанцию.
Не называй ее по имени.
Держись твердо.
Она всегда была красивее Франсуазы, но он выбрал не ее. На вкус и цвет… как любила говорить его мать.
Рядом с Виолеттой сидела кошка, и Филипп покрылся гусиной кожей. Он вспомнил, зачем вернулся на это злосчастное кладбище. Вспомнил, что не хотел помнить ни о ней, ни о Леонине, ни об остальных. Его настоящее – Франсуаза, и будущее – тоже Франсуаза.
Он грубо схватил Виолетту и сильно – слишком сильно – сжал ее руки, как будто хотел раздробить запястья. Так человек становится палачом, чтобы ничего не чувствовать. Ты должен разбудить в себе ненависть к этой женщине. Думай о родителях, сидящих на старом диване. О чемодане Леонины в багажнике машины Коссенов, о за́мке, водонагревателе, об оторопевшем отце, о матери в старом халате. Он смотрел не в глаза Виолетте, а в какую-то точку между бровями, легкую впадинку у «истока» носа.
Как хорошо она пахнет…
Забудь!
– Я получил письмо от адвоката и принес его тебе… Слушай внимательно – очень внимательно: ты больше никогда не напишешь мне на этот адрес, ясно? Ни ты, ни твой адвокат, НИКОГДА. Я больше не хочу видеть твою фамилию, иначе я тебя… я тебя…
Он отпустил ее так же резко, как схватил, и она отшатнулась. Как марионетка. Он сунул конверт в карман фартука и почувствовал ладонью живот под тканью. Ее живот. Леонина. Повернулся. Пошел через кухню.
Толкнул стол и уронил на пол «Правила виноделов», узнал красное яблоко на обложке и вспомнил, что эта книга у Виолетты с Шарлевиля, она все время ее перечитывает. Семь фотографий Леонины разлетелись веером по ковру. Филипп после секундного колебания все-таки наклонился и начал подбирать их, одну за другой. Год, два, три, четыре, пять, шесть, семь лет. Она и правда была похожа на него. Он вернул снимки в книгу и бесшумно положил томик на край столешницы.
В этот миг крышка, девятнадцать лет придавливавшая воспоминания о годах жизни с Виолеттой, сорвала резьбу и шваркнула его по лицу. Он увидел Леонину, ее образ вспыхнул, погас, а потом воспоминания нахлынули, как штормовой прибой. Леонина в роддоме – их первая встреча. Леонина между ним и Виолеттой в супружеской постели. Леонина в одеялке, в ванне, в саду, у дверей. Леонина идет по комнате, рисует, лепит из пластилина, ест, плещется в надувном бассейне, бежит по школьному коридору. Леонина зимой, летом, в красном атласном платьице, ее ладошки, ее фокусы. И он, отец. Вечно где-нибудь в другом месте. Он – визитер в жизни дочери, родившейся вместо желанного сына. Все истории и сказки, которые он не прочел Леонине. Все поездки и путешествия, не совершенные вместе с ней…
Сев на мотоцикл, Филипп почувствовал, что из носа текут слезы. Дядя Люк говорил: «Если плачешь носом, значит, глазной дозатор слез переполнился. Все как у моторов, малыш». Люк. Любимый дядя, у которого он, ничтожный червь, украл жену.
Он сорвался с места, решив, что остановится, отъехав подальше, переведет дух и попробует успокоиться. Боковым зрением заметил крест через решетку ограды и подумал, что никогда не верил в Бога. По вине отца. Из-за молитв, которые тот все время бормотал, внушая сыну отвращение к слову Божию. Перед глазами встала картинка: его первое причастие, церковное вино, Франсуаза под руку с Люком…
- Отче наш, Иже еси на небесех!
- Да святится имя Твое,
- Да приидет Царствие Твое,
- Да будет воля Твоя,
- Яко на небеси и на земли.
- Хлеб наш насущный даждь нам днесь;
- И остави нам долги наша,
- Якоже и мы оставляем должником нашим;
- И не введи нас во искушение,
- Но избави нас от лукаваго.
- Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.
- Аминь.
Триста пятьдесят метров он ехал вдоль кладбищенской ограды. Все быстрее и быстрее, и три мысли шли на таран, противореча друг другу.
Вернуться и попросить прощения у Виолетты. Прости, прости, прости…
Как можно скорее вернуться к Франсуазе и уехать с ней на юг. Уехать, уехать, уехать…
Встретиться с Леониной. Найти ее, найти ее, найти ее…
Виолетта, Франсуаза, Леонина.
Снова увидеть дочь, почувствовать, коснуться, надышаться ею.
Филипп впервые так неистово нуждался в дочери. Когда-то он хотел ее рождения, чтобы удержать при себе Виолетту. Сегодня он желал Леонину как ребенка. Сильнее переезда на юг, больше Франсуазы и Виолетты. Это желание заполнило все окружающее пространство. Леонина должна ждать его… где-нибудь. Да, она ждет. Он ничего не понял, потому что был плохим отцом. Теперь он впервые станет папой – там, где снова обретет ее.
Он расстегнул ремешок шлема. Ускорился на первом же повороте. Ускорился и направил машину на деревья росшего на склоне государственного леса. С ним не происходило ничего банального – картины жизни не проносились в памяти, как иллюстрации в книге, которую листаешь от нечего делать. Прямо перед деревьями, на обочине дороги, стояла молодая женщина. Нет, не может быть. Она смотрела, как он летит на скорости под двести километров и не собирается тормозить. Я уже видел ее. На старинной гравюре. Или на почтовой открытке, – подумал Филипп и нырнул в свет.
93
Мы – конец лета, жара городских вечеров, жизнь, продолжающаяся в городских квартирах.
Я еще не вошла в воду. Каждый август я оттягиваю момент первого купания. Я боюсь не найти Леонину. Не почувствовать ее. Боюсь, что она не явится на свидание – из-за меня. Что не услышит мой зов. Мой голос. Что перестала чувствовать мою любовь. Я боюсь, что больше не люблю ее как положено, что могу потерять ее навечно. Этот страх иррационален, необоснован – смерть никогда не разлучит нас.
Я встаю, потягиваюсь, бросаю шляпу на полотенце и направляюсь к бескрайнему изумрудному ковру с перламутровыми отблесками. Все вокруг сверкает под ярким утренним светом.
Он обещает чудесный день. Марсель всегда держит слово.
В этот час, если небо хмурится, вода в море черная и прохладная. Я медленно плыву навстречу волнам, закрываю глаза и погружаюсь. Она уже здесь, она всегда здесь, она никуда не исчезала. Потому что она во мне. Я чувствую ее эфирное присутствие, вдыхаю запах горячей соленой кожи, как делала, когда она забиралась на меня, чтобы отдохнуть под зонтиком. Ее ладошки касались моей спины, как две маленькие марионетки.
Моя любовь.
Я всплываю, смотрю в глаза синему небу и убеждаюсь, что Лео всегда пребудет внутри меня. Это и есть вечность.
Мне не хочется выходить – как и каждый раз, я плаваю, смотрю, как клонятся под ветром сосны, наблюдаю жизнь. Я рядом с ней, она – со мной. Гребу к берегу. Чувствую ногами дно. Поворачиваюсь спиной к пляжу, гляжу на горизонт, на стоящие на якоре корабли, белые камешки на дне. На земле нет места спасительнее, здесь все – красота, здесь элементы стихии «чинят» живых.
Становится жарко, соль обжигает лицо, щиплет губы. Я закрываю глаза, опускаю лицо в воду и плаваю «наугад». Мне нравится вслушиваться в море.
Я чувствую присутствие, еще одно. Кто-то касается меня. Гладит бедра, кладет ладонь на живот. «Приклеивается» к спине и повторяет движения, получается танец, почти вальс. Я чувствую бьющееся за спиной сердце и не сопротивляюсь. Я поняла. Имплантация другой любви, нового сердца – мне. Губы касаются моей шеи, он не перестает гладить меня – легко, деликатно. Как же я надеялась, что это случится! Надеялась – и не верила. Я всплываю, он открывает и закрывает глаза, ресницы щекочут мне щеку, как крылья бабочки. Он вдыхает мой запах. Я ложусь на воду. Он поддерживает меня снизу, мое тело свободно, я отдаюсь на его волю, он находит меня, я нахожу себя.
Мы есть.
Мы.
Взрывы смеха.
Ребенок.
Трое.
Маленькая, нервная, горячая, как у Леонины, ладошка хватает меня за руку, подплывает ближе, прижимается.
Надеюсь, это не сон, надеюсь, я жива. Ребенок прыгает мне на руки. Целует мокрыми губами лоб и волосы. Откидывается назад, издав радостный вопль.
– Натан!
Я выкрикиваю его имя как молитву.
Движения Натана стремительны и неуклюжи. Он таращит глаза, как все дети, недавно научившиеся плавать, ему боязно, но и весело. Он хохочет, и я вижу, что два зуба уже «прибрала» мышка. Он сует в рот загубник трубки, опускает лицо под воду и плавает широкими кругами, выныривает, отплевывается, срывает очки и смотрит лучистыми карими глазами мне через плечо. На Жюльена, который шепчет мне на ухо: «Идем…»
94
Не проходит ни дня, чтобы мы не думали о тебе.
Суббота, 7 сентября 2017 года, небо голубое, +23°, 10.30. Похороны Фернана Окко (1935–2017). Дубовый гроб. Стела черного мрамора. Могила, в которой лежат Жанна Окко, в девичестве Тийе (1937–2009), Симона Окко, в девичестве Луи (1917–1999), Пьер Окко (1913–2001), Леон Окко (1933).
Венок из белых роз, лента: «Наши искренние соболезнования». Венок из белых лилий в форме сердца, лента: «Нашему деду и прадеду». На крышке гроба – красные и белые розы, лента: «От ветеранов, товарищей по оружию».
Три траурные таблички: «Нашему отцу и деду. В память о том, как мы любили друг друга», «Нашему другу. Мы никогда тебя не забудем. Ты всегда в наших мыслях. Твои друзья-рыбаки», «Ты близко, на другом конце дороги».
Присутствовали пятьдесят человек, в том числе три дочери Фернана – Катрин, Изабель и Натали – и семь его внуков.
Элвис, Гастон, Пьер Луччини и я стоим сбоку от могилы. Ноно отсутствует. Он готовится к свадьбе с графиней де Дарьё, которая состоится в мэрии Брансьона, в 15.00.
Отец Седрик читает отходную молитву, обращается он к Господу не только ради Фернана Окко. Теперь в разговоре с Ним кюре всегда поминает Камаля с Анитой. Он читает Первое соборное послание святого апостола Иоанна Богослова: «Глава 3, 14, 15, 17,18».
Семья попросила Пьера Луччини включить любимую песню Окко, когда гроб будут опускать в могилу. «Мою свободу»[102] Сержа Реджани.
Я никак не могу сконцентрироваться на прекрасных словах. Думаю о Леонине, о ее отце, о Ноно, который сейчас надевает свадебный костюм, а графиня завязывает ему галстук, думаю о Саше, путешествующем по водам Ганга, думаю об Ирен и Габриэле, которые общаются на «ты» в Вечности, думаю об Элиане – она теперь бегает в райском саду за своей хозяйкой Марианной Ферри (1953–2007), я думаю о Жюльене и Натане – они будут здесь через час, думаю об их руках, их запахе, жаре их тел, думаю о Гастоне – он так и будет вечно падать, а мы поднимать его, думаю об Элвисе, который никогда не услышит никакой музыки, кроме песен Элвиса Пресли.
Я уже несколько месяцев живу, как Элвис. Слышу одну и ту же мелодию. Она заглушает все остальное – и шепоты, и мысли. Это песня Венсана Делерма «Жизнь впереди».
Благодарности
Спасибо Тесс, Валентину и Клоду, моему вечному источнику вдохновения.
Спасибо Яннику, моему обожаемому брату.
Спасибо бесценной Маёль Гийо. Спасибо всей команде «Альбен Мишель».
Спасибо Амели, Арлетт, Одри, Эльзе, Эмме, Катрин, Шарлотте, Жилю, Кате, Манон, Мелюзине, Мишелю, Мишель, Саре, Саломе. Сильви, Уильяму за вашу неоценимую помощь. Большая удача, что все вы рядом.
Спасибо Норберу Жоливе, который живет на свете, существует в настоящей жизни. Я не изменила ни фамилию, ни имя, потому что в этом человеке, могильщике, тридцать лет живущем в городе Геньёне, ничего не нужно менять. Благодаря работе над романом этот творец радости и доброжелательности стал моим другом. Надеюсь, мы до скончания века будем пить с тобой кофе и «Кассис Блан»[103].
Спасибо Рафаэлю Фату, открывшему передо мной дверь своего забавного и такого гуманного магазина «Les Tourneurs du Val»[104]. Он находится в Трувиль-сюр-Мар и торгует похоронными принадлежностями. Рафаэль доверился мне и рассказал, как любит свое ремесло, с каким уважением относится к смерти и к настоящему.
Спасибо папе – за его сад и увлекательную науку.
Спасибо Стефану Бодену – за мудрые советы.
Спасибо Седрику и Кароль – за фотографию и дружбу.
Спасибо Жюльену Сёлю, «одолжившему» мне свои имя и фамилию.
Спасибо господам Дени Файолю, Роберу Бадинтеру и Эрику Дюпон-Моретти.
Спасибо всем моим марсельским и кассиским друзьям, вы – мое убежище. Моя хижина.
Благодарю Джонни Холлидея, Элвиса Пресли, Шарля Трене, Жака Бреля, Жоржа Брассенса, Жака Превера, Барбару́, Рафаэля Арата, Венсана Делерма, Клода Нугаро, Жан-Жака Гольдмана, Бенжамена Бьоле, Сержа Реджани, Пьера Бару, Франсуазу Арди, Алена Башунга, Чета Бейкера, Дамьена Саэза, Даниэля Гишара, Жильбера Беко, Франсиса Кобореля, Мишеля Жонаса, Сержа Лама, Элен Бои и Аньес Шомье.
Ну и, наконец, СПАСИБО всем, кто принял мой первый роман Les Oubliés du dimanche[105] (2015, Albin Michel). Второй я написала благодаря вам.
