Итальянское путешествие
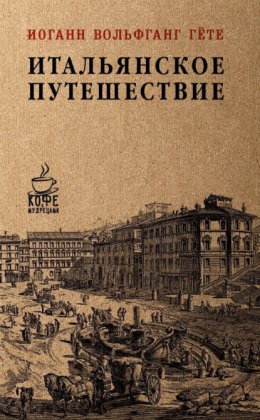
Вступительная статья
Люди всегда любили путешествовать. До определенного момента путешествие было, пожалуй, единственным способом составить свое представление о мире – или, по крайней мере, об отдельных его частях. В отсутствие скоростных и комфортабельных способов передвижения любой путешественник был вынужден мириться с огромным количеством неудобств и опасностей в пути, однако даже перспектива провести в дороге недели, а то и месяцы редко останавливала желающих повидать свет. Размеренный и неспешный темп перемещения позволял странствующим созерцать постепенную смену ландшафта, проникаться местным колоритом и близко знакомиться с региональной кухней или национальными обычаями. Путешествие было способом пожить, хотя бы недолго, иной, непривычной жизнью, украсить рисунок собственного бытия экзотическим узором. Анатолю Франсу приписывают слова: «Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше, чем десять лет жизни дома». Эта цитата иллюстрирует представление о путешествиях как о способе не только обогатить жизнь и насытить ее новыми впечатлениями, но и «уплотнить» ее, придать собственному бытию не свойственную ему интенсивность и насыщенность.
География туристических «миграций» всегда была чрезвычайно обширна – кажется, на карте мира уже к XIX столетию почти не осталось неизведанных мест. Путешественников не отпугивали ни зной Африки, ни льды Антарктиды, ни опасные тайны Востока, однако во все времена были места, в которые мечтали вернуться даже повидавшие весь мир бродяги. Одной из таких точек притяжения всегда была Италия. Согретая солнцем и овеянная древними легендами, она неизменно привлекала странников всех категорий – от поэтов и музыкантов до авантюристов и шарлатанов. Веками сюда съезжались ценители классической древности и прекрасной музыки, любители щедрой южной природы и средиземноморской кухни, а также страждущие душой и телом в надежде обрести исцеление и покой. Являясь колыбелью многих видов искусства, Италия притягивала художников и скульпторов, которым всегда было чему поучиться у местных мастеров. Неудивительно, что именно эта страна была самым популярным, а иногда и единственным пунктом в программе так называемого гран-тура – заграничного путешествия, предпринимаемого молодыми европейцами для завершения образования.
Традиция совершать «большое путешествие» восходит к семнадцатому столетию и охватывает преимущественно состоятельные слои населения – позволить себе долгую развлекательную поездку могли только представители аристократии и крупной буржуазии. Гендерные и возрастные ограничения тоже присутствовали – для девушек подобное предприятие было сопряжено с рядом опасностей и неудобств; женатые мужчины и люди в возрасте тоже не всегда имели возможность путешествовать для удовольствия. Таким образом, по Европе странствовали, как правило, молодые люди, не обремененные семьей или службой, не стесненные в средствах и желающие «повидать мир», на практике ознакомиться с теми шедеврами культуры или историческими памятниками, о которых им твердили учителя и профессора в учебных заведениях. Но главной целью, бесспорно, было расширение кругозора и получение жизненного опыта, отличного от того, который могла предложить комфортная рутина домашней жизни.
Традиционный маршрут гран-тура варьировался в зависимости от места жительства самого путешественника и мог включать Великобританию, Францию, Швейцарию, Нидерланды, но Италия всегда была на первом месте. Больше всего сюда тянуло уроженцев Туманного Альбиона, которые со времен Джеффри Чосера (а может быть, и легендарной поездки короля Артура в Рим) стремились попасть на родину Данте и Петрарки. Великий английский поэт Джон Милтон, автор «Потерянного рая», по окончании университета провел в Италии год и успел посетить Геную, Ливорно, Флоренцию, Рим и Неаполь. Его соотечественник Гораций Уолпол, «отец» английского готического романа, отправился в Италию со своим другом, поэтом Томасом Греем. Два светоча английской литературы побывали в Турине, Генуе, Пьяченце, Реджио, Парме, Болонье, Модене, Флоренции и Риме. Италия была в обязательной программе гран-тура поэта-романтика Уильяма Вордсворта, критика и искусствоведа Джона Рёскина, писателя Оскара Уайльда. Несмотря на различие маршрутов, почти никто из гостей страны не устоял перед искушением посетить Вечный город Рим, родину Данте (Флоренцию) и Венецию.
Многие путешественники, приехав в Италию с обычным туристическим визитом, оставались здесь надолго, если не навсегда. Годами длились итальянские поездки Джона Донна, Сэмуэла Тэйлора Кольриджа, Байрона, супругов Шелли. Второй родиной стала Италия для супругов Роберта Браунинга и Элизабет Баррет-Браунинг.
Соотечественников Гёте страсть к Италии тоже не обошла стороной. Выдающийся немецкий критик, историк и археолог Иоганн Винкельман так жаждал своими глазами увидеть руины Древнего Рима и сокровища итальянского искусства, что даже согласился перейти в католичество – это дало ему возможность получить должность при библиотеке в Ватикане. На такой же шаг пошел друг Винкельмана, художник Антон Рафаэль Менгс. Он женился на итальянке и долгое время жил «на две страны», постоянно переезжая из Италии в Германию и обратно. Крупнейший немецкий драматург и критик эпохи Просвещения Готхольд Эфраим Лессинг посетил Венецию, Флоренцию, Геную, Турин, Рим и Неаполь, сопровождая принца Леопольда. Практически по следам Гёте, в год его возвращения на родину, в Италию поехал его единомышленник по «Буре и натиску», поэт и критик Иоганн Гердер. Один из ведущих представителей немецкого романтизма Август Шлегель совершил продолжительную поездку в Италию в компании французской писательницы Жермены де Сталь.
У немцев Италия не могла не вызывать двойственного чувства. Начиная с древних времен германцы и римляне воспринимались как народы-антагонисты, разделенные несходной культурой, традициями, системой ценностей. Суровые воинственные варвары, живущие под пасмурным небом, противостояли утонченным италийцам, изнеженным средиземным солнцем и морским климатом. Постоянные столкновения германских племен и римлян ослабляли великую империю последних и постепенно меняли карту древней Европы. Многовековое противостояние завершилось в 476 году, когда Одоакр, наемник из числа варваров, сместил последнего римского императора Ромула Августа и стал первым королем Италии. Спустя какое-то время часть территорий бывшей Римской империи вошла в состав нового государства с несколько обманчивым названием Священная Римская империя, столицей которого был Рим, но политический центр находился в Германии. Однако слияния или взаимопоглощения столь разных по своему характеру культур, как итальянская и немецкая, не произошло. Италии досталось богатое наследие, воплощенное в ее литературе, архитектуре, изобразительном искусстве. Благодаря непосредственной связи итальянского языка и латыни классическая античность в Италии всегда была настоящим, а не прошлым этой страны – ее жители ходили по тем же дорогам, что и Октавиан Август, Юлий Цезарь, Цицерон, Сенека; их окружали шедевры древних скульпторов и архитекторов – Колизей, Форум, Пантеон. Великая история пронизывала повседневность простых итальянцев, а в их языке звучали отголоски «Энеиды» и «Метаморфоз». Неудивительно, что масштабный переворот в культуре, известный как Возрождение, начался именно здесь.
К германским народам ни климат, ни история не были столь благосклонны. Феодальная раздробленность, междоусобные распри, множество диалектов вместо единого национального языка – эти факторы существенно тормозили немецкую культуру и задерживали наступление Ренессанса. Античное наследие не получило здесь органичного усвоения, оставаясь чуждым для германских народов на уровне как языка, так и менталитета. Наверно, вместо Муз над территорией Германии реяли воинственные и беспощадные северные боги, так как период Средневековья и Возрождения был отмечен здесь изобильным урожаем войн, конфликтов и столкновений. Реформация только усугубила ситуацию, расколов Европу на две части – протестантскую и католическую. Италия и Германия оказались по разные стороны в религиозном конфликте… И все же мечта о Вечном городе, знойных черноглазых красавицах и безмолвном величии античных руин не покидала немецких мыслителей и поэтов. Отправляясь в Италию, Гёте осуществлял мечту многих своих соотечественников, так и не повидавших родину Вергилия и Торквато Тассо.
Поездку Вольфганга Иоганна Гёте нельзя назвать гран-туром в собственном смысле. Университетские годы Гёте остались позади, и он был уже знаменит как писатель: его роман «Страдания юного Вертера» бурно обсуждался во всех литературных объединениях и светских салонах Германии, не менее известной была его историческая драма «Гец фон Берлихинген». На момент своего итальянского вояжа великий поэт достиг солидного возраста тридцати семи лет, к которому многие его ровесники давно уже имели семью и приличную «службу». Последняя была и у Гёте – он исполнял функции придворного советника в Веймаре, и ему пришлось просить у своего покровителя, герцога Карла-Августа, разрешения отправиться в отпуск, продлившийся с осени 1786-го до лета 1788-го. За неполные два года Гёте побывал в Венеции, Вероне, Болонье, Риме, Неаполе и других итальянских городах, фиксируя свои впечатления в письмах друзьям и в путевом дневнике, который представлен читателям в нашем издании.
Путевые записки, являясь одним из самых популярных видов словесности, не подразумевают четкого жанрового канона. Определение «путевой дневник» объединяет такие разные по стилю и поэтике тексты, как «Книга чудес света» Марко Поло, «Хождение за три моря» Афанасия Никитина, «Теневые картины» и другие дорожные заметки Ганса Христиана Андерсена, «Новое путешествие вокруг света» Уильяма Дампира, «Путешествие натуралиста» Чарльза Дарвина. Желание фиксировать свои дорожные впечатления может иметь самые разные источники и причины – научные или сугубо личные, просветительские, философские и т. д. Иногда потребность поверять свои мысли бумаге связана с особым чувством одиночества, присущим только путешественникам. В его основе – ощущение оторванности от родной почвы и круга знакомых лиц, желание поделиться новыми впечатлениями, сохранить их в первозданной свежести и полноте, которую они утратят, пока достигнут оставшихся на родине слушателей. Путевой дневник зачастую помогает отразить именно то душевное состояние, которое побуждает путешественника оторваться от привычной среды и сменить рутину повседневности на непредсказуемую кочевую жизнь, полную опасностей и приключений. В дороге любая обыденная мелочь, любой бытовой эпизод, будь то трапеза в придорожной таверне или встреча с местными жителями, обретает обаяние экзотичности, «иномирности», превращается в событие, требующее запечатления на бумаге.
Хотя путевые заметки относятся к разряду документальной или публицистической, а не художественной литературы, в них почти всегда присутствует значительная доля субъективности, не вымысла в чистом виде, но авторского произвола, позволяющего путешественнику самому выбирать, какие аспекты своего странствия запечатлеть, а какие опустить, формируя тем самым уникальный и неповторимый образ описываемого объекта. Так возникли гоголевская Италия, грибоедовский Кавказ, филдинговский Лиссабон – яркие и запоминающиеся образы, рассказывающие о своих создателях не меньше, чем о географических объектах, с которыми связаны. При этом Кавказ Грибоедова отличается от Кавказа Пушкина, а Европа в «Письмах русского путешественника» Карамзина мало похожа на Европу Павла Анненкова, изображенную в его «Путевых записках».
В случае с «Итальянским путешествием» Гёте степень субъективности, преобладания реминисцентности над фактографичностью значительно усугубляется тем обстоятельством, что писатель издал путевой дневник лишь чрез тридцать лет после самого путешествия, все эти годы продолжая работу над своим сочинением. В строгом смысле «Итальянское путешествие» является не дневником поездки, а переосмысленным и задокументированным воспоминанием о ней. Факты и описания реальных событий здесь дополняются более поздними размышлениями, превращая Италию из непосредственных впечатлений в Италию из фантазий и грез поэта.
«Итальянскому путешествию» предпослана фраза на латыни, гласящая «И я в Аркадии!» (Et in Arcadia ego!). Этот эпиграф указывает на неразрывную связь Италии с классической Античностью, а также отсылает нас к популярному в европейской культуре мифу о языческом рае, обетованной земле. Эпиграф задает смысловой и стилистический регистр всему дневнику. В тексте периодически встречаются фразы на латыни, цитаты из древнеримских авторов, что настраивает читатели на восприятие гётевской Италии как родины классической учености, колыбели европейской литературы, а не просто туристического объекта. Сравнение Италии с Аркадией подчеркивает недосягаемость, труднодоступность этой страны и одновременно ее желанность. В эпиграфе звучат ликование, непосредственная и искренняя радость человека, чье заветное желание наконец исполнилось. Нельзя не ощутить здесь же характерной для Гёте иронии и самоиронии (можно интерпретировать эпиграф как пародию обывательски-самодовольного «вот и я сподобился/удостоился такой чести»). Возможно, эпиграф также отражает момент соперничества Гёте с его отцом. Иоганн Каспар Гёте в свое время выбрал Италию для гран-тура и составил путевой дневник на итальянском языке, «Viaggio per l’Italia».
Описывая свою поездку, Гёте неоднократно подчеркивает, что в Италии переживает подлинное перерождение. Символически это выражается, в том числе, в отказе от его настоящего имени (в поездке Гёте стремился сохранить инкогнито, пользуясь псевдонимом). Он отправляется в путешествие сразу после своего дня рождения, тем самым начиная новую жизнь, свободную от прежних обязательств и забот.
Несмотря на многозначительный эпиграф и настроение восторженного предвкушения, Гёте начинает дневник с нарочито приземленной записи, полной обыденных подробностей: «Я сел в почтовую карету, имея при себе только чемодан да баул на крыше», «Фрукты здесь неважные. Хорошие груши я уже ел, но меня разбирает тоска по винограду и винным ягодам». Нельзя забывать, что поездка начинается в Карлсбаде, то есть в Германии, которая мыслится как территория привычного, повседневного. Гёте словно экономит душевные силы и ресурсы восприятия для наслаждения подлинными древностями и красотами, которые ждут его в Италии. «Только увидев эти творения собственными глазами, познаешь всю их значимость, ибо подлинной своей величиной и материальностью они дают пищу зрению, а прекрасной пространственной гармонией доставляют удовлетворение духу».
Гёте-путешественник необыкновенно любознателен: его интересуют самые разные особенности тех мест, в которых он оказывается, – от климатических до этнографических. Он обращает внимание не только на очевидные для туриста «приманки», такие как архитектура или национальная кухня. Гёте подмечает особенности местной флоры и ландшафта, причудливость обычаев, анализирует геополитические и культурные факторы, повлиявшие на развитие того или иного района. В пути он не забывает об одном из главных своих увлечений – минералогии, подробно и красочно описывая встречающиеся ему образцы горных пород. Характер повествования не дает читателю забыть, что перед ним – сочинение ученого, просветителя, неутомимого исследователя. Немалая часть текста «Итальянского путешествия» посвящена не фиксации впечатлений, а размышлениями и рассуждениям на социокультурные или экономические темы – например, о роли католической церкви в развитии искусства или о причинах бедственного положения крестьян в винодельческих районах. В поездке Гёте проявляет себя не как отстраненный наблюдатель или турист, следующий по намеченному маршруту. Бедность и плачевный уровень жизни простого народа вызывают у него жалость и негодование, свидетельство упадка некогда высокой культуры – сожаление. Его повествование никак нельзя назвать бесстрастным – в нем есть место и гневным инвективам, и метким сатирическим зарисовкам, и добродушной иронии. Например, Венецию он шутливо называет «республикой бобров», а элементы готического декора сравнивает с курительными трубками.
Еще одной выраженной особенностью текста можно считать стремление Гёте проводить последовательное противопоставление итальянского и немецкого не в пользу последнего. Соотечественников Гёте иронично называет «киммерийцами» и винит во многих прегрешениях даже климатические особенности своей родины ставя немцам в упрек: «Мы, киммерийцы, едва знаем, что такое день. В вечном тумане и сумраке, что день, что ночь, нам все равно». Итальянцы же кажутся ему беспечными и прекрасными детьми, близкими к природе и сохранившими вкус к жизни. Аналогичным образом Гёте противопоставляет прошлое и настоящее Италии (чаще всего в терминах «величие» и «упадок»).
В своей поездке Гёте старается получить как можно более широкий спектр впечатлений: забирается на горы, бродит по развалинам и посещает деревенские праздники. В Боцене он идет на ярмарку, в Вероне бродит по старому кладбищу, в Виченце идет в оперу, а в Венеции – в театр. Он присутствует на судебном разбирательстве во Дворце дожей, на Лидо собирает раковины, в Неаполе поднимается на дымящийся Везувий. Узнав, что в Палермо проживает семья графа Калиостро, Гёте просит познакомить его с родственниками знаменитого авантюриста.
Пожалуй, на всем протяжении своего путешествия Гёте ни минуты не оставался праздным созерцателем общеизвестных достопримечательностей – даже в самой маленькой полузаброшенной деревушке он находил объекты для изучения. Это выполнение сознательной установки поэта на получение многообразного практического опыта, способствующее, как он сам считает, развитию и оживлению всех чувств, слегка притупившихся от рутины бюргерского существования в Веймаре: «Важны только чувственные впечатления, которых не дает никакая книга, никакая картина. Дело в том, что я вновь ощущаю интерес к окружающему меня миру, испытываю свою способность наблюдать, проверяю, достаточно ли велики мой опыт и знания, довольно ли ясен, чист и проницателен мой глаз, многое ли он может схватить при такой быстроте передвижения и есть ли надежда, что изгладятся морщины, глубоко избороздившие мою душу».
Конечной же целью путешествия, по его собственным словам, является поиск самого себя, познание своего «я», отраженного в окружающих объектах: «Я пустился в это замечательное путешествие не затем, чтобы обманывать себя, а чтобы себя познать среди того нового, что мне откроется». Наивный романтический эгоцентризм Гёте приводит к тому, что окружающая его в поездке реальность подчас кажется ему вторичной, взятой из его собственных произведений, или постановочной: «Мне нет-нет да и встречаются мои „сочиненные“ люди…»; «Все, что здесь обитает и движется, напомнило мне мои любимые картины… ожившие картины Генриха Рооса».
Пейзажи, городские и сельские сценки кажутся Гёте иллюстрациями к его собственным мыслям, и даже природа насквозь литературна и пронизана цитатами из классики или соткана из них. Так, глядя на озеро в Торболе, поэт вспоминает его описание у Вергилия, по которому сверяет свои впечатления: «Впервые то, что гласит этот латинский стих, воочию стоит передо мной, а сейчас, когда ветер крепчает и непрестанно растущие волны бьются о пристань, все выглядит точно так же, как и много веков тому назад. Кое-что, правда, стало иным, но озеро по-прежнему вскипает под порывами ветра, и вид его на веки веков облагорожен строкою Вергилия». Сын трактирщика напоминает ему его собственного персонажа, толпа зевак в Мальчезине – хор птиц в Эттерсбургском театре, где сам Гёте исполнял небольшую роль, а гондолы в Венеции вызывают чувство узнавания и переживания радостей детства, потому что напоминают подаренную отцом игрушку. Поэт ищет в полученных впечатлениях подтверждение собственных идей и представлений, почерпнутых преимущественно из книг, спектаклей, картин, с которыми успел ознакомиться до поездки.
В дороге, несмотря на обилие впечатлений, Гёте продолжает обдумывать свои неоконченные произведения, например трагедию «Ифигения в Тавриде», и окружающий ландшафт и атмосфера нового для него места органически вплетаются в его замысел. Творческим итогом поездки, помимо самого дневника, стали пьесы «Эгмонт» и «Торквато Тассо», а также написанные после возвращения в Германию «Римские элегии».
Кульминацией поездки Гёте было посещение Рима, который он называет столицей мира. Так же, как и Венеция, Рим для поэта был в первую очередь воплощением его грез и книжных впечатлений, поэтому восторг от посещения Вечного города перемешивался с чувством узнавания «старого знакомого»: «Все мечтания юности воочию стоят передо мной… все, что я давно знал по картинам и рисункам, по гравюрам на меди и на дереве, по гипсовым и корковым слепкам, теперь сгрудилось вокруг меня; куда бы я ни пошел, я встречаю знакомцев в этом новом мире. Все так, как мне представлялось, и все ново».
В Риме Гёте встречается со своим другом, художником Иоганном Генрихом Вильгельмом Тишбейном и получает доступ в мир местной богемы. Это позволяет ему получать уроки живописи от мастеров и знакомиться с жемчужинами музеев и картинных галерей под руководством самых компетентных гидов в лице художников. Гёте ощущает себя учеником, оказавшимся в самой грандиозной школе мира. Однако он торопится не столько обзавестись впечатлениями, сколько осмыслить и прочувствовать их – для этого, как ни парадоксально, Гёте готов расстаться с великим городом: «Предвижу, что, когда придет время уезжать, я уже захочу быть дома». Поэт мысленно осуществляет редактуру своих римских впечатлений, готовясь к той работе, которая займет у него около тридцати лет: отсеивать случайное и незначительное, подчеркивать значимое и вневременное. «Так дозвольте же мне собирать, что попадется под руку, все упорядочить я успею. Я здесь не для того, чтобы наслаждаться на свой лад, а чтобы ревностно усваивать то великое, что мне открылось, учиться и совершенствоваться».
Хотя Гёте не стремится задержаться в Риме дольше необходимого, эта страница итальянского путешествия долго остается для него незавершенной. Он еще раз вернется в «столицу мира» на обратном пути и пробудет здесь почти год. Однако вторая часть его поездки проходит в иных декорациях – он посещает Сицилию, о которой высказывается очень многозначительно: «Италия без Сицилии оставляет в душе лишь расплывчатый образ: только здесь ключ к целому».
Неаполь показался ему нескончаемым шумным карнавалом, праздником жизни, который слегка утомившийся поэт был рад покинуть. Как признавался сам Гёте в письме, он сожалел о своем отъезде из Неаполя лишь по одной причине: поэт не успел налюбоваться величественным зрелищем извергающегося вулкана. На обратном пути Гёте решил подольше задержаться в Риме, чтобы еще раз без спешки насладиться местными достопримечательностями и сокровищами мирового искусства, хранящимися в многочисленных музеях столицы, а также заняться живописью. Однако от занятий его отвлек мимолетный, но страстный роман с местной жительницей, разбудившей в поэте настоящий вулкан чувственности, и Гёте вскоре забросил уроки рисования, решив для себя, что его стезей должна оставаться поэзия. Последняя часть путевых записей Гёте очень отличается от однородного повествования самого дневника и состоит из писем, зарисовок и рассказов. Завершается текст цитатой из «Печальных элегий» Овидия.
«Сum repeto noctem! – воспоминание, им созданное в глуши, на Черном море, в печали и нищете, не шло у меня из головы, и я все твердил его, постепенно в точности вспоминая отдельные части, но оно, сбивая меня с толку, мешало мне написать свое: впоследствии я было принялся за него, но до конца так и не довел». Цитата на латинском перекликается с эпиграфом, образуя кольцевое обрамление всего текста и в очередной раз напоминая о литературной, реминисцентной природе гётевского образа Италии.
Из поездки Гёте вернулся, по его собственному утверждению, обновленным и возрожденным к творчеству. Всплеск созидательной энергии, порожденный поездкой, подарил миру немало шедевров, вышедших из-под пера Гёте в последующие несколько лет. Его итальянское «паломничество» в мир классической Античности, живой истории и роскошной южной природы оставило глубокий след как в жизни самого поэта, так и в мировой культуре. «Итальянское путешествие» стало важнейшим вкладом в развитие литературы путешествий, но не менее значим этот дневник в творческой биографии самого Гёте, а также в качестве примера мемуарно-психологической прозы, как документ, свидетельствующий о глобальном духовном перевороте в душе величайшего человека своего времени.
Оксана Разумовская
Первое итальянское путешествие
И я в Аркадии!
От Карлсбада до Бреннера
3 сентября 1786 г.
В три часа поутру я украдкой выбрался из Карлсбада, иначе меня бы не отпустили. Здешнее общество пожелало дружелюбно и радостно отпраздновать двадцать восьмое августа, день моего рождения, тем самым оно приобрело право несколько задержать меня, но больше мне здесь мешкать было нельзя. В полном одиночестве я сел в почтовую карету, имея при себе только чемодан да баул на крыше, и к половине восьмого прекрасного тихого и туманного утра добрался до Цводы. Верхние перистые облака плыли быстро, нижние медленно и тяжело. Я решил, что это доброе предзнаменование, и понадеялся после дурного лета на погожую осень. В жаркий солнечный полдень я был уже в Эгере и вдруг вспомнил, что этот городок расположен на одной широте с моим родным городом, и обрадовался, что в ясный день пообедаю на воздухе под пятидесятым градусом.
Первое, чем встречает тебя Бавария, – это монастырь Вальдзассен – прекрасные владения лиц духовного звания, набравшихся ума-разума ранее всех прочих. Монастырь расположен в неглубокой горной впадине, вернее, в зеленой долине, меж пологих, богатых растительностью возвышенностей. Владения этого монастыря простираются по всей округе. Почва здесь – выветрившийся глинистый сланец. Кварц, которым изобилуют горные породы в этих краях, не растворяется и не выветривается, оттого земля на полях рыхлая и необычайно плодородная. До Тиршенрейта дорога идет вверх. Воды текут навстречу путнику, устремляясь к Этеру и Эльбе. От Тиршенрейта начинается спуск к югу, и реки спешат в Дунай. Я обычно быстро составляю себе представление о местности, стоит только мне понаблюдать за самым малым ручейком – куда он течет, к какому речному бассейну относится. Так даже в краю, никогда не виданном, можно мысленно установить связь между горами и долинами.
Перед упомянутым городком начинается превосходное шоссе из гранитного песка, лучшего себе и вообразить невозможно, – дело в том, что измельченный гранит состоит из кремня и полевых шпатов, которые одновременно образуют и твердый грунт, и отличное связующее средство, для того чтобы сделать дорогу гладкой, как гумно. Окружающая местность, правда, кажется от этого еще непригляднее: все тот же гранитный песок, низменность, топи, зато тем желаннее прекрасная дорога. Вдобавок она идет под уклон, так что едешь по ней с невероятной быстротой, а не ползешь как черепаха, – приятнейший контраст с передвижением по Богемии. Но хватит, на следующее утро в десять часов я уже был в Регенсбурге, за тридцать девять часов оставив позади двадцать четыре с половиной мили. Когда начало рассветать, я находился меж двух деревушек – Швандорф и Регенштауф – и заметил, что почва на полях становится все лучше. Это была уже наносная, смешанная земля, а не продукт выветриванья гор. С незапамятных времен на всех долинах вверх по течению Регена сказывались приливы и отливы в долине Дуная, так мало-помалу эти низины стали пригодными для земледелия. То же самое происходит на всех землях, соседствующих с большими и малыми реками, и эта путеводная нить помогает быстро заключить, насколько пригодна для возделыванья почва тех или иных местностей.
Регенсбург прекрасно расположен. Подобное место конечно же должно было привлечь к себе город, и духовенство сумело это учесть. Ему теперь принадлежат все окрестные поля, в самом же городе церковь теснится к церкви, монастырь – к монастырю. Дунай напомнил мне добрый старый Майн. Правда, во Франкфурте река и мосты выглядят красивее, зато с противоположного берега очень уж хорошо смотрятся город и дворец. Я без промедления отправился и иезуитскую коллегию, где ученики ежегодно давали представление, и успел посмотреть конец онеры и начало трагедии. Они играли не хуже начинающей любительской труппы, а одеты были очень хорошо, даже чрезмерно роскошно. Этот публичный спектакль сызнова убедил меня в мудрой расчетливости иезуитов. Они не брезгуют никакими средствами воздействия и ко всему подходят с любовью и вниманием. И это не ум in abstracto, а радость от со-действия, со-наслаждения, иными словами – от уменья пользоваться благами жизни. И если в составе этого широко разветвленного ордена имеются свои органные мастера, резчики по дереву и позолотчики, то, надо думать, есть среди них и такие, что с любовью и знанием дела отдают себя театру. Церкви иезуитов примечательны своей изящной роскошью, а благодаря неплохому театру эти разумные люди приобщаются еще и к мирской чувственности.
Сегодня я пишу под сорок девятым градусом, что уже дает знать о себе. Утро было прохладное – здесь тоже все жалуются на сырое и холодное лето, – но день наступил погожий и мягкий. В теплом ветерке, веющем от большой реки, есть что-то неизъяснимо приятное. Фрукты здесь неважные. Хорошие груши я уже ел, но меня разбирает тоска по винограду и винным ягодам.
Я поневоле все время возвращаюсь к образу мыслей и действий иезуитов. Их церкви, башни, строения задуманы и возведены как нечто величественное и совершенное, поневоле внушающее людям должное благоговение. Они украшены золотом, серебром, цветными металлами и превосходно отшлифованными камнями в изобилии, предназначенном ослеплять обездоленных всех сословий. Кое-где проглядывает и безвкусица – как видно, она привлекает человечество и действует на него примиряюще. Таков вообще дух внешней католической обрядности, но никогда мне не доводилось видеть его претворенным столь разумно, умело и последовательно, как у иезуитов. Одно у них вытекает из другого, вероятно потому, что они не стали отправлять богослужение на старый, уже отживший лад, наподобие монахов других орденов, но в угоду духу времени оживили его роскошью и великолепием.
Для всевозможных поделок они пустили в ход необычный камень – с виду он похож на мертвый красный лежень, но может и должен сойти здесь за более древний, первичный, порфирообразный. Он зеленоватого цвета, с примесью кварца, пористый, с крупными пятнами яшмы, в свою очередь испещренной круглыми пятнышками брекчии. Один кусок его показался мне весьма поучительным и примечательным, но уж очень он был тяжел, а я поклялся не таскать с собою камней в этом путешествии.
Мюнхен, 6 сентября.
Пятого сентября в половине первого пополудни я выехал из Регенсбурга. Места под Абахом, где Дунай бьется об известковые скалы, тянущиеся до Заале, очень красивы. Известняк здесь, как в Остерода около Гарца, плотный, но пористый. К шести утра я добрался до Мюнхена, двенадцать часов посвятил осмотру его достопримечательностей, но о них упомяну лишь бегло. В картинной галерее мне было как-то не по себе – необходимо снова приучить свой взор к живописи. А вещи там есть превосходные. Наброски Рубенса из галереи Люксембургского дворца привели меня в восхищенье…
В зале антиков я отметил, что мои глаза не приучены к таким произведениям, посему мне не захотелось дольше оставаться там и понапрасну терять время. Многое ровно ничего не говорило мне, а почему – я и сам не знаю. Мое вниманье привлекла статуя Друза, понравились мне два Антонина и еще кое-что… В естественноисторическом кабинете я видел красивые экспонаты из Тироля, уже знакомые мне по небольшим образцам, являвшимся моею собственностью.
На обратном пути мне встретилась торговка винными ягодами, которые пришлись мне по вкусу, наверно потому, что были первыми… Все здесь жалуются на холод и сырость. Туман – он мог бы сойти и за дождь – застал меня утром уже почти под Мюнхеном. Весь день с Тирольских гор дул ледяной ветер. Когда я посмотрел в их сторону с башни, они тонули в тучах, сплошь затянувших небо. Сейчас заходящее солнце еще освещает старую башню перед моим окном. Прошу прощенья за то, что так много говорю о ветре и погоде, но сухопутный странник зависит от них едва ли меньше, чем мореход, и горе мне, окажись осень в чужих краях так же неблагоприятна, как лето на родине.
Ну, а теперь на Инсбрук. Чем только я не пренебрег, чтобы осуществить мечту, почти уже устаревшую в моей душе…
Миттенвальд, 7 сентября, вечером.
Похоже, что мой ангел-хранитель скрепил аминем мою молитву, и я воздаю ему благодарение за то, что он привел меня сюда в такой чудный день. Последний почтальон, удовлетворенно крякнув, заметил, что это первый за все лето. Втихомолку я лелею суеверную надежду, что так оно будет и впредь, но да простят мне друзья, если я снова заведу речь о воздухе и тучах.
Когда в пять часов я выехал из Мюнхена, небо прояснилось. На Тирольских горах неподвижно покоились гигантские массы облаков. Полосы в нижних слоях атмосферы тоже не шелохнулись. Дорога идет верхом, внизу среди холмов наносного гравия вьется Изар. Здесь мы воочию видим работу течений доисторического моря. В гранитном щебне я нашел братьев и родичей тех экземпляров из моей коллекции, которыми меня одарил Кнебель.
Туман над рекой и лугами еще держался, наконец и он развеялся. Меж упомянутых холмов, которые, надо думать, тянутся вдаль и вширь по меньшей мере на несколько часов езды, почва не менее плодородная, чем в долине Регена. Дорога опять спустилась к Изару, и я увидел как бы в разрезе крутые склоны все тех же холмов высотою эдак футов в сто пятьдесят. Приехав в Вольфратсгаузен, я достиг сорок восьмого градуса. Солнце пекло что есть мочи, но в хорошую погоду никто здесь не верит, все злятся на уходящий год и ропщут на господа бога.
Передо мною открылся новый мир. Я приближался к горам, и цепь их уходила все дальше и дальше.
Бенедиктбейерн чудо как красиво расположен и поражает путника с первого взгляда. На плодородной равнине – широкое белое здание, позади него высокий скалистый хребет. А теперь выше – к озеру Кохельзее; и еще выше – в горы, к Вальхензее. Здесь я приветствовал первые снежные вершины, а когда удивился, что заснеженные горы так близки, мне объяснили: вчера здесь гремел гром, сверкали молнии, и в горах выпал снег. В этом явлении местные жители усматривают надежду на хорошую погоду: первый снег представляется им провозвестником изменений в атмосфере. Утесы, меня обступавшие, сплошь первичный известняк, в котором еще не встречаются окаменелости. Эти известковые горы грандиозной непрерывной цепью тянутся от Далмации до Сен-Готарда. Хакет объездил большую часть их цепи. Они смыкаются тоже с первичными горами, изобилующими кварцем и глиноземом.
До Вальхензее я добрался в половине пятого. Приблизительно за час до этого меня ожидало премилое приключение: ко мне приблизился арфист с дочерью, девочкой лет одиннадцати, и попросил меня подвезти ребенка. Сам он с инструментом пошел дальше, девочку же я усадил рядом с собой, она бережно поставила себе в ноги большую новую коробку. Прелестное, благовоспитанное создание, много уже чего повидавшее на белом свете. Она пешком ходила с матерью на богомолье в монастырь Эйнзидель, потом обе они собрались в еще более далекий путь – в Сант-Яго-де-Компостелло, но мать скоропостижно скончалась, не успев выполнить свой обет. Почести богоматери надобно воздавать без устали, произнесла девочка. Однажды, после большого пожара, она своими глазами видела в доме, сгоревшем почти до основания, над случайно уцелевшей дверью образ богоматери под стеклом – ни стекло, ни самый образ не были затронуты огнем; ну разве же это не истинное чудо? – сказала она. Все свои странствия она проделала пешком, в последний раз играла в Мюнхене перед курфюрстом, вообще же ее слушали больше двадцати августейших особ. Она очень меня забавляла. Прекрасные карие глаза, упрямый лоб, на который нет-нет и набегали маленькие вертикальные морщинки. В разговоре она была мила и естественна, особенно когда по-детски громко смеялась; когда же молчала и выпячивала нижнюю губку, казалось, что она что-то строит из себя. Об чем только мы с нею не переговорили, везде она чувствовала себя как дома и все вокруг замечала. Так она вдруг спросила: что это за дерево? А был это высокий красивый клен, первый увиденный мною за всю дорогу. Она мигом его заметила, а когда клены стали попадаться чаще и чаще, радовалась, что вот теперь знает и это дерево. Она отправляется в Боуен на ярмарку, куда, вероятно, еду и я. Если мы там с нею встретимся, сказала девочка, придется мне купить ей гостинец, что я и пообещал. Там она наденет новый чепчик, который на свои деньги заказала себе в Мюнхене. Нет, лучше она уже сейчас мне его покажет. Она открыла коробку, и я вместе с нею полюбовался богато расшитым и украшенным лентами чепчиком.
Вместе же мы порадовались и другому обстоятельству. Девочка утверждала, что теперь настанет хорошая погода. У них всегда при себе барометр – арфа. Когда дискант звучит выше, чем обычно, – это к хорошей погоде, а сегодня так оно и было… Я ухватился за сие доброе предзнаменование, и мы расстались в наилучшем расположении духа и в чаянии скорой встречи.
На Бреннере, 8 сентября, вечером.
Приехав сюда, можно сказать, в силу необходимости, я наконец-то оказался в тихом, спокойном уголке. Ни о чем подобном я и мечтать не смел. День выдался такой, о каком годами не позабудешь. В шесть часов я выехал из Миттенвальда, резкий ветер согнал последние тучки с уже прояснившегося неба. Холод стоял, мыслимый разве что в феврале. Вскоре в лучах восходящего солнца передо мной возникли дивные, все время меняющиеся картины: на переднем плане темнеют сосны, меж них серые известковые скалы, на заднем – высочайшие заснеженные вершины на фоне глубокой синевы небес.
Под Шарницем въезжаешь в Тироль. Граница огорожена валом, он как бы запирает долину и смыкается с горами. Выглядит это очень красиво: с одной стороны вал укреплен скалою, с другой – он вертикально взмывает ввысь. От Зеефельда дорога становится все необычнее: если, начиная от Бенедиктбейерна она шла с вершины на вершину и все воды этих мест устремлялись к Изару, то теперь за горным хребтом мы видим долину Инна, и вот Инцинген уже лежит перед нами. Солнце стояло высоко и пекло невыносимо, пришлось мне одеться полегче, впрочем, из-за постоянно меняющейся температуры я и так переодеваюсь несколько раз на дню.
Под Цирлем начинаем спускаться в долину Инна. Вид – неописуемо прекрасный, а высокое солнечное марево придает ему небывалое великолепие. Почтальон торопился больше, чем мне хотелось. Он еще не был у обедни и тем более рвался благоговейно отстоять ее в Инсбруке, что сегодня был день пресвятой богородицы. Почтовая карета, громыхая, катила вдоль Инна, мимо Мартинсванд – гигантской известняковой кручи. К той точке, на которую, по преданию, взбирался император Максимилиан, я бы отважился подняться, потом спуститься, потом проделать это снова и снова без всякого ангела, даже понимая кощунственность такой затеи.
Инсбрук расположен в на диво широкой, изобильной долине, меж высоких скал и лесистых гор. Поначалу я хотел там задержаться подольше, но мною владело беспокойство. Немножко меня позабавил сын трактирщика, вылитый Зёллером. Так мне, нет-нет да и встречаются мои «сочиненные» люди. Для празднованья рождества пресвятой богородицы все здесь принарядились. Здоровые, довольные жизнью, они толпами идут на богослуженье в Вильтен, что в четверти часа ходьбы от города по направленью к горной цепи. В два часа, когда моя карета разделила оживленную пеструю толпу, праздник был уже в разгаре.
Выше Инсбрука все окрест становится еще прекраснее, описанье тут бессильно. Превосходная дорога идет вверх по ущелью, из которого воды катятся к Инну; само оно бесконечно разнообразно. Там, где дорога проходит вблизи от крутого утеса – частично она даже прорублена в нем, – нашему взору открывается другая, пологая его сторона, вполне пригодная для земледелия. На покатой и широкой плоскости деревни сплошь побеленные дома, домишки и хижины между полей и живых изгородей. Вскоре все видоизменяется. Возделанные земли переходят в луга, а подальше снова в крутой склон.
Для моего представления о мироздании я приобрел уже немало, но и не слишком много нового или неожиданного. Я долго мечтал и давно уже говорю о модели, на которой сумел бы показать, что происходит в моей душе и что не каждому я могу наглядно показать в природе.
Тем временем мрак сгущался и сгущался, единичное утопало в нем, массы становились огромнее, величественнее, и, наконец, когда все уже двигалось передо мною наподобие темных, таинственных образов, я вдруг снова увидел освещенные луной, заснеженные вершины и теперь жду, чтобы утро озарило скалистое ущелье, в котором я зажат на рубеже севера и юга.
Добавлю еще несколько слов о погоде, которая, может быть, так милостива ко мне именно потому, что я уделяю ей много вниманья. На равнине хорошую или плохую погоду принимаешь, так сказать, в готовом виде, в горах присутствуешь при ее становлении. Мне часто доводилось в странствиях, на прогулках, на охоте дни и ночи проводить в лесистых горах, среди скал, и там-то и нашла на меня блажь, которую я ни за что другое выдавать не собираюсь, но и отделаться от нее не могу, ибо всего труднее отделываться от блажи. Она повсюду предстоит мне, словно это не блажь, а истина, и сейчас я хочу сказать о ней, мне ведь все равно частенько приходится подвергать испытаниям снисходительность моих друзей.
Смотрим ли мы на горы вблизи или издалека, видим ли их вершины блистающими в солнечном свете, окутанными туманом, в буйном вихре грозовых туч, бичуемые дождем или покрытые снегом, – все это мы приписываем атмосфере, так как ее движения и перемены видим собственными глазами, а значит, постигаем их. Горы же, для нашего внешнего зрения, искони неподвижны. Мы считаем их мертвыми потому, что они застыли, полагаем бездействующими потому, что они пребывают в состоянии покоя. Но меня уже давно точит мысль, что как раз их внутренним, тайным, неприметным воздействием объясняются в большинстве случаев изменения, происходящие в атмосфере. Я уверен, что земной коре вообще, а следовательно, в первую очередь ее высоко вздымающимся твердыням присуща сила притяжения; не постоянная, не всегда одинаковая, она выражается в своего рода пульсации и по внутренним необходимым, а возможно, и внешним случайным причинам то увеличивается, то спадает. Пусть все иные попытки изобразить эту вибрацию будут неудовлетворительны и примитивны – атмосфера достаточно чувствительна, она дает нам знать об этих неприметных воздействиях. Стоит силе притяжения хоть чуть-чуть ослабеть, как нас об этом извещает уменьшившаяся тяжесть и упругость воздуха. Атмосфера уже не удерживает влагу, химически и механически распределявшуюся в ней. Вот тучи опустились ниже, дожди низверглись на землю, и потоки дождевой воды устремились на равнины. Но если в горах увеличится сила притяжения, упругость воздуха восстановлена, и возникают два весьма существенных феномена.
Первый – горы, скопив вокруг себя гигантские массы туч, упорно и цепко держат их над собой, как вторые вершины, покуда скрытая борьба электрических сил не низринет их в виде грозы, тумана, дождя. И второй – на остатки туч начинает воздействовать упругий воздух, уже способный принять в себя больше влаги, растворить и переработать ее. Я своими глазами видел, как была уничтожена такая туча: она висела над отвесной вершиной, освещенная вечерней зарей. Медленно, очень медленно отделились оба ее конца, несколько хлопьев куда-то уплыли и поднялись ввысь; потом они исчезли, за ними мало-помалу исчезла и вся масса, словно невидимая рука остановила прялку.
Если друзья и улыбались, узнав о странных теориях бродячего метеоролога, то другие мои наблюдения, быть может, заставят их расхохотаться, ибо не скрою, что мое путешествие, собственно, было бегством от тех невзгод, которые я претерпел на пятьдесят первой параллели, и, не скрою, на сорок восьмой я надеялся попасть в истинный Гозан. Увы, меня ждало разочарование, о чем мне следовало бы знать заранее, ведь не только географическая широта создает климат и погоду, но горные хребты, в первую очередь те, что тянутся с востока на запад. В них постоянно происходят значительные перемены, от которых всего больше страдают расположенные к северу земли. Так этим летом погоду на севере, по-видимому, определил большой Альпийский хребет, где я все это пишу. В последние месяцы здесь непрерывно шли дожди, а юго-западный и юго-восточный ветры упорно перегоняли их на север. В Италии, говорят, стояла жаркая, даже засушливая погода.
А сейчас несколько слов о растительном мире, зависимом от климата, высоты гор и степени влажности. Я и здесь ничего особенно нового не обнаружил, но знания мои обогатились. В долине, не доезжая Инсбрука, много плодоносящих яблонь и груш, персики же и виноград сюда завозят из Италии, вернее, из Южного Тироля. Под самым Инсбруком в изобилии сеют кукурузу и гречиху. Повыше, возле Бреннера, мне встретились первые лиственницы, под Шёнебергом – европейский кедр. Интересно, стала бы дочка арфиста и здесь спрашивать меня о названии деревьев?
В ботанике я еще не оставил позади поры школярства. До Мюнхена я думал, что встречу здесь лишь обыкновеннейшие растения. Разумеется, моя торопливая езда днем и ночью не способствовала наблюдениям более точным и тонким. Правда, у меня с собой Линней, к тому же я затвердил его терминологию, но откуда у меня возьмется досуг и покой для вдумчивого анализа, который, насколько я себя знаю, никогда не был и не будет моей сильной стороной? Посему я изощряю свое зрение на обычном, и когда у Вальхензее я увидел первую горечавку, меня осенило, что до сих пор новые растения я всегда находил у воды.
И еще я насторожился, заметив, что высота гор явно влияет на растительность. Я не только нашел здесь виды мне незнакомые, но заметил, что и давно мне известные изменились в своем развитии. В местах более низменных ветки и стебли были сочнее, листья шире, глазки располагались теснее; выше, в горах, ветки и стебли становились более нежными, гладкими, а следовательно, и узлы дальше отстояли один от другого, листья принимали остроконечную форму. Заметив это по иве и горечавке, я убедился, что дело тут не в различии пород. На Вальхензее я тоже обратил вниманье на камыш, более тонкий и длинный, чем у озер пониже.
Известковые Альпы, по которым до сих пор пролегал мой путь, серого цвета, формы их причудливы, неправильны и прекрасны, хотя основания резко отличаются от позднейших напластований. Но так как здесь встречаются и неравномерные слои, а скалы и вообще-то выветриваются по-разному, то склоны и вершины выглядят весьма своеобразно. Эти породы прослеживаются вдоль перевала Бреннера. Вблизи верхнего озера я обнаружил другую разновидность. С темно-зеленым и темно-серым слюдяным сланцем с многочисленными прослоями кварцесодержащей породы контактируют белые плотные известняки, слюдистые по краям и залегающие в виде крупных, хотя и сильно нарушенных выходов. Выше них опять встречаются слюдяные сланцы, показавшиеся мне менее плотными, еще выше обнажаются своеобразные гнейсы, точнее гранито-гнейсы, сходные с теми, которые развиты в окрестностях Эльбогена. Здесь, наверху, высится скала из слюдяных сланцев. Воды, текущие с гор, выносят эти породы и обломки серых известняков.
Видимо, невдалеке располагается гранитный массив, являющийся источником выноса этих пород. Судя по карте мы находимся на склоне Большого Бреннера, с которого во все стороны устремляются водостоки.
Во внешнем облике здешних жителей я успел подметить следующее. Это бравые, рослые люди. Они все до известной степени похожи друг на друга: карие, широко открытые глаза и красиво изогнутые брови у женщин, у мужчин брови светлые и широкие. Зеленые шляпы, которые они носят, на фоне серых скал выглядят радостно и весело. Они украшают их лентами или широкими тафтяными шарфами с бахромою, которые изящно и умело прикалывают булавками. Вдобавок у каждого на шляпе цветок или перо. Женщины, напротив, портят себя белыми мохнатыми шапками из бумажной материи, такими широкими, что они смахивают на мужские ночные колпаки. Вид у них в этом уборе весьма странный; удивительно, что за пределами своей страны они носят зеленые мужские шляпы, которые им очень даже к лицу.
Я не раз имел случай убедиться, как ценит здесь простонародье павлиньи перья, да и вообще любое пестрое перо. Всякому, кто захочет поездить по этим горам, следовало бы припасти их на дорогу. Такое перо, подаренное в подходящую минуту, будет желаннее самых щедрых чаевых.
В то время как я раскладываю, подбираю и скрепляю эти листки, дабы моим друзьям легче было проследить за всем происходившим со мною до сего дня, а заодно сваливаю с сердца тяжесть благоприобретенных познаний и новых дум, ужас охватывает меня при взгляде на некоторые тетрадки. О них я должен откровенно и кратко сказать: ведь это мои спутники, не окажут ли они на меня чрезмерного влияния в ближайшем будущем?
Я захватил с собою в Карлсбад все свои сочинения, чтобы наконец передать их Гёшену для намеченного им издания. Непечатавшиеся вещи хранились у меня в превосходных списках, сделанных умелой рукою секретаря Фогеля. Этот славный человек, желая быть мне полезным своим уменьем и расторопностью, и ныне сопровождал меня. Благодаря ему, равно как и дружескому содействию Гердера, я уже послал издателю первые четыре тома и теперь намеревался проделать то же самое с четырьмя последними. В них частично были помещены черновые наброски работ, даже фрагменты, ибо дурная привычка многое начинать и бросать, когда ослабеет интерес, изрядно возросла у меня с годами, всевозможными занятиями и развлечениями.
Поскольку эти рукописи были при мне, я охотно пошел навстречу желанию просвещенного карлсбадского общества и прочитал им все, что доселе оставалось неизвестным, каждый раз выслушивая горькие сетования по поводу незавершенности того, что им хотелось бы дослушать до конца.
Празднованье моего дня рожденья в основном свелось к тому, что я получал стихотворения от имени моих начатых было, но потом заброшенных произведений; эти стихотворные послания, каждое на свой лад, упрекали меня за мою нерадивость. Среди них выделялось стихотворение от имени «Птиц», в нем депутация от этих резвых созданий, присланная к Трейфрейнду, настойчиво просила его наконец основать и устроить для них обещанное царство. Пожалуй, не менее вкрадчивы и милы были отзывы о других моих отрывках и обрывках, так что они вдруг ожили передо мной, и я охотно поделился с друзьями былыми намерениями и завершенными планами. Тут на меня посыпались требования и пожелания, так что в выигрыше оказался Гердер, ведь это он уговорил меня вторично захватить с собою эти бумаги, а главное – уделить еще немного вниманья «Ифигении», считая, что она, право же, его заслуживает. В том виде, в каком она сейчас лежит передо мной, это скорее набросок, чем законченное произведение; написана она поэтической прозой, местами переходящей в ямбический ритм, впрочем, схожий и с другими размерами. Разумеется, это изрядно вредит впечатлению, разве что уж очень искусно читать ее, скрадывая недостатки. Он с горячностью внушал мне это, а так как я скрыл от него, как и от всех прочих, расширенный план своего путешествия, то Гердер полагал, что речь опять идет о краткой поездке в горы; посему, насмешливо относясь к минералогии и геологии, он высказал пожелание, чтобы я не дубасил молотком по мертвому камню, а сосредоточил бы свои силы на «Ифигении». Я всегда уступал благожелательным настояниям, но пока что не выбрал времени сосредоточить на ней свое внимание. Сейчас я вынимаю ее из пакета и беру с собой в прекрасную теплую страну – пусть руководит мною в моем странствии по горам. День так долог, – размышляй сколько угодно, дивные картины окружающего мира не только не оттесняют поэтической взволнованности, напротив, в сочетании с движением и вольным воздухом усиливают ее.
От Бреннера до Вероны
Триент, 11 сентября, утром.
Прободрствовав пятьдесят часов кряду в непрерывных трудах, вчера около восьми вечера я прибыл сюда, вскоре улегся спать и теперь уже снова в состоянии продолжить свой рассказ. Девятого вечером, закончив первую тетрадь дневника, я хотел еще зарисовать постоялый двор и почтовую станцию на Бреннере, но из этого ничего не вышло, все характерное от меня ускользнуло, и я, недовольный и раздосадованный, возвратился домой. Трактирщик спросил, не хочу ли я ехать дальше, ночь-де будет лунная и дорога хорошая. Хоть я и отлично знал, что лошади утром понадобятся ему для привоза отавы и совет его достаточно корыстен, я все же с ним согласился, поскольку он совпадал с моими намерениями. Солнце опять проглянуло, дышалось легко, я уложил вещи и в семь часов тронулся в путь. Атмосфера взяла верх над сгущавшимися тучами – словом, вечер выдался прекрасный.
Почтальон уснул, и лошади рысью бежали под гору по знакомой дороге. На ровном месте они, правда, замедляли шаг, но тут возница просыпался и взбадривал их, так что я очень быстро ехал меж высоких скал вниз по течению бурного Эча. Взошедшая луна осветила грандиозную картину. Мельницы среди старых-престарых сосен над пенящимся потоком, Эвердинген да и только.
Когда в девять часов я приехал в Штерцинг, мне намекнули, чтобы я немедленно отправлялся дальше. В Миттенвальде ровно в полночь все уже спали крепким сном, кроме почтальона; итак – дальше, в Бриксен, откуда меня снова спровадили, и на рассвете я был уже в Кольмане. Почтальоны так гнали, что у меня голова шла кругом, и хоть досадно мне было с ужасающей быстротою мчаться по этим дивным местам, да еще ночью, но в глубине души я был рад, что попутный ветер гнал меня навстречу моим желаниям. На рассвете я увидел первые виноградники. Женщина с корзиной персиков и груш попалась мне навстречу. В семь мы уже были в Гейгене и сразу же двинулись дальше…
Солнце весело и ярко светило, когда я прибыл в Боцен. Торговцы, встречавшиеся на каждом шагу, меня порадовали. Здесь во всем сказывается осмысленное благополучие существования. На рыночной площади сидели торговки с фруктами в больших плоских корзинах, фута эдак четыре в диаметре, в них были рядами положены персики, чтобы не помялись, точно так же и груши. Мне вспомнилось изречение, красовавшееся над окном гостиницы в Регенсбурге:
- Comme les peches et les rrelons
- Sont pour la bouche d’un baron,
- Ainsi les verges et les batons
- Sont pour les fous, dit Salomon.
He подлежит сомнению, что это написано северным бароном, а также очевидно, что в этих краях ему пришлось поступиться своими взглядами.
Боценская ярмарка ведет крупную торговлю шелками, привозят сюда и сукна, да еще кожи, собранные в горных поселениях. Впрочем, многие купцы съезжаются на ярмарку для того, чтобы взыскать долги, принять заказы и открыть новые кредиты. Я испытывал большой соблазн хорошенько рассмотреть все товары, сюда привезенные, но беспокойство и охота к перемене мест не дают мне роздыха, и я спешу вперед. Утешением мне служит разве то, что при нынешнем процветании статистики все это, вероятно, уже черным по белому стоит в книгах, и, по мере надобности, у них можно почерпнуть любые сведения. Впрочем, до поры до времени мне важны только чувственные впечатления, которых не дает никакая книга, никакая картина. Дело в том, что я вновь ощущаю интерес к окружающему меня миру, испытываю свою способность наблюдать, проверяю, достаточно ли велики мой опыт и знания, довольно ли ясен, чист и проницателен мой глаз, многое ли он может схватить при такой быстроте передвижения и есть ли надежда, что изгладятся морщины, глубоко избороздившие мою душу. Уже сейчас, наверно, от того, что мне приходится все делать самому, а значит, постоянно быть сосредоточенным и настороженным, даже эти немногие дни сделали мой разум более гибким. Я вынужден интересоваться денежным курсом, менять, расплачиваться, все это записывать, делать себе пометки, тогда как раньше я только размышлял, пестовал свои желанья, что-то задумывал, приказывал и диктовал.
От Боцена до Триента девять миль по плодородной долине, которая с каждой милей становится еще плодороднее. Все, что в горах кое-как прозябает, здесь полнится жизненными силами, солнце печет вовсю, и снова начинаешь верить в бога.
Какая-то бедная женщина окликнула меня, прося взять в карету ее ребенка – раскаленная почва жгла ему подошвы. Я сделал сие доброе дело во славу могучего светила. Ребенок был как-то чудно наряжен, но я ни на одном языке даже слова от него не добился.
Эч течет здесь тише и во многих местах образует широкие отмели. У реки, вверх по холмам, все уж до того тесно посажено, что, кажется, одно должно задушить другое. Виноградники, кукуруза, шелковина, яблони, грушевые и айвовые деревья, орешник. Стены весело увиты бузиной. Плющ – плети у него здесь толстые – лезет вверх по скалам и широко расстилается на них; в прогалах снуют ящерицы. Все, что здесь обитает и движется, напомнило мне мои любимые картины. Подвязанные на голове косы женщин, открытая грудь и легкие курточки мужчин, раскормленные волы, которых они гонят с базара домой, навьюченные ослики – это ожившие картины Генриха Рооса. А когда наступает теплый вечер и редкие облака отдыхают на горах или, скорее, стоят, чем плывут, по небу и, едва зайдет солнце, начинается стрекотанье кузнечиков, тогда наконец чувствуешь себя в этом мире как дома, а не в гостях или в изгнании. Мне все это до того по душе, словно я здесь родился и вырос, а сейчас только-только вернулся домой из Гренландии, с охоты на китов. Я радуюсь даже родимой, давно не виданной пыли, что вдруг начинает клубами виться вкруг моей кареты. Бубенцы и колокольчики кузнечиков трогают, а не раздражают меня. Весело слушать, когда озорники-мальчишки свистят взапуски с целыми когортами этих певцов, усыпавших поле; кажется, что они и вправду подзадоривают друг друга. Теплый вечер, пожалуй, еще прелестнее дня.
Если бы о моих восторгах узнал житель и уроженец юга, он счел бы меня ребячливым. Ах, все, что я сейчас говорю, давным-давно мне известно, с первого дня моих страданий под серым, недобрым небом. И радость, ниспосланная мне здесь, не становится меньше от того, что она преходяща, тогда как должна была бы быть вечно неизбежной в природе.
Триент, 11 сентября, вечером.
Бродил по древнему городу, впрочем, на некоторых его улицах высятся новые, добротно построенные дома. В церкви висела картина, изображающая, как церковный собор слушает проповедь генерала иезуитского ордена. Хотел бы я знать, что он такое им навязывает. Церковь этого ордена бросается в глаза красными мраморными пилястрами на фасаде; тяжелый занавес висит на входной двери, преграждая доступ пыли. Приподняв его, я вошел в тесный притвор, сама церковь заперта железной решеткой, но видно ее всю. Мертвая тишина царила в ней, ибо богослужение там более не совершается. Распахнута была лишь передняя дверь, так как в часы вечерни все церкви должны быть открыты.
Покуда я стоял в раздумьях о стиле этого строения – по-моему, оно походило на все храмы этого ордена, – вышел какой-то старик, сняв с головы камилавку. Его поношенное и посеревшее черное одеяние красноречиво свидетельствовало, что это впавший в бедность священнослужитель. Он преклонил колена перед решеткой, прочитав короткую молитву, поднялся и, повернувшись к двери, пробормотал себе под нос: «Они выгнали иезуитов, могли бы хоть выплатить им стоимость церкви. Я-то знаю, во что она обошлась, и семинария тоже, во многие, многие тысячи». С этими словами он вышел, занавес за ним закрылся, я его приподнял, но не двинулся с места. Задержавшись на верхней ступени, он проговорил: «Император здесь ни при чем, это сделал папа». Потом, уже стоя спиной к церкви и не замечая меня, он продолжал: «Сначала испанцы, потом мы, потом французы. Кровь Авеля вопиет против его брата Каина!» Он сошел с паперти и, продолжая что-то бормотать, зашагал по улице. Вероятно, этого человека в свое время содержали иезуиты, при страшном падении ордена он лишился рассудка и теперь ежедневно приходит сюда, ищет в опустелой обители прежних братьев и после краткой молитвы предает проклятию их врагов…
11 сентября, вечером.
Вот я и в Ровередо, где проходит языковая граница. Повыше язык все еще колеблется между немецким и итальянским, Впервые меня привез сюда почтальон – коренной итальянец… Трактирщик ни слова не говорит по-немецки, пришлось мне подвергнуть испытанию свои лингвистические таланты. Как я рад, что любимый язык стал для меня живым и обиходным!
Торболе, 12 сентября, после обеда.
Мне страстно хотелось, чтобы мои друзья хоть на миг очутились рядом со мной и тоже насладились бы видом, который открывается мне.
Сегодня к вечеру я бы уже мог быть в Вероне, но в стороне от моей дороги находилось дивное творение природы, поразительное зрелище – озеро Гарда, я не хотел его миновать и был с великой щедростью вознагражден за кружной путь, мною проделанный. В пять я покинул Ровередо и поехал по долине, воды которой еще изливаются в Эч. Когда подымаешься, путь тебе перегораживает гигантская скалистая гряда, которую надо перевалить, чтобы спуститься к озеру. Там я увидел прекраснейшие известняковые скалы, как нельзя более пригодные для живописных этюдов, – ничего лучше, пожалуй, и не придумаешь. В начале спуска на северном конце озера видишь деревушку и возле нее маленькую гавань, вернее, пристань называется этот уголок Торболе. Фиговые деревья встречались мне уже на подъеме; когда же начался спуск по скалистому амфитеатру, стали попадаться первые оливки, отяжелевшие от плодов. Тут я, кстати сказать, впервые отведал влажных ягод, белых и мелких, которые едят все местные жители, – мне о них говорила графиня Лантиери.
Из комнаты, в которой я сейчас сижу, одна дверь ведет во двор. Я придвинул к ней стол и несколькими штрихами набросал вид, отсюда открывающийся. Взор охватывает озеро почти во всю длину, не виден только левый его край. Берега, по обеим сторонам обрамленные горами, пестреют бесчисленными деревушками.
После полуночи ветер дует с севера на юг, так что тот, кто собирается плыть в южном направлении, должен выбирать именно это время: уже через час-другой после восхода солнца воздушный поток движется в обратную сторону. Сейчас, в полдень, ветер бьет мне прямо в лицо и приятно охлаждает палящие солнечные лучи. Заглянул в Фолькмана, там говорится, что некогда это озеро называлось Бенако, и приводит следующий стих из Вергилия:
- Fluctibus et fremitu resonans Benace marino.
Впервые то, что гласит этот латинский стих, воочию стоит передо мной, а сейчас, когда ветер крепчает и непрестанно растущие волны бьются о пристань, все выглядит точно так же, как и много веков тому назад. Кое-что, правда, стало иным, но озеро по-прежнему вскипает под порывами ветра, и вид его на веки веков облагорожен строкою Вергилия.
Написано под сорока пятью градусами, пятьюдесятью минутами.
Прохладным вечером я пошел гулять и вот взаправду очутился в новой стране, в никогда не ведомом мне окружении. Люди здесь живут в блаженной беспечности. Во-первых, ни одна дверь не имеет замка, однако трактирщик заверил меня, что мне нечего беспокоиться, даже если бы мои чемоданы были набиты бриллиантами. Во-вторых, в окнах здесь вместо стекла промасленная бумага. В-третьих, отсутствует весьма необходимое удобство, так что живешь почти в первобытных условиях. Когда я спросил коридорного, где же все-таки это удобство находится, он показал рукою вниз, на двор. «Qui abbasso puo servirsi!» Я удивился. «Dove?» – «Da per tutto, dove vuol!» – гостеприимно отвечал он. Беззаботность во всем царит чрезвычайная, но оживления и суеты хоть отбавляй. Весь день соседки чешут языками и громко перекликаются, при этом каждая чем-то занята, о чем-то хлопочет. Я не видал ни одной праздной женщины.
Трактирщик с итальянской напыщенностью объявил, что счастлив будет попотчевать меня отменнейшей форелью. Ловят ее вблизи от Торболы, где ручей сбегает с гор, рыба же ищет по нему дорогу наверх. С этой ловли император получает десять тысяч гульденов арендной платы. Собственно, это не форель, а крупные рыбины, иной раз до пятидесяти фунтов весу, чешуя их, от хвоста до головы, испещрена точками, вкус нежный и приятный – нечто среднее между форелью и лососиной.
Но наибольшее удовольствие мне доставляют фрукты, винные ягоды и груши, – им и положено быть вкусными в краю, где уже растут лимоны.
14 сентября.
Встречный ветер, что вчера занес нашу лодку в гавань Мальчезине, сыграл со мной недобрую шутку, которую я, впрочем, перенес благодушно, а в воспоминаниях она даже кажется мне забавной. Рано утром, как то и входило в мои намерения, я отправился в старый замок, каждому доступный, ибо там нет ни ворот, ни стражи, ни охраны. В замковом дворе я уселся насупротив башни, высящейся на скале и частично в ней высеченной. Весьма удобный уголок для зарисовок – рядом с запертой дверью, к которой вели три или четыре ступеньки, резная каменная скамеечка, вделанная в дверной косяк, какие и по сей день еще встречаются у нас в старинных зданиях.
Я недолго просидел на этом месте, так как во дворе стали появляться люди; они разглядывали меня, уходили и приходили вновь. Толпа увеличивалась, наконец движенье прекратилось, и все они сгрудились вокруг меня. Я заметил, что мои зарисовки привлекают к себе внимание, но не смутился и продолжал спокойно делать свое дело. Наконец ко мне протиснулся человек не слишком привлекательной наружности и спросил, чем это я занимаюсь. Я отвечал, что зарисовываю старую башню, на память о Мальчезине. Он заявил, что это не разрешается и я должен прекратить свое занятие. Та к как он говорил на языке венецианского простолюдина и я действительно с трудом понимал его, то и ответил, что ничего не понимаю. Тогда он, с истинно итальянской безмятежностью, схватил мой листок и разорвал его, оставив, однако, клочки лежать на папке. Тут до меня донесся шепоток неудовольствия, пробежавший по толпе: какая-то пожилая женщина громко сказала, что так, мол, не годится, надо кликнуть подесту, он уж разберется в этом деле. Я стоял на ступеньках, спиною прислонившись к двери, и смотрел на непрерывно увеличивающуюся толпу. Любопытные, пристальные взгляды, добродушное выражение на большинстве лиц и все прочее, что казалось мне характерным для этой иноплеменной толпы, производило на меня достаточно комическое впечатление. Я словно бы видел перед собою хор птиц на сцене Эттерсбургского театра, так часто потешавший меня, когда я исполнял роль Трейфрейнда. Это привело меня в самое радужное настроение, так что, когда явился подеста со своим актуарием, я чистосердечно его приветствовал и на вопрос, почему я рисую крепость, скромно ответил, что эти стены крепостью не считаю. Потом постарался обратить внимание толпы на ветхость стен и башен, на отсутствие ворот – словом, на полнейшую беззащитность так называемой крепости – и заверил подесту, что видел перед собой и рисовал только руину.
Мне возразили: ежели это руина, так что же я нашел в ней интересного? Я отвечал весьма обстоятельно, намереваясь выиграть время и завоевать расположение толпы, что им ведь известно, сколь многих путешественников именно руины влекут в Италию, что Рим, столица мира, разрушенная варварами, полон руин, которые были зарисованы сотни и сотни раз, что далеко не все древние строения сохранились так, как амфитеатр в Вероне, который я, кстати сказать, надеюсь вскоре увидеть.
У подесты, стоявшего передо мною, только немного пониже, долговязого, но не слишком тощего мужчины, туповатые черты скучного лица вполне соответствовали медлительной, меланхолической манере, с какою он задавал свои вопросы. Актуарий, поменьше ростом и порасторопнее, тоже не сразу нашелся в столь новом и необычном случае. Я еще долго говорил в том же духе, меня, кажется, охотно слушали, на некоторых женских лицах я даже читал сочувствие и благосклонное одобрение.
Стоило мне, однако, упомянуть о веронском амфитеатре, известном здесь под названием «арены», как актуарий, уже успевший собраться с мыслями, заметил, что все это, возможно, и так, что «арена» всемирно известная римская постройка, в этих же башнях ничего примечательного нет, тем не менее они являются границей между Венецианской республикой и Австрийской империей, а посему шпионить здесь не положено. Я пустился в пространные объяснения: не одни-де греческие и римские древности заслуживают внимания, но также и памятники Средневековья. Местным жителям, конечно, нельзя поставить в упрек, что они, в противоположность мне, не воспринимают живописной красоты с детства им знакомых строений. На мое счастье, в эту минуту утреннее солнце озарило башню, скалы и стены, и я принялся восторженно расписывать им эту картину. Но так как мои слушатели стояли спиной к упомянутым красотам, не желая терять меня из виду, то они разом, наподобие птиц, называемых вертишейками, повернули головы, чтобы зрительно насладиться тем, чем я услаждал их слух. Даже подеста повернулся, не без важности, конечно, к описываемой мною картине. Эта сцена так меня рассмешила, что я еще больше вошел во вкус и не позабыл упомянуть даже о плюще, который за долгие столетия так пышно разукрасил скалы и стены.
Актуарий поспешил заметить, что так-то оно так, но император Иосиф – государь зело беспокойный и, конечно, лелеет злые умыслы против Венецианской республики, я же, вероятно, его подданный, и он послал меня разведать, как там все обстоит на границе.
«Ничуть не бывало, – воскликнул я, – как и вы, я горжусь тем, что я гражданин республики, пусть не столь большой и могущественной, как достославная Венеция, но все же самостоятельной и по торговым связям, богатству и мудрости своих правителей не уступающей ни одному вольному городу Германии. Я родом из Франкфурта-на-Майне; думается, что доброе имя этого города и вам хорошо известно».
«Из Франкфурта-на-Майне! – воскликнула какая-то хорошенькая молодая женщина. – Вот видите, господин подеста, у вас есть возможность тотчас узнать, что собой представляет этот чужестранец, который мне кажется добропорядочным человеком. Прикажите позвать Грегорио, он долго служил там и лучше всех нас разберется в этом деле».
Благожелательных лиц стало больше, первый из моих хулителей скрылся, и, когда пришел Грегорио, дело уже явно обернулось в мою пользу.
Это был человек лет за пятьдесят, с обычным смуглым итальянским лицом. Он говорил и держал себя так, словно ничто чужое ему не чуждо, и тотчас же сообщил мне, что служил у Болонгаро и рад будет услышать об этом семействе и о городе, о котором вспоминает с неизменным удовольствием. Мне повезло – его пребыванье во Франкфурте пришлось на мои детские годы, из чего я извлек двойную выгоду, сумев рассказать ему, как все было в ту пору и что изменилось в дальнейшем. Рассказал я и об итальянских семьях, все они были мне знакомы. Он был очень доволен, услыхав разные подробности – к примеру, что господин Аллезина в 1774 году справил свою золотую свадьбу и что в честь этого события была отчеканена медаль, которая имеется и у меня. Грегорио отлично помнил, что супруга сего негоцианта была урожденная Брентано. Я рассказал ему даже о детях и внуках этих семейств, о том, как они подросли, переженились, уже в внуках приумножили свой род и какую жизнь для себя избрали.
Покуда он слушал подробнейшие сведения, которые я давал обо всем, что бы он ни спрашивал, лицо его принимало то серьезное, то радостное выражение. Он был взволнован и растроган, народ, столпившийся вокруг нас, не мог досыта наслушаться, и Грегорио приходилось часть нашей беседы переводить на местный диалект.
Под конец он сказал: «Господин подеста, я уверен, что это честный, просвещенный и хорошо воспитанный человек, который путешествует, чтобы пополнить свое образование. Отпустим его по-хорошему, пусть он так расскажет о нас своим землякам, чтобы им захотелось посетить Мальчезине; право, наш живописный уголок заслуживает того, чтобы им восхищались чужеземцы». Я еще поддал жару его словам, воздав хвалу всему краю, местоположению Мальчезине и его жителям, не забыв, конечно, мудрых и предусмотрительных представителей власти.
Мои слова произвели наилучшее впечатление, и мне было разрешено в сопровождении мастера Грегорио свободно осматривать Мальчезине и его окрестности; хозяин гостиницы, в которой я остановился, заранее радуясь притоку чужеземных постояльцев, когда те прослышат о достопримечательностях Мальчезине, тоже вызвался сопровождать нас. С живейшим любопытством рассматривал он предметы моей одежды. Но зависть в нем возбудил лишь мой маленький пистолет, легко умещавшийся в кармане. Он назвал счастливцами тех, кто вправе носить такое прекрасное оружие, тогда как у них это запрещено под страхом сурового наказания. Я несколько раз пытался прервать его дружески-назойливые речи, чтобы высказать благодарность своему избавителю. «Не благодарите меня, – отвечал этот славный человек, – мне вы ничем не обязаны. Если бы подеста лучше разбирался в своем деле, а его помощник не был отчаянным корыстолюбцем, вы бы так дешево не отделались. Первый растерялся больше, чем вы, второму ваш арест, донесения и отправка вас в Верону не принесли бы ни гроша; он это живо смекнул, и вы были свободны еще до того, как закончилась наша беседа».
Вечером хозяин гостиницы повел меня в свой виноградник, красиво расположенный на склоне холма, спускавшегося к озеру. С нами был и его пятнадцатилетий сын, которому вменялось в обязанность влезать на деревья и выискивать для меня лучшие плоды, в то время как отец выбирал самые спелые гроздья.
Меж этих двоих простодушных, благожелательных людей в одиноком, заброшенном, отдаленном уголке, размышляя о сегодняшних моих приключениях, я живо почувствовал, какое удивительное существо человек: вместо того чтобы спокойно вкушать радость жизни в добропорядочном обществе, он идет навстречу опасностям и тревогам единственно из-за своей причуды – познать этот мир, познать и то, что он объемлет.
Около полуночи хозяин проводил меня к баркасу, неся корзинку, полную фруктов, которые мне презентовал Грегорио. Так, при попутном ветре, я простился с берегом, грозившим превратить меня в листригона.
…Замечу еще, что красота, открывающаяся нашему взору, когда едешь вниз, неописуема. Это сплошной ухоженный сад, раскинувшийся на много миль в длину и в ширину у подножия высоких гор и круто вздымающихся скал. Десятого сентября около часу дня я прибыл в Верону, где хочу сначала дописать еще несколько строк, закончить и скрепить в тетрадь вторую часть дневника, а вечером надеюсь, уже с легким сердцем, увидеть амфитеатр.
Касательно погоды в эти дни сообщу следующее. Ночь с девятого на десятое была то ясной, то облачной, вокруг луны все время стоял ореол. Поутру небо затянуло серыми, но легкими тучками, которые рассеялись по мере приближения дня. Чем ниже я спускался, тем лучше становилась погода. Хотя горный кряж в Боцене оставался по-ночному темным, но состояние воздуха резко изменилось. По различным ландшафтным фонам, очаровательно разделенным просветами где более, где менее яркой синевы, видно было, что атмосфера наполнена равномерно распределившимися парами, которые она в состоянии удержать, почему они и не надают росой или дождем и не скапливаются в тучи. Постепенно спускаясь ниже, я отчетливо видел, что все пары, подымающиеся из Боценской долины, все штрапсы, тянущиеся с южных гор к полунощным краям, не закрывали их, но окутывали своего рода маревом. В дальней дали, над горами, я разглядел так называемую «промоину». Южнее Боцена все лето стояла прекрасная погода, только время от времени выпадало немного водицы (теплый дождик здесь называют «водицей»), а вскоре уже сияло солнце. Вчера тоже чуть-чуть покапало, и то при солнечном свете. Давно не выдавалось у них такого хорошего года: все уродилось прекрасно, а дурное они переправили к нам.
О горах и горных породах скажу лишь несколько слов, ибо путешествие Фербера в Италию и Хакета по Альпам достаточно сообщают нам об этом отрезке пути. В четверти часа езды от Бреннера находится мраморная каменоломня; я проезжал мимо нее в сумерках. Не подлежит сомнению, что под нею, как и под другой, по ту сторону хребта, залегает слюдяной сланец. Последний встретился мне и под Колманом, когда уже развиднелось. Пониже я увидел порфиры. Скалы были великолепны, а камень в кучах вдоль шоссе так мелко раздроблен, хоть сейчас составляй из него кабинетные коллекции. Я мог без труда взять с собой по образцу от каждой породы, надо было только приучить свой глаз к меньшим масштабам и не жадничать. Ниже Колмана я обнаружил порфир, расщепляющийся на равномерные пластины, между Бранчолем и Неймарктом – схожий, пластины коего, в свою очередь, расщепляются на столбчатые кристаллы. Фербер принял его за вулканический продукт, но это было четырнадцать лет тому назад, когда весь мир пылал в головах людей; Хакет уже смеется над этим.
О людях могу сказать лишь немногое, да и то не слишком лестное. Когда я спускался с Бреннера и передо мной забрезжил день, я заметил разительную перемену в их обличье. Мне очень не понравилась смуглая бледность женщин. Их лица свидетельствуют об убогой жизни, на детей смотреть больно, мужчины выглядят несколько лучше, телосложение у них статное и правильное. Мне думается, что причина болезненных отклонений заложена в излишнем употреблении кукурузы и гречихи. Первую они называют желтой гречихой, вторую – черной. Ту и другую сначала размалывают, из муки варят густую кашу и в таком виде едят. Немцы, по ту сторону гор, делят это тесто на кусочки и поджаривают в масле. Итальянские тирольцы поедают его просто так, иногда присыпая сыром, и весь год обходятся без мяса. Такая пища неизбежно склеивает и засоряет кишки, в особенности у женщин и детей, о чем свидетельствует их нездоровый цвет лица. Кроме того, они едят фрукты и зеленые бобы, которые отваривают в воде, приправляя постным маслом и чесноком. Я удивился: неужто здесь нет богатых крестьян? «Конечно есть», – отвечала мне дочка боценского трактирщика.
«И они тоже питаются не лучше?» – «Нет, они уже привыкли». – «Что ж они делают с деньгами? На что их тратят?» – «Над ними тоже есть господа, которые отбирают деньги».
Далее я узнал от нее, что крестьянам-виноделам, казалось бы самым зажиточным, всего туже приходится, поскольку их держат в руках городские купцы.
В неурожайные годы они дают им деньги авансом, а в урожайные скупают вино за бесценок. Впрочем, это ведь повсюду так…
От Вероны до Венеции
Верона, 16 сентября.
Итак, амфитеатр, первый значительные памятник древности, который я увидел, и в какой сохранности! Когда я вошел, но особенно когда стал ходить по верхней его кромке, странное чувство охватило меня: подо мной было нечто грандиозное, а в то же время словно бы и не было ничего. Разумеется, его надо видеть не пустым, а до отказа забитым народом, как то было уже в наше время, на корриде, устроенной в честь императора Иосифа и папы Пия VI. Говорят, что даже император, привыкший видеть перед собою толпы, был поражен. Но в древности, когда народ был более народом, чем нынче, амфитеатр по-настоящему выполнял свое предназначение. Ибо такая арена должна, собственно, сама по себе импонировать народу, уже одним своим видом дурачить его.
Когда волнующее зрелище разыгрывается на ровном месте, когда вся и все туда устремляются, те, что оказались сзади, непременно хотят быть выше передних: влезают на скамейки, подкатывают бочки, подъезжают в повозках, кладут доски и так и эдак, толпы усыпают соседний холм, вследствие чего быстро образуется кратер.
Ежели зрелище неоднократно повторяется на том же месте, то для тех, кто в состоянии заплатить, строят легкие помосты, остальные устраиваются как попало. Удовлетворить всеобщую потребность – к этому и сводится задача архитектора. Он строит простейший искусственный кратер в расчете, что украшением ему послужит народ. Народ же в таком скоплении не может сам себе не дивиться, ибо люди привыкли видеть себя и себе подобных в сутолоке, в давке и в суете, здесь же многоголовый, разномыслящий, мятущийся зверь вдруг оказался сплоченным в единое благородное целое, к единению предназначенный, слитый, скрепленный в общую массу, в единый облик, одухотворенный единым духом. Простоту овала с приятностью чувствует любой глаз, любая голова является мерилом гигантского целого. Сейчас, когда я вижу его пустым, у меня нет масштаба, не знаешь, велик он или мал.
Нельзя не воздать хвалы веронцам за то, как они поддерживают свой амфитеатр. Он построен из красноватого мрамора, поддающегося выветриванию, поэтому они, ряд за рядом, восстанавливают разрушенные ступени, так что теперь почти все выглядят новыми. Кстати, там имеется надпись, прославляющая некоего Иеронима Мавригено за невероятное рвение, затраченное им на этот памятник древности. От наружной стены осталась лишь самая малая часть, и я сомневаюсь, была ли она вообще закончена. Нижние своды, примыкающие к большой площади Il Bra, сданы в нем ремесленникам, и, право же, весело смотреть на эти выемки, вновь наполнившиеся жизнью…
Верона, 16 сентября.
…Ветер, веющий с древних гробниц, напоен благоуханием, словно он пронесся над холмом, усаженным розами. Надгробия прелестны, трогательны и всегда изображают жизнь. Вот муж и жена выглядывают из ниши, как из окошка. Подальше отец, мать и сын между ними смотрят друг на друга с непередаваемо естественным выражением. Там юноша и девушка протягивают друг другу руки. Здесь лежит отец, а семейные, столпясь вокруг, словно занимают его беседой. Меня до глубины души растрогала непосредственная связь изображений с нынешней жизнью. Это позднейшее искусство, но простое, естественное и всем понятное. Нет здесь закованных в латы коленопреклоненных мужей, ожидающих радостного воскресения. Художник, с большим или меньшим искусством, изобразил лишь обыденную жизнь, тем самым продлив и увековечив существование людей. Они не простирают руки с мольбою, не подымают взор горе, они остались здесь, на земле, такие, какими были. Стоят группами, участливо относятся друг к другу, друг друга любят, и все это прелестно выражено в камне, хотя и не без некоторой ремесленнической примитивности. Многое я понял по-новому и благодаря великолепно изукрашенной мраморной колонне.
Как ни похвально такое обыкновение, все же мы видим, что благородный дух почитания прошлого, положивший ему начало, теперь его покинул. Драгоценный треножник вскоре рухнет, ибо стоит открыто и не защищен от непогоды, налетающей с запада, тогда как деревянный футляр запросто уберег бы это сокровище.
Будь дворец проведиторе достроен, мы увидели бы прекрасный образец зодческого искусства. Правда, знать все еще строит много, но, увы, каждое семейство – на том месте, где стояло прежнее его жилище, а значит, частенько на узких улочках. Так, сейчас возводится роскошный фасад семинарии на захудалой улице отдаленного предместья.
Когда я, со случайно повстречавшимся мне путником, проходил мимо больших величественных ворот какого-то удивительного строения, он добродушно осведомился, не хочу ли я на минуту заглянуть во двор. Это был Дворец правосудия. Из-за высоты зданий двор казался глубочайшим колодцем. «Здесь, – сказал он, – содержатся все преступники и подозреваемые». Я огляделся. По всем этажам мимо множества дверей шли открытые галереи с железными перилами. Узник, которого вели на допрос, прямо из своей камеры оказывался на открытом воздухе, но и у всех на глазах. А так как комнат для допроса здесь, вероятно, было немало, то цепи гремели на всех этажах и на всех галереях. Очень тяжкое впечатление!..
Верона, 17 сентября.
Произведений живописи, увиденных мною, я коснусь лишь бегло и присовокуплю здесь несколько замечаний. Я пустился в это замечательное путешествие не затем, чтобы обманывать себя, а чтобы себя познать среди того нового, что мне откроется, и теперь могу откровенно признаться: в искусстве, в ремесле живописца я мало что смыслю. Мое вниманье и мои наблюдения в общем-то сосредоточены лишь на практической стороне предмета и на его трактовке.
Сан-Джорджио – галерея, полная превосходных картин, алтарные образы, конечно, не одинаково хороши, но, безусловно, примечательны. Несчастные художники, что только им не приходилось писать! И для кого! Дождь манны небесной футов эдак тридцать длины и двадцать высоты! На противоположной стене чудо с пятью хлебами. Ну, что тут писать? Голодные люди, набросившиеся на мелкие зерна, огромная толпа, которую одаривают хлебом. Живописцы не пожалели сил, стараясь придать значительность этому убожеству. И все-таки даже подневольный труд дал гению возможность создать и прекрасное. Художник, которому надлежало изобразить святую Урсулу с одиннадцатью тысячами девственниц, весьма хитроумно вышел из положения. Святая стоит на переднем плане с победоносным видом амазонки, покорившей страну. Благородная девственница, лишенная чувственной прелести. В дальней, все уменьшающей перспективе мы видим шествие ее воинства, сходящего с кораблей. Тицианово «Вознесение Марии» в соборе изрядно почернело. Мысль заставить возносящуюся богоматерь смотреть не на небо, а долу, на своих друзей, достойна всяческих похвал.
В галерее я обнаружил превосходные вещи Орбетто и как-то разом ознакомился с этим достойным художником. В отдалении узнаешь только о мастерах наивысшего класса, причем нередко довольствуешься их именами, но стоит приблизиться к звездному небу, и для тебя уже мерцают звезды второй и третьей величины, и каждая из них является частью всей картины мироздания, – о, тогда мир огромен, а искусство неимоверно богато.
В Палаццо Бевилаква имеются прекрасные произведения живописи. Так называемый «Рай» Тинторетто, – собственно, венчание Марии царицей небесной перед лицом патриархов, пророков, апостолов, святых, ангелов и т. д., – удобный случай показать все многообразие гениально одаренного художника. Легкость кисти, ум, множество выразительных средств, собственно, чтобы это оценить, чтобы вдосталь нарадоваться этой картине, надо было бы всю жизнь иметь ее перед глазами. Работа художника уходит в бесконечность, даже из последних, исчезающих в сиянии нимбов головок ангелов каждая имеет свой характер. Наиболее крупные фигуры – величиной, наверно, с фут – Мария и Христос, возлагающий на нее корону, дюйма эдак четыре. Ева, пожалуй, самая красивая женщина на картине; и, как издревле, несколько похотливая.
Несколько портретов работы Паоло Веронезе лишь приумножили мое к нему уважение. Собрание антиков великолепно; распростертый сын Ниобеи восхитителен, бюсты, несмотря на реставрированные носы, в большинстве своем очень интересны, так же как Август в гражданской короне, Калигула и прочие.
Радостное преклонение перед великим и прекрасным свойственно мне с младых ногтей, и сознание, что я день ото дня, час от часу ращу и воспитываю в себе это свойство, – поистине блаженное сознание.
В краях, где день услаждает тебя, вечер радует и того больше, наступление ночи значительное событие. Окончена работа, вернулись с прогулки гуляющие, отец нетерпеливо поджидает дома свою дочь: день окончен. Но мы, киммерийцы, едва знаем, что такое день. В вечном тумане и сумраке, что день, что ночь, нам все равно. Ибо долго ли мы радуемся и веселим свою душу под открытым небом? Здесь наступление ночи означает, что прошел день, состоявший из вечера и утра, прожиты двадцать четыре часа, начинается новый отсчет времени: гудят колокола, люди творят вечернюю молитву, служанка вносит в комнату зажженную лампу и говорит: «Felicissima notte!» Этот миг наступает раньше или позже в зависимости от времени года, и тот, кто живет здесь полной жизнью, с толку не собьется, ведь любая радость приурочена не к какому-то часу, а ко времени дня. Навяжите этому народу немецкое время, и вы сведете его с ума, ибо здешнее тесно связано с натурой итальянцев. За час-полтора до наступления ночи местная знать выезжает кататься по Бра, широкой и длинной улице, к новым воротам Nuova, потом за ворота, вокруг города, и, когда пробьет полночь, все экипажи поворачивают обратно. Кто едет в церковь послушать «Ave Maria della sera», кто задерживается на Бра, кавалеры подходят к каретам, беседуют с дамами; это продолжается довольно долго, я ни разу не дождался конца. Пешеходы прогуливаются до глубокой ночи. Сегодня шел дождь, он только-только прибил пыль, – весело и радостно было на все это смотреть…
Виченца, 19 сентября.
Я приехал сюда несколько часов тому назад, успел уже обежать город, видел Олимпийский театр и строения Палладио. Для удобства приезжих здесь издана премилая книжечка, иллюстрированная гравюрами на меди; автор ее хорошо разбирается в вопросах искусства. Только увидев эти творения собственными глазами, познаешь всю их значимость, ибо подлинной своей величиной и материальностью они дают пищу зрению, а прекрасной пространственной гармонией доставляют удовлетворение духу, и притом не на абстрактном чертеже, но в согласии со всеми законами перспективы, то приближающей их к нам, то от нас отдаляющей, так что я теперь смело могу сказать о Палладио – это человек огромной внутренней силы, сумевший обратить ее вовне. Основная трудность, с которой ему приходилось бороться, как и всем зодчим новейшего времени, это распределение колонн в гражданском зодчестве, так как сочетание стены и колонн – извечное противоречие. Но как же он с ним справился, как он умеет произвести впечатление и заставить нас позабыть, что это всего лишь уловка! Право, есть нечто божественное в его строениях, они – как чудодейственная сила великого поэта, который из правды и вымысла создает нечто третье, завораживающее нас своим заимствованным бытием.
Олимпийский театр – театр древних в миниатюре. Несказанно прекрасный, он в сравнении с нынешними театрами все же представляется мне знатным, богатым, хорошо воспитанным ребенком рядом с умным, многоопытным человеком, пусть не столь знатным, богатым и воспитанным, но зато знающим, как распорядиться средствами, у него имеющимися.
Когда здесь, на месте, рассматриваешь величественные здания, возведенные этим человеком, и видишь, как они изуродованы мелкими, грязными людскими потребностями, когда понимаешь, что планы по большей части превосходили возможности исполнителей, и еще: сколь мало эти бесценные памятники высокого духа соответствовали жизни всего прочего человечества, то поневоле начинаешь думать, что везде происходит одно и то же. Люди не поблагодарят тебя за стремление возвысить их внутренние потребности, внушить им более высокое представление о самих себе, заставить их почувствовать величие доподлинно благородного существования. Но ежели ты обманешь «птиц», начнешь рассказывать им небылицы, изо дня в день будешь портить их, тогда ты для них «свой человек» – наверно, поэтому новейшее время так пристрастно к безвкусице. Я говорю это не затем, чтобы принизить моих друзей, а просто чтобы сказать – они таковы, а следовательно, не стоит удивляться, что все идет так, как идет.
Как выглядит базилика Палладио рядом со старым зданием, смахивающим на замок и усеянным разнокалиберными окнами, которое архитектор, конечно же, намеревался снести вместе с башней, трудно передать словами, и мне приходится гнать от себя странно неприятное чувство, ибо здесь я, увы, нахожу рядом то, от чего бегу, и то, чего ищу.
20 сентября.
Вчера давали оперу, она затянулась до полуночи, а мне до смерти хотелось спать.
Отрывки из «Трех султанш» и «Похищения из сераля» – вот материал, из которого неумело сварганили это произведение. Музыка, довольно приятная, видимо, была состряпана любителем, ни одной новой мысли, которая бы меня взволновала. Зато балетные номера прелестны. Главные солисты протанцевали аллеманту с изяществом необыкновенным.
Театр новый, уютный, роскошный, но и скромный в то же время; все одно к одному, как то и подобает провинциальному театру; на барьере каждой ложи – одноцветный ковер, ложу капитана Гранде отличает от прочих только более длинный занавес.
Примадонну – видимо, любимицу здешней публики – каждый раз встречают громом аплодисментов, от восторга «птицы» ведут себя достаточно буйно, когда она особенно отличается, что бывает в общем-то часто. Примадонна держится очень естественно, у нее красивая фигура, прекрасный голос, милое лицо и хорошие манеры. Жесты ее могли бы быть грациознее. И все-таки второй раз в этот театр я не пойду – видно, уже не гожусь в «птицы».
21 сентября.
…Сегодня я посетил так называемую «Ротонду» – великолепный дом на живописном холме в получасе ходьбы от города. Это четырехугольное здание заключает в себе круглую залу с верхним светом. Со всех четырех сторон к нему поднимаешься по широким лестницам и всякий раз попадаешь в портик, образуемый шестью колоннами. Думается, что зодчество никогда еще не позволяло себе подобной роскоши. Пространство, занимаемое лестницами и портиками, много больше того, что занимает самый дом, ибо каждая его сторона в отдельности может сойти за храм. Внутри это строение я бы назвал уютным, хотя оно и не приспособлено для жилья. Пропорции залы поистине прекрасны, комнат – тоже. Но для летнего пребывания знатного семейства здесь, пожалуй, тесновато. Зато дом царит над всей округой, и откуда ни глянь – он прекрасен. А в каком разнообразии предстает перед путником весь массив здания вкупе с выступающими колоннами! Владелец полностью осуществил свое намерение – оставить потомкам майорат и в то же время чувственный памятник своего богатства. И если это здание, во всем своем великолепии, видно с любой точки окружающей местности, то вид из его окон тоже утеха зрению.
Падуя, 26 сентября, вечером.
За четыре часа я добрался до Падуи в маленькой одноместной карете, так называемой седиоле, куда втиснулся вместе со всем своим добром. Обычно такое расстояние спокойно проезжают за два часа, но так как мне было приятно провести этот чарующий день под открытым небом, то я не сердился на веттурино, небрежно отнесшегося к своим обязанностям. Мы ехали по богатой, плодородной долине все время на юго-восток, ничего не видя, кроме изгородей и деревьев, покуда справа не показалась живописная горная цепь, тянувшаяся с севера на юг. Изобилие плодов и растений, свешивавшихся с деревьев на изгороди и стены, не поддается описанию. Крыши завалены тыквами, с подпорок и шпалер свешиваются какие-то немыслимые огурцы.
Из обсерватории мне как на ладони видно было великолепное расположение города. С севера заснеженные Тирольские горы, наполовину скрытые облаками, на северо-западе примыкают Вичентинские и, наконец, поближе на западе – горы Эсте, очертания и впадины которых тоже видишь совершенно отчетливо. На юго-востоке – зеленое море растительности, без малейшего возвышения, дерево к дереву, куст к кусту, бесчисленные насаждения и несметное количество белых домиков, вилл и церквей, выглядывающих из зелени. На горизонте я ясно различал колокольню Св. Марка в Венеции и другие башни – поменьше…
Венеция
Венеция, 28 сентября 1786 г.
Итак, в книге судеб на моей странице стояло, что в 1786 году двадцать восьмого сентября под вечер, по нашему времени в пять часов, мне суждено, въезжая из Бренты в лагуны, впервые увидеть Венецию и вскоре затем вступить в этот дивный город-остров, в эту республику бобров. И вот, благодарение богу, Венеция для меня уже не только звук, не пустое слово, так часто отпугивавшее меня, заклятого врага пустых слов и звуков.
Когда к нашему кораблю подошла первая гондола (это делается для того, чтобы поскорее доставить в Венецию торопливых пассажиров), мне вспомнилась игрушка из моего раннего детства, о которой я уже лет двадцать не вспоминал. Отец привез из своего итальянского путешествия прекрасную модель гондолы. Он очень ею дорожил, и мне, лишь в виде особой милости, позволялось играть ею. Первые остроконечные клювы из блестящего листового железа и черные клетки гондол приветствовали меня, как добрые старые знакомцы, я упивался уже позабытыми было впечатлениями детства.
Поселился я в «Королеве Англии», неподалеку от площади Св. Марка, что составляло основное преимущество и вообще-то удобной гостиницы. Окна мои выходят на узкий канал, зажатый высокими домами, прямо подо мною горбатый мостик, а напротив – узкая оживленная улочка. Так вот я живу, и проживу еще некоторое время, покуда не будет готов мой пакет для Германии и покуда я досыта не нагляжусь на этот город. Одиночеством, по которому я так тосковал, мне наконец-то дано насладиться, ведь нигде не бываешь более одинок, чем в толчее, через которую ты протискиваешься, никем не знаемый. В Венеции меня знает разве что один человек, да и тот не сразу встретится мне.
29-е, в день святого Михаила, вечером. О Венеции столько уже написано и напечатано, что я не стану вдаваться в подробные описания, скажу только, какою она открывалась мне. Как всегда, мое внимание прежде всего привлек народ – большие массы людей, их вынужденная, а не избранная жизнь здесь.
Не для забавы бежали эти люди на острова, не произвол погнал других последовать за ними. Нужда принудила их искать безопасного укрытия в этом, казалось бы, неблагоприятном месте, впоследствии столь им благоприятствовавшем и научившем их уму-разуму, в то время, когда весь северный мир еще пребывал во мраке. А их размножение, их богатство было уже неизбежным следствием. Жилища теснились друг к другу, песок и трясина заменялись скалистым основанием, дома искали воздуха – как деревья, стесненные в густой чащобе, они стремились в высоту, наверстывая то, что теряли в ширину. Скупясь на каждую пядь земли и с самого начала теснясь на малом пространстве, они оставляли улице не больше ширины, чем требовалось для того, чтобы один ряд домов отделить от противоположного и оставить жителям лишь необходимейшие проходы. Вообще же вода служила им улицей, площадью, местом для прогулок. Венецианец волей-неволей должен был стать человеком совсем новой породы, ибо и Венецию можно сравнивать только с Венецией же. Большой, извивающийся змеею канал не уступает ни одной улице на свете, так же как пространство перед площадью Св. Марка не знает равных себе на свете. Я говорю о большом водном зеркале, которое, как полумесяц, с одной стороны охвачено городом Венецией. По другую сторону водной глади слева виден Сан-Джорджио-Маджори, чуть правее – Джудекка с ее каналом, немного подальше – Догана и въезд в Большой канал, где нас встречают своим сиянием два гигантских мраморных храма. Вот краткий перечень того, что сразу бросается нам в глаза, когда мы стоим меж двух колонн площади Св. Марка. Все эти виды так часто гравировались на меди, что мои друзья без труда составят себе наглядное представление о них.
После обеда, в жажде поскорее составить себе впечатление от целого, я без провожатого, ориентируясь только по странам света, ринулся в лабиринт этого города. Весь изрезанный каналами и канальчиками, он, тем не менее, воссоединен мостиками и мостами. Здешнюю тесноту и скученность трудно себе представить, не видя ее. Как правило, ширину улочки можно измерить распростертыми руками, а на самых узких, подбоченясь, локтями уже касаешься стен. Есть, правда, улочки пошире, кое-где даже маленькие площади, но в общем-то повсюду теснота.
Я без труда нашел Большой канал и главный мост Венеции – Риальто. Собственно, этот мост – одна беломраморная арка. С нее открывается широкий вид – канал, изборожденный судами, которые доставляют сюда с материка все, что нужно людям, здесь причаливают и разгружаются, между ними снуют гондолы. Сегодня по случаю праздника святого Михаила, все оживлено еще более чем обычно, но, чтобы дать представление об этой картине, я должен предварить ее несколькими словами.
Две главные части Венеции, разделенные Большим каналом, соединяет только мост Риальто, однако здесь предусмотрены и другие коммуникации, а именно баржи, которые в определенных местах перевозят людей и грузы. Сегодня они выглядели особенно живописно, заполненные нарядными женщинами – правда, в черных вуалях, – спешивших в церковь на престольный праздник. Я ушел с Риальто и отправился к перевозу, поближе посмотреть на них. И сколько же я увидел красивых лиц и стройных фигур!
Уставши, я покинул тесные улочки, сел в гондолу и, чтобы уготовить себе прямо противоположное зрелище, обогнув остров Св. Клары, через лагуны въехал в канал Джудекки и так добрался до площади Св. Марка, чувствуя себя властителем Адриатического моря, как любой венецианец, усевшийся в свою гондолу. При этом я с глубоким уважением думал о славном своем отце, которому ничто не доставляло большей радости, чем подобные воспоминания. Будет ли и со мною так же? Все, что сейчас меня окружает, это грандиозное и достойное творение объединенных человеческих усилий, величественный памятник, памятник не властелину, а народу. И если лагуны Венеции мало-помалу заполняются илом, если зловредные испарения подымаются над болотами, торговля чахнет, могущество республики ослабевает, то все же самый ее строй и ее сущность ни на мгновенье не покажутся наблюдателю менее достойными почитания. Она подвластна времени, как и все сущее в мире явлений.
3 октября.
Церковь Il Redentore[1] – прекрасное, величавое творение Палладио. Фасад ее примечательнее фасада Сан-Джорджио. Надо воочию увидеть эти здания, многожды гравированные на меди, чтобы сказанное мною стало наглядным. Я же ограничусь несколькими словами.
Палладио, до мозга костей проникнутый жизнью древних, ощущал мелкость и узость своего времени, как истинно великий человек, который не желает уступать, но, напротив, стремится по мере возможности все преобразить в соответствии со своими высокими и благородными представлениями. Он был недоволен – я это заключаю из одного, достаточно, впрочем, мягкого оборота в его книге, – что христианские церкви продолжают воздвигать в форме старинных базилик, и потому тщился приблизить свои священные здания к формам древних храмов. Отсюда возникли известные несообразности, которые он, как мне думается, удачно устранил в Il Reden tore, тогда как в Сан-Джорджио они очень заметны. Фолькман высказывается по этому поводу, но в точку, собственно, не попадает.
Внутри Il Redentore тоже все очаровательно, вплоть до росписи алтарей, собственноручной работы Палладио. К сожалению, ниши, предназначавшиеся для статуй, заполнены плоскими размалеванными дощатыми фигурами.
3 октября.
Вчера вечером был в опере у Св. Моисея (здесь театры называются по ближайшей церкви). Особого удовольствия не получил! Либретто, музыке и певцам недостает внутренней энергии, которая только и может довести до совершенства подобный спектакль. Ни одну его часть плохой не назовешь, но только две женщины прилагали усилия, не для того, чтобы хорошо играть, но чтобы повыгоднее подать себя и понравиться публике. А это уже нечто. У обеих хорошая внешность, превосходные голоса, и вообще они изящные, веселые и бойкие создания. У мужчин, напротив, ни малейшего признака внутренней силы и желания что-то внушить публике, да и голоса не сказать чтобы блестящие.
Балет, убогая придумка, в целом был освистан, хотя нескольким отличным прыгунам и прыгуньям порядком аплодировали, возможно потому, что последние считали своим долгом знакомить зрителей с каждой красивой частью своего тела.
3 октября.
Сегодня мне довелось побывать на другой комедии, больше меня порадовавшей. Во Дворце дожей публично разбиралось гражданское дело, весьма важное. К моей радости, слушанье его пришлось на каникулярное время. Один из адвокатов соединял в себе все утрированные качества классического буффо. Толстый, приземистый, при этом необыкновенно подвижный, с резким профилем, с голосом, точно медная труба, и таким пылом, словно то, что он говорит, до глубины души волнует его. Я называю происходившее комедией, ибо весь этот публичный спектакль, видимо, разыгрывается как по нотам. Судьи знают, что им надо будет сказать, стороны – чего им ждать. И все же эта процедура мне больше по душе, чем наше нескончаемое сидение в душных канцеляриях. А сейчас я попытаюсь описать, как естественно и чинно, без всякой театральности все это совершается.
В просторной зале Дворца дожей по одну ее сторону полукругом сидят судьи. Напротив них, за кафедрой, за которой могли бы в ряд поместиться несколько человек, сидят адвокаты обеих сторон, перед ними на скамейке истцы и ответчица собственной персоной. Адвокат истца сошел с возвышения, поскольку в сегодняшнем заседании прений не предполагалось, а должны были зачитываться все документы pro и contra – впрочем, имевшиеся уже в печатном виде.
Тощий писарь в черном потрепанном сюртуке, с толстой подшивкой в руках готовился приступить к своим обязанностям чтеца. Зала была битком набита пришедшими послушать и поглядеть. Правовой вопрос сам по себе, равно как и лица, которых он затрагивал, видимо, представлялся венецианцам весьма важными.
Наследники майоратов пользуются в этой республике немалыми привилегиями, недвижимость, однажды объявленная майоратом, навечно сохраняет свои права; если в силу каких-нибудь обстоятельств она и подвергалась отчуждению даже несколько столетий тому назад, то, когда дело дойдет до открытого судебного разбирательства, оказывается, что права потомков первого семейства неприкосновенны и земельная собственность должна быть возвращена им.
На сей раз вопрос стоял очень остро, так как иск был вчинен самому дожу, вернее, его супруге, которая, закутанная в свою накидку, самолично восседала на скамеечке, отделенной лишь малым расстоянием от места истца. Дама почтенного возраста, благородного телосложения, с красивым лицом, которое хранило суровое, даже угрюмое выражение. Венецианцы горды тем, что догаресса в собственном дворце была вынуждена предстать перед судом и перед ними.
Писарь начал читать, и тут только мне уяснилась роль человечка, сидевшего на низкой скамеечке за маленьким столиком напротив адвокатской кафедры, и, прежде всего, что значили песочные часы, которые он поставил перед собой. Покуда писарь читает, время остановлено, адвокату же, если он пожелает говорить, дается только ограниченное время. Писарь читает, часы лежат, человечек держит на них руку. Но стоит адвокату открыть рот, и часы уже принимают вертикальное положение; не успеет он замолкнуть, как они опять лежат. И это большое искусство – прервав поток чтения, вставлять беглые замечания, неукоснительно возбуждать вниманье слушателей. Но маленький Сатурн испытывает тут немалую трудность – он вынужден то и дело менять вертикальное положение часов на горизонтальное, иными словами, он оказывается чем-то вроде злого духа в кукольном театре, который в ответ на быстрые восклицания озорника Гансвурста: «Берлике! Берлике!» – не знает, уходить ему или оставаться.
Тот, кто наслышался в канцеляриях, как последующие документы сверяют с оригиналом, может без труда представить себе это чтение – быстрое, монотонное, но хорошо артикулированное и удобопонятное. Искусный адвокат умеет шутками разгонять скуку, и публика покатывается со смеху над его остротами. Не могу не вспомнить одну его шутку, пожалуй самую необычную из тех, которые я понял. Писарь как раз зачитал документ, согласно коему один из владельцев, признанный неправомочным, распорядился спорным имуществом. Адвокат попросил его читать помедленнее, и, когда тот отчетливо произнес: «Я дарю, я завещаю», он яростно напустился на чтеца, восклицая: «Что это ты собрался дарить? Что завещать, несчастный голодранец?! Нет ведь ничего на свете, что бы тебе принадлежало. Впрочем, – он, сделал вид, что одумался, – тот сиятельный владелец был точно в таком же положении и намеревался подарить, намеревался завещать то, что также не принадлежало ему, как не принадлежит и тебе».
Хохот разразился в зале, но песочные часы тотчас же приняли горизонтальное положение. Писарь продолжал свое назойливое чтение, бросая на адвоката злобные взгляды. Но это была заранее обусловленная потеха.
5 октября, поздним вечером.
Я вернулся с трагедии, покатываясь со смеху, и решил тотчас закрепить на бумаге эту забавнейшую историю. Пьеса была недурна, автор выложил все свои трагические козыри, и актерам было легко играть. Некоторые положения были общеизвестны, другие новы и даже удачны. Два отца, исполненных ненависти друг к другу, сыновья и дочери этих разделенных враждою семейств, страстно влюбленные вопреки родовой вражде, более того, одна пара даже тайно обвенчана. Вокруг молодых людей разыгрывались свирепые, дикие страсти, и под конец автору, чтобы устроить их счастье, пришлось заставить заколоться обоих отцов, после чего занавес опустился под бурные аплодисменты. Овация становилась все громче, публика кричала: «Fuora!»[2] – до тех пор, покуда две главные пары не выбрались из-под занавеса, чтобы отвесить несколько поклонов и уйти в другую кулису.
Но публика этим не удовлетворилась, под неумолчные аплодисменты она вопила: «I morti»[3] Длилось это, покуда оба мертвеца не вышли, чтобы, в свою очередь, раскланяться, а так как многие все еще кричали: «Bravi i morti!»[4], то их еще долго задерживали на просцениуме, прежде чем отпустить. Все эти выходки имеют особую прелесть для тех, кто видел их своими глазами и у кого крики «браво! браво!», ежеминутно готовые сорваться с языка у итальянцев, все еще звенят в ушах, как у меня, а тут он еще слышит, как и мертвых почтили этим восторженным возгласом.
«Доброй ночи!» Мы, северяне, говорим это всякий раз, расставаясь, когда уже стемнело, итальянец желает другим: «Felicissima notte!»– лишь однажды, когда в комнату, на рубеже дня и ночи, вносят зажженные свечи, и значит это нечто совсем другое. Дело в том, что особенности языка всегда непереводимы; от самого высокого и до самого низкого слова все зависит от своеобразия нации, будь то ее характер, убеждения или жизненные обстоятельства.
6 октября.
Вчерашняя трагедия многому меня научила. Во-первых, я услышал, как итальянцы, декламируя, управляются со своими одиннадцатисложными ямбами, и к тому же понял, как умно Гоцци соединял свои маски с трагическими образами. Таков доподлинный театр этого народа; итальянцы жаждут примитивной растроганности, глубокого, нежного сочувствия к несчастному они не испытывают, их радует лишь красноречие героя, ораторские способности они умеют ценить, но «на закуску» хотят посмеяться или принять участие в какой-нибудь вздорной истории.
Театральное представление они воспринимают как действительную жизнь. Когда тиран протянул меч сыну и потребовал, чтобы тот заколол им свою собственную жену, стоявшую рядом, публика стала громко выражать свое неудовольствие этой коллизией; еще немножко, и спектакль был бы сорван. Публика требовала, чтобы старик взял свой меч обратно, что, разумеется, сделало бы последующие сцены невозможными. Наконец злополучный сын решился, вышел на просцениум и смиренно попросил сидящих в зале еще хоть на минутку набраться терпения, дальше, мол, все пойдет, как им того хочется. С точки зрения искусства сцена убийства и вправду была нелепа и противоестественна, и я воздал народу хвалу за его чуткость.
Теперь мне сделались понятнее длинноты и нескончаемые рассуждения в греческих трагедиях. Афиняне еще охотнее, чем итальянцы, слушали речи и знали в них толк; недаром же они целыми днями возлежали в судилищах, кое-чему они там научились.
6 октября.
Сегодня утром был на литургии в церкви Св. Юстина, где в этот день, в память давней победы над турками, непременно присутствует дож. Когда к маленькой площади подходят позолоченные барки, на которых прибывает дож и многие знатные семейства, корабельщики в оригинальных костюмах орудуют ярко-красными веслами, а на берегу духовенство и монашеские ордена с зажженными свечами на шестах или в переносных серебряных светильниках стоят, теснятся, волнуются и ждут, когда наконец с судов на землю перебросят обитые коврами мостки и по мостовой начнут расстилаться сперва лиловые одежды шестнадцати министров республики, затем красные – сенаторов и под конец сойдет старец в золотом фригийском колпаке, длиннейшем золотом таларе и горностаевой мантии, трое слуг несут его шлейф, – и все это происходит на маленькой площади перед порталом церкви, а у ее дверей – развернутые турецкие знамена, так что вдруг начинает казаться, что ты видишь старинные тканые шпалеры с ярким и прекрасным рисунком. Мне, беглецу с севера, эта церемония доставила много радости. У нас, где на празднествах щеголяют в куцых камзолах, а в самых торжественных случаях еще и с оружием за плечами, такого, конечно, быть не может. Здесь же эти одеяния со шлейфами, эти мирные процессии естественны и уместны.
Дож – рослый, красивый мужчина, возможно, нездоровый, но сейчас, дабы не уронить своего достоинства, он держится очень прямо под тяжелыми своими одеждами. Благосклонный и приветливый, он выглядит дедушкой всего своего народа. Торжественный наряд очень идет к нему, шапочка под колпаком не режет глаз, – тонкая и прозрачная, она прикрывает самые белые, самые светлые волосы, какие только есть на свете.
Человек пятьдесят нобилей в длинных темно-красных одеждах сопровождают его. Почти все – ладные, видные мужи, рослые и большеголовые; им очень идут завитые белокурые парики. Черты у них резкие, хотя лица белые, мягкие, впрочем, лишенные непривлекательной дряблости; они выглядят умными и спокойными. Эти мужи явно уверены в себе, они легко и, без сомнения, радостно приемлют жизнь.
Когда все уже заняли в церкви положенные им места и литургия началась, в главную дверь стали входить монахи; окропив себя святой водою и склонив колена перед главным алтарем, перед дожем и перед знатью, они выходили в правую боковую дверь.
6 октября.
На сегодняшний вечер я заказал для себя прославленное пение гондольеров, которые поют Тассо и Ариосто на собственные мелодии. Это пение поневоле приходится заказывать, ибо оно стало редкостью, сродни наполовину отзвучавшим преданиям старины. При лунном свете я сел в гондолу, один певец встал впереди, другой сзади. Они затянули свою песню и пели поочередно, строфу за строфой. Мелодия, которую мы знаем из Руссо, нечто среднее между хоралом и речитативом, ход ее остается неизменным, но такт в ней отсутствует; да и модуляция одна и та же, только что гондольеры, в зависимости от содержания строфы, как бы декламируя, меняют интонацию и размер. Но дух их пения, его жизнь мне понятны, о чем я и скажу сейчас.
Как создавалась эта мелодия, я вникать не стану, знаю только, что она как нельзя лучше подходит для праздного человека, который что-то напевает себе под нос, подгоняя под нее стихи, которые помнит наизусть.
Он сидит на острове, на берегу канала или на барке и всепроникающим голосом – народ здесь превыше всего ценит силу голоса – что есть мочи поет свою песню. Она разносится над тихим зеркалом вод. Где-то вдали ее слышит другой, мелодия ему знакома, слова он разобрал и отвечает уже следующей строфой, – так один гондольер становится эхом другого. Песня длится ночи напролет и, не утомляя, забавляет их. Чем дальше они друг от друга, тем обворожительнее их пение. Если слушатель находится посередине, значит, он выбрал себе наилучшее место.
Чтобы дать мне возможность это услышать, они высадились на берегу канала Джудекки и пошли в разные стороны, я же ходил взад и вперед между ними, всякий раз удаляясь от того, кто сейчас должен был запеть, и торопясь к тому, кто только что замолк. Тут-то мне и открылся смысл этого пения. Издалека песня звучит очень странно, как жалоба без печали. Есть в ней что-то невероятное и трогательное до слез. Я приписал это своему настроению, но старик, меня сопровождавший, сказал: «Singolare, come quel canto inteneris-ce, e molto piu, quando e piu ben cantato»[5]. Он рекомендовал мне послушать женщин с Лидо, в первую очередь с Маламокко и Палестрины, они тоже поют Тассо на эти или похожие мелодии. И еще добавил: «У них вошло в привычку, когда рыбаки, их мужья, уходят в море, вечерами садиться на берегу и что есть силы петь эти песни, покуда издалека до них не донесутся голоса мужей, – таким манером, они переговариваются с ними». Разве это не замечательно? И все же думается, что вблизи не порадуешься голосам, вступившим в спор с волнами морскими. Однако человечным и правдивым становится смысл этой песни, живой – мелодия, над мертвыми вокабулами которой мы прежде ломали себе голову. Это песнь одинокого человека, несущаяся вдаль и вширь, дабы другой, тоже одинокий, услышал ее и на нее ответил.
8 октября.
В доме Фарсетти имеется ценнейшая коллекция слепков с античных статуй… Не буду говорить о тех, что известны мне еще по Мангейму или по другим собраниям, упомяну лишь о новых знакомых. Клеопатра в ужасающем спокойствии, с аспидом, обвившим ее руку, она уже объята сном, переходящим в смерть; далее, мать Ниобея: стремясь защитить свою младшую дочь от стрел Аполлона, она прикрыла ее плащом; несколько гладиаторов; гений, покоящийся на сложенных крылах; философы – одни из них сидят, другие ходят.
Этим творениям человечество может радоваться, тысячелетиями учиться на них, не в силах исчерпать мыслью достоинств их создателей.
Множество замечательных бюстов переносят меня в прекрасные античные времена. Увы, мне ясно, как сильно я отстал в этой области знаний, но я все наверстаю, путь мне уже открылся. Палладио показал мне его, так же как путь ко всем искусствам и к самой жизни. Это, пожалуй, звучит странновато, но все же менее парадоксально, чем история с Якобом Бёме, которому Юпитер ниспослал озарение, и тот, при виде оловянной миски, познал Вселенную. В собрании находится также обломок перекрытия храма Антонина и Фаустины в Риме. Это произведение, тотчас поражающее наш взор, напоминало мне капитель Пантеона, которую я видел в Мангейме. Скажу без обиняков; это, конечно, ничего общего не имеет с нашими готическими украшениями – нахохленными святыми на консолях, взгроможденных одна над другой, с нашими колоннами, смахивающими на курительные трубки, с остроконечными башенками и зубчатыми цветочными гирляндами, от них я, слава богу, избавился на веки вечные!
Хочу упомянуть еще о нескольких скульптурах, которые я видел в эти дни, пусть мимоходом, но созерцал я их с благоговейным изумлением: два гигантских льва из белого мрамора перед воротами арсенала. Один сидит, упираясь передними лапами, другой лежит, величественные противоположности в живом своем многообразии. Они так огромны, что все вокруг них выглядит мелким, да и ты сам превратился бы в ничто, если бы твою душу не возвышали величественные произведения искусства. Говорят, что эти львы были созданы в лучшие времена Эллады и доставлены сюда из Пирея, когда республика переживала свою блистательнейшую пору.
Барельефы, вделанные в стены храма св. Юстины, видимо, афинского происхождения, – жаль, что их несколько затемняют церковные стулья. Служитель обратил на них мое внимание, так как, по преданью, они послужили Тициану прообразом его бесконечно прекрасных ангелов в картине «Убиение Петра-мученика». Эти гении резвятся, карают атрибутами богов, и это тем прекрасно, что превосходит все наши представления.
Смотрел я еще, с совсем особым чувством, колоссальную обнаженную статую Маркуса Агриппы во дворе одного палаццо; дельфин возле него, как бы вынырнувший из морских глубин, указует на то, что Маркус – герой-мореход. Подумать только, что такое героическое изобретение делает человека богоравным!
Коней на соборе св. Марка я рассматривал на близком расстоянии. Снизу тотчас не замечаешь, что все они пятнистые: местами с красивым желтоватым металлическим блеском, а местами уже тронуты медной зеленью. Отсюда видишь и догадываешься, что в свое время они были целиком позолочены. По тому, как они исполосованы, становится ясно, что варвары не спиливали позолоту, а силились сколоть ее. Ну что же, по крайней мере, хоть фигуры коней сохранились.
Великолепная упряжка! Хотел бы я услышать, что скажет о ней истинный знаток лошадей. Удивительно и то, что вблизи эти кони выглядят тяжелыми, а снизу, с площади, легкими, точно олени.
8 октября.
Сегодня поутру я поехал с моим ангелом-хранителем на Лидо, то есть на косу, которая замыкает лагуны и отделяет их от моря. Мы вышли из гондолы и зашагали поперек косы. До меня донесся громкий гул – это было море, вскоре я его увидел: отступая, волны высоко вздымались у берега. Уже настал полдень – время отлива.
Итак, мне довелось своими глазами увидеть море, довелось пройти по гладкой, как гумно, поверхности, которую оно, откатываясь, оставляет после себя. Мне захотелось, чтобы здесь были дети, – из-за раковин. Я и сам, как ребенок, набрал их немалую толику, правда, для определенной цели – засушить хоть немного жидкости каракатиц, которую те щедро выпускают здесь.
На Лидо невдалеке от моря хоронят англичан, подальше – евреев: и тем и другим не положено покоиться в освященной земле. Я разыскал могилу благородного консула Смита и его первой жены. Обязанный ему своим экземпляром Палладио, я возблагодарил его за таковой на этой неосвященной могиле.
Если бы только неосвященной, но она еще и наполовину засыпана песком. Лидо ведь не более как дюна, море наносит песок, ветер гонит его во все стороны; целые горы песка местами скапливаются, и он проникает повсюду. В скором времени трудно будет отыскать даже достаточно высокий памятник на могиле консула.
И все-таки море – величественное зрелище! Я хочу проплыть по нему в рыбачьей лодке – гондолы в море выходить не отваживаются.
8 октября.
На берегу я нашел всевозможные растения, общность характера позволила мне ближе узнать их свойства. Все они тучные и в то же время жесткие, сочные, но и стойкие – ясно, что исконная соль песчаной почвы, но еще больше соленый воздух придали им эти свойства. Они изобилуют соками, как водоросли, они крепки и устойчивы, как горные растения; ежели кончики их листьев снабжены чем-то вроде колючек, наподобие осота, то эти колючки острые и крепкие. Я наткнулся на клубок таких листьев, поначалу я принял его за нашу невиннейшую мать и мачеху, только что вооруженную грозным оружием; листья у нее точно кожа, так же как семенные коробочки, и стебли – мясистые, жирные. Я решил взять с собою немного семян и засушенных листьев (eryngium maritimum).
Рыбный рынок и бесчисленные «плоды моря» доставляют мне большое удовольствие, я часто захожу туда получше рассмотреть злополучных обитателей пучин, попавшихся в сети.
9 октября.
Чудный день, с утра и до вечера! Я побывал напротив Киоццы на Палестрине, где республика, спасаясь от натиска моря, возводит огромные сооружения, так называемые мурацци. Они сделаны из обтесанных камней и, собственно, предназначены для того, чтобы оградить от свирепой стихии длинную косу – прославленное Лидо, – отделяющую лагуны от моря.
Лагуны – следствие извечной работы природы. Прилив, отлив и земля противоборствовали друг другу, затем началось постепенное понижение первозданных вод, все это вместе и стало причиной того, что на верхнем конце Адриатического моря образовалась большая полоса болот. Прилив набегает на нее, а отлив лишь частично ее затрагивает. Искусство завладело всеми возвышенностями, и так вот простирается Венеция, составившаяся из сотен островов и сотнями же островов окруженная. В то же самое время, с невероятными усилиями и расходами, в болотах прорыли каналы, дабы военные корабли и во время отлива могли входить в важнейшие гавани. То, что людское усердие и хитроумие придумали и создали в давние времена, ныне должно поддерживаться умом и трудоспособностью потомков. Лидо – длинная коса, отделяет лагуны от моря, которое проникает в них лишь в двух местах – неподалеку от Кастелло и на противоположном краю, у Киоццы. Во время прилива, обычно дважды в день, морская вода заливается в лагуны, отлив дважды выносит ее, всегда тем же путем и в том же направлении. Прилив покрывает болотистые места внутри лагун, более же высокие остаются если не сухими, то все же видимыми.
Все было бы по-другому, если бы море в поисках новых путей хлынуло на косу и воды его свободно устремились бы туда и обратно. Не говоря уж о том, что поселки на Лидо, Палестрине, Сан-Пьетро и прочих были бы затоплены, но разлились бы и проезжие каналы. Такой водяной разгул все бы перемешал и перепутал, Лидо превратилось бы в острова, острова, лежащие за ним, – в песчаные отмели. Стремясь избегнуть этой беды, венецианцы всеми силами сберегают Лидо, чтобы стихии неповадно было сметать и рушить то, чем уже сумел завладеть человек, то, чему он придал форму и обличье для определенных целей.
В исключительных случаях, когда море разливается сверх всякой меры, счастьем следует почитать, что доступ ему открыт лишь в двух точках, все же остальное наглухо заперто от него; это уменьшает ярость его натиска, а через несколько часов оно все равно неизбежно подчинится закону отлива.
Вообще же Венеции нечего тревожиться, медлительность, с которой отступает море, подарит ей еще тысячелетье спокойствия; разумно поддерживая каналы, она сумеет сохранить все, чем владеет.
Если бы только венецианцы почище содержали свой город, это необходимо, нетрудно и крайне важно для будущего. Правда, сейчас уже под угрозой крупного штрафа запрещено выбрасывать или сметать мусор в каналы, но ведь внезапно налетевшему дождю не запретишь ворошить мусор, рассованный по углам, и сыпать его в каналы или, что еще хуже, забивать им трубы для стока воды и засорять их до такой степени, что главным площадям грозит опасность быть постоянно залитыми водой. Даже некоторые стоки на малой площади Св. Марка, проложенные, как и на большой, весьма искусно, я видел забитыми сором и полными воды.
Когда выдастся дождливый день, грязь в городе непролазная, прохожие ругаются и клянут все на свете; всходя на мостики и спускаясь с них, обязательно измараешь пальто и табарро, с которыми здесь не расстаются, вдобавок венецианцы всегда носят чулки и башмаки; то и другое забрызгано грязью, кстати, грязью липкой и едкой. Но вот опять распогодилось, и ни один человек уже не думает о чистоте. Верно говорят, что люди вечно жалуются на плохую обслугу, но как сделать ее лучше, никто ума не приложит.
В Венеции, если бы верховный правитель этого пожелал, все бы мигом устроилось.
10 октября.
Наконец-то и мне можно сказать: я видел комедию! Сегодня в театре Св. Луки давали «Le Baruf e Chiozzotte», что приблизительно можно перевести как «Ссоры и свары в Киоцце». Действующие лица – моряки, жители Киоццы, их жены, сестры и дочери. Крикливые голоса этих персонажей в разговоре как добродушном, так и сердитом, их ссоры, их запальчивость, добродушие, пошлость, остроты, юмор и полная непринужденность манер воспроизведены превосходно. Пьеса принадлежит еще перу Гольдони, а так как я только вчера побывал в Киоцце, а голоса и повадки моряков и рабочих гавани еще звучали у меня в ушах и стояли перед глазами, то я, естественно, получил большое удовольствие, и хотя кое-какие подробности и ускользали от меня, целое я все же понимал довольно хорошо. Сюжет пьесы заключается в следующем: жительницы Киоццы сидят на берегу перед своими домами и, как обычно, прядут, вяжут, шьют, плетут кружева. Мимо проходит молодой человек и с одной из них здоровается приветливее, чем с другими. Тотчас же начинают сыпаться шпильки, они быстро перерастают в насмешки, в злые укоры, в отчаянное озорство, одна бесцеремонная соседка выпаливает всю правду, дело доходит до серьезных оскорблений, в конце концов появляются судебные власти.
Второй акт происходит в зале суда; вместо отсутствующего подесты действует актуарий, подеста как нобиле не должен появляться на сцене театра; итак, актуарий поодиночке вызывает женщин. Положение довольно щекотливое, так как сам он влюблен в первую любовницу, счастлив, что наконец-то оказался с нею наедине, и, вместо того чтобы ее допрашивать, объясняется ей в любви. Другая, влюбленная в актуария, в приступе ревности врывается к ним, следом за нею – взволнованный любовник первой, а за ним и остальные; новые попреки, перебранка, и в зале суда разыгрывается та же чертовщина, что и в гавани.
В третьем акте все еще смешнее, но развязка – торопливая и довольно бесцветная. Зато очень удачно воплощена идея пьесы в одном персонаже, а именно в старом моряке, вся стать которого, равно как и органы речи, из-за тяжелой юности утратили быстроту и подвижность.
Он как бы являет собою противоположность вертлявому, болтливому и крикливому народу. Прежде чем облечь в слова свою мысль, он словно берет разбег – шевелит губами, жестикулирует и наконец выпаливает ее. Но поскольку ему все равно удаются лишь короткие фразы, то у него выработалась привычка к лаконической суровости, отчего все его речи звучат как сентенции или пословицы, что прекрасно уравновешивает дикое, необузданное поведение остальных.
Однако такого буйного веселья, какое охватило публику, узнавшую себя и себе подобных в столь правдивом изображении, я сроду не видывал. Хохот и восторженные восклицания не умолкали в зале. Надо сказать, что и актеры играли великолепно. В зависимости от воплощаемых персонажей, они усвоили голоса и повадки, часто встречающиеся в народе. Примадонна была обворожительна – куда лучше, чем объятая страстью, в одеждах героини на прошлом представлении. Всяческих похвал заслуживает автор, из сущего пустяка создавший приятнейшее вечернее времяпрепровождение. Но такое, конечно, возможно, только среди собственного жизнерадостного народа. Пьеса, несомненно, написана рукой большого мастера.
