Север и Юг
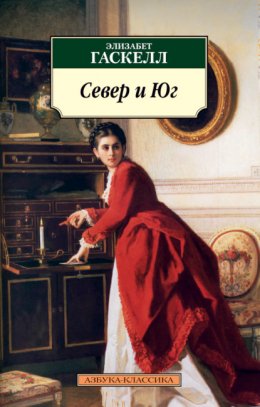
Elizabeth
GASKELL
1810–1865
Перевод с английского
Валентины Григорьевой, Елены Первушиной
© В. А. Григорьева, Е. В. Первушина, перевод, 2011
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус “», 2011 Издательство АЗБУКА®
В связи с тем что эта история впервые публиковалась в «Домашнем чтении», необходимо было соблюдать требования, обусловленные еженедельным изданием, а также придерживаться заявленных ограничений, дабы оправдать ожидания читателей. Хотя в данных условиях по мере возможности допускались послабления, автору не удалось развернуть повествование, следуя изначальному замыслу, – в частности, пришлось под конец ускорить ход событий до неправдоподобной поспешности. Чтобы в какой-то мере восполнить этот очевидный изъян, были добавлены различные короткие вставки и написано несколько новых глав. С этим кратким пояснением история представляется на суд благожелательного читателя.
Нижайше умоляя его о милосердии, жалости и сострадании к сему несовершенному творению.
Том I
Глава I
Предсвадебная суета
Ухаживал, женился, и все.
– Эдит! – тихонько позвала Маргарет. – Эдит!
Но Эдит, как и подозревала Маргарет, уснула. Она свернулась клубочком на диване в гостиной дома на Харли-стрит и, в белом муслиновом платье с голубыми лентами, выглядела прелестно. Если бы Титания[1]оделась в белое муслиновое платье с голубыми лентами и задремала в гостиной на диване, обитом темнокрасной камчатной тканью, она выглядела бы точь-в-точь как Эдит. Маргарет, как всегда, залюбовалась красотой кузины. Они выросли вместе, и окружающие не раз отмечали миловидность Эдит, но Маргарет не задумывалась об этом до последнего времени, когда предстоящая разлука с подругой, казалось, придала Эдит еще большую прелесть и очарование. После обеда девушки шептались о свадебных нарядах и торжествах; и о капитане Ленноксе, с его описанием предстоящей жизни Эдит на Корфу, где был расквартирован его полк; и о том, как сложно поддерживать пианино в надлежащем состоянии (Эдит, похоже, считала это самым тяжелым испытанием из того, что могло выпасть на ее долю в замужестве); и о платьях, которые ей понадобятся во время медового месяца в Шотландии; потом шепот стал совсем сонным, и после затянувшейся паузы Маргарет обнаружила, что, несмотря на гул голосов в соседней комнате, Эдит свернулась в комочек – очаровательный комочек из муслина, лент и шелковистых локонов – и уснула мирным послеобеденным сном.
Маргарет как раз намеревалась поговорить о собственных планах и мечтах, о своей будущей жизни в деревне, в доме священника, где жили ее родители и где она проводила незабываемые каникулы, хотя последние десять лет ее домом считался дом тети Шоу. Но за неимением слушателя ей пришлось размышлять о переменах в своей жизни, как и прежде, про себя. Это были приятные мысли, хотя и с оттенком сожаления из-за предстоящей разлуки на неопределенный срок со своей милой тетушкой и дорогой кузиной. Она размышляла о преимуществах положения единственной дочери священника в Хелстоне, когда до нее донеслись обрывки разговора из соседней комнаты. Тетя Шоу беседовала там с приехавшими на обед дамами, чьи мужья все еще оставались в столовой. Все они были близкими знакомыми семьи, соседями, которых миссис Шоу звала друзьями, потому что ей доводилось обедать с ними чаще, чем с другими людьми, а также потому, что, если ей или Эдит нужно было что-то от них или им от нее, они, не чинясь, наносили друг другу визиты в первой половине дня. Эти дамы с мужьями были приглашены в качестве друзей на прощальный обед в честь предстоящего замужества Эдит. Сама Эдит охотнее отменила бы этот обед, из-за того что с последним вечерним поездом ожидалось прибытие капитана Леннокса. Эдит хоть и была избалованным ребенком, но по лени и легкомыслию не имела достаточной силы воли, чтобы настоять на своем, а потому уступила, выяснив, что миссис Шоу заказала самые изысканные для этого времени года лакомства, которые, несомненно, должны были скрасить неимоверную скуку такого мероприятия, как прощальный обед. Эдит удовольствовалась тем, что, откинувшись на спинку стула и приняв чинный и отсутствующий вид, рассеянно водила вилкой по тарелке, пока все остальные наслаждались остротами мистера Грея, джентльмена, который, по обыкновению, сидел в конце стола на званых обедах миссис Шоу и просил Эдит доставить им удовольствие игрой на пианино в гостиной. Мистер Грей был сегодня в ударе, и джентльмены оставались внизу дольше обычного. Благодаря этому Маргарет смогла услышать кое-что из разговора, который вели дамы.
– Я сама слишком много страдала. Нет, я не могу сказать, что не была совершенно счастлива с моим бедняжкой-генералом, и все же разница в возрасте – это помеха для счастья, чего я твердо решила не допустить в жизни Эдит. Конечно, я предвидела, что мое дорогое дитя может выйти замуж рано. На самом деле, без всякой материнской предвзятости, я была уверена в том, что девочка выйдет замуж до девятнадцати лет. У меня возникло настоящее предчувствие, когда капитан Леннокс…
Здесь голос превратился в шепот, но Маргарет могла легко восполнить пробел. Истинная любовь в случае с Эдит развивалась весьма гладко. Миссис Шоу поддалась предчувствию, как она выразилась, и очень настаивала на браке, хотя многие знакомые Эдит прочили для нее, юной, хорошенькой наследницы, более блестящую партию. Но миссис Шоу сказала, что ее единственное дитя должно выйти замуж по любви, и вздохнула многозначительно, намекая, что ей самой не было даровано подобного счастья. Миссис Шоу наслаждалась романтической помолвкой едва ли не больше, чем ее дочь. Не то чтобы Эдит не была по-настоящему влюблена, но она, несомненно, предпочла бы хороший дом в Белгравии[2] той красочной жизни на Корфу, которую живописал капитан Леннокс. Некоторые подробности этого описания, так воодушевлявшие Маргарет, заставляли Эдит притворно трепетать и ужасаться – отчасти потому, что ей нравилось, как нежный возлюбленный пылко убеждает ее не страшиться трудностей, а отчасти потому, что ее действительно не привлекала кочевая, неблагоустроенная жизнь. И все же, появись сейчас перед ней какой-нибудь владелец прекрасного дома, прекрасного состояния и прекрасного титула в придачу, Эдит устояла бы перед искушением и осталась бы верна капитану Ленноксу. Позднее у нее, возможно, появились бы небольшие сомнения и плохо скрываемое сожаление из-за того, что капитан Леннокс не смог соединить в себе все мыслимые совершенства. В этом она была дочерью своей матери, которая по расчету вышла замуж за генерала Шоу, испытывая вместо любви лишь уважение к его личности и положению, и всю жизнь неизменно, хотя и втихомолку, оплакивала свою горькую судьбу, связавшую ее с человеком, которого она не любила.
– Я не жалею расходов на ее приданое, – таковы были следующие слова, услышанные Маргарет. – Я отдала ей все прекрасные индийские шарфы и шали, которые дарил мне генерал, но которые мне уже больше не носить.
– Как ей посчастливилось, – узнала Маргарет голос миссис Гибсон, дамы, вдвойне заинтересованной в разговоре, так как одна из ее дочерей несколько недель назад вышла замуж. – Хелен так мечтала об индийской шали, но я вынуждена была отказать собственной дочери, узнав о непомерной стоимости этой шали. Она просто умрет от зависти, когда узнает, что у Эдит есть индийские шали. Какие они? Из Дели? С очаровательной каемочкой?
Маргарет снова услышала голос тетушки, но на этот раз он звучал так, будто она поднялась со своего кресла и всматривалась в полумрак гостиной.
– Эдит! Эдит! – позвала она и затихла, словно утомилась от неимоверного усилия.
Маргарет прошла в гостиную:
– Эдит спит, тетя Шоу. Может, я помогу?
Огорченные полученным известием, дамы заохали: «Бедное дитя!»
Даже миниатюрная комнатная собачка на руках у миссис Шоу затявкала, точно в знак сочувствия.
– Тихо, Крошка! Непослушная маленькая девочка! Ты разбудишь свою хозяйку. Я хотела попросить Эдит, чтобы она велела Ньютон принести сюда индийские шали. Может, ты распорядишься, Маргарет, милочка?
Маргарет направилась в старую детскую на втором этаже, где Ньютон чинила кружева, необходимые для свадьбы. Пока Ньютон, не отказав себе в удовольствии поворчать, распаковывала шали (в тот день их демонстрировали гостям уже четыре-пять раз), Маргарет оглядела детскую, первую комнату в доме, с которой она познакомилась девять лет назад, когда ее, совсем еще дикарку, привезли сюда, чтобы разделить комнату, игры и уроки с кузиной Эдит. Маргарет вспомнилась унылая детская, где властвовала суровая и чопорная няня, ужасно требовательная к чистоте рук и опрятности в одежде. Она вспомнила первое чаепитие здесь, отдельно от отца и тети, которые обедали где-то внизу, на немыслимой глубине; она сама находилась где-то на небе (так казалось маленькой Маргарет), а они – в недрах земли. Дома, до того как она поселилась на Харли-стрит, ей служила детской гардеробная ее матери. В доме сельского пастора, где вставали и ложились рано, Маргарет всегда садилась за стол вместе с отцом и матерью. Восемнадцатилетняя девушка ясно припомнила горе, терзавшее в тот день сердце девятилетнего ребенка. Она помнила, как спрятала голову под одеялом в ту первую ночь и как няня запретила ей плакать, потому что это могло разбудить мисс Эдит. И как она все равно плакала так же горько и безутешно, но уже втихомолку, пока почти незнакомая, но величественная и красивая тетя не поднялась наверх вместе с мистером Хейлом, чтобы показать ему его спящую дочурку. Тогда маленькая Маргарет перестала всхлипывать и лежала тихо, притворяясь спящей, чтобы не расстроить отца своим горем, потому что нельзя было открыто горевать после всех надежд, планов и ухищрений, через которые они прошли дома, прежде чем ее гардероб был приведен в соответствие с новыми жизненными обстоятельствами и прежде чем папа смог оставить свой приход, чтобы съездить в Лондон на несколько дней.
Теперь она полюбила старую детскую, хотя от той детской уже ничего не осталось. Маргарет окинула взглядом комнату, сожалея, что через три дня оставит ее навсегда.
– Ах, Ньютон! – сказала она. – Я думаю, мы все будем жалеть, что покидаем эту милую старую комнату.
– На самом деле, мисс, все, кроме меня. Мои глаза уже не так хорошо видят, как раньше, и свет здесь настолько тусклый, что я могу штопать кружева только у окна, а там всегда такой жуткий сквозняк, что может застудить до смерти.
– Ну, думаю, что в Неаполе у вас будет достаточно и света, и тепла. Так что отложи рукоделие до лучших времен. Спасибо, Ньютон, я сама отнесу шали вниз – вижу, ты занята.
Спускаясь вниз с охапкой шалей, Маргарет вдыхала их пряный восточный аромат. Тетя попросила ее на себе продемонстрировать шали гостям, так как Эдит все еще спала. Пышные волны и складки ярких тканей, которые совершенно подавили бы миниатюрную Эдит, эффектно подчеркивали прекрасную фигуру ее высокой, стройной подруги, одетой в черное шелковое платье в знак траура по какому-то дальнему родственнику. Маргарет молча и терпеливо стояла прямо под люстрой, пока тетя расправляла складки. Случайно повернув голову, она мельком увидела свое отражение в зеркале над камином и улыбнулась: подумать только, собственное, такое привычное лицо – и в наряде принцессы. Она нежно касалась шалей, наслаждаясь их мягкостью и богатой расцветкой, и, как ребенок, радовалась, что так великолепно выглядит в них. В этот момент дверь отворилась, и вошел Генри Леннокс. Некоторые дамы отошли назад, словно устыдившись исконно женского интереса к нарядам. Миссис Шоу протянула руку новому гостю, Маргарет осталась стоять на месте, полагая, что она, может быть, еще понадобится в качестве модели для демонстрации шалей. Но при этом она весело поглядывала на ошарашенного мистера Леннокса, как бы забавляясь нелепостью ситуации и ожидая от него сочувствия.
Поскольку мистер Леннокс не смог прийти к обеду, тетя Шоу немедленно принялась расспрашивать его о брате – женихе, о сестре – подружке невесты, приезжающей вместе с капитаном из Шотландии для участия в свадебной церемонии, и о прочих членах семейства Леннокс. Маргарет поняла, что больше ее услуги в качестве манекена не понадобятся, и занялась развлечением других гостей, о которых ее тетя как-то забыла. Вскоре и Эдит вышла из гостиной, моргая и щурясь от яркого света и поправляя слегка растрепавшиеся локоны, точь-в-точь Спящая красавица, только что пробудившаяся ото сна. Даже сквозь дремоту она инстинктивно почувствовала, что ради гостя из семьи Леннокс стоит проснуться. Она засыпала его вопросами о дорогой Дженет, будущей золовке, которую до сих пор не видела и о которой говорила в таких восторженных выражениях, что, не будь Маргарет такой гордой, она могла бы почувствовать ревность к новоявленной сопернице. Поскольку тетушка вернулась к своим обязанностям, беседуя с дамами, Маргарет отодвинулась в тень и, заметив, что Генри Леннокс поглядывает на свободный стул рядом с ней, поняла, что, как только Эдит освободит его от расспросов, он займет это место. До сих пор она не была вполне уверена, судя по сбивчивым объяснениям тетушки, появится ли он в гостиной этим вечером. Так что его появление оказалось для Маргарет едва ли не сюрпризом. Теперь-то она была уверена, что ее ждет приятный вечер. Ему нравилось и не нравилось почти все то же, что и ей. Лицо ее заметно просветлело. Вскоре он подошел к ней. Она встретила его с улыбкой, в которой не было ни капли робости или застенчивости.
– Я полагаю, вы все заняты делами – то есть дамскими делами. Они очень отличаются от моего рода занятий – юриспруденции. Примерка шалей совсем не похожа на подготовку документов о передаче имущества.
– Представляю, как вас позабавило наше легкомысленное занятие. Но индийские шали и на самом деле превосходны в своем роде.
– Без сомнения. И цены на них тоже превосходны. Дальше восходить просто некуда.
Один за другим появлялись джентльмены, и гул голосов становился тоном ниже.
– Это ваш последний прием, верно? И до четверга больше не будет?
– Нет. Я думаю, после этого вечера все успокоятся. Я не отдыхала уже несколько недель. В конце концов, нам всем нужно отдохнуть, ведь приготовления к важному событию уже закончены. Я рада, что у меня появится время для размышлений, и уверена, что Эдит тоже рада.
– Насчет нее я не так уверен, но могу представить, что вы точно будете рады. Когда я видел вас в последний раз, вы просто утопали в водовороте чужих дел.
– Да, – с легкой грустью согласилась Маргарет, припоминая бесконечную суматоху и треволнения по пустякам, продолжавшиеся уже больше месяца. – Удивительно, неужели перед свадьбой всегда приходится, как вы говорите, утопать в водовороте? Или возможно тихое и мирное развитие событий?
– Ну, например, если бы фея – крестная Золушки обеспечила приданое, организовала свадебный прием и разослала приглашения, – ответил мистер Леннокс, улыбаясь.
– Но неужели все эти хлопоты так необходимы? – спросила Маргарет, глядя на него в ожидании ответа.
Неописуемая усталость от всех этих тщеславных приготовлений, которыми распоряжалась Эдит в течение последних шести недель, навалилась на Маргарет, и ей очень хотелось поговорить о свадьбе приятной и тихой.
– Конечно, – ответил он, изменив тон на более серьезный. – Существуют формальности и церемонии, которые принято соблюдать не столько для собственного удовольствия, сколько ради того, чтобы избежать кривотолков, от которых удовольствия еще меньше. Но как бы вы устроили свадьбу?
– Ну, я никогда особо не думала об этом. Я бы хотела, чтобы было прекрасное солнечное утро и я бы шла в церковь под сенью деревьев. Мне бы не хотелось иметь много подружек, не хотелось бы организовывать свадебный прием. Может, я настроена против всех этих формальностей, потому что они доставили мне столько беспокойства за последнее время.
– Думаю, что не поэтому. Исполненная достоинства простота отвечает вашему характеру.
Маргарет не слишком понравилось его замечание. Она поморщилась от этого еще сильнее, припомнив их прошлые беседы, когда он пытался вовлечь ее в обсуждение ее собственного характера и привычек, хотя, надо заметить, неизменно их одобрял. Она положила конец его попыткам, заметив:
– Мне легче представить прогулку к церкви в Хелстоне, чем поездку в карете посреди мостовой к лондонской церкви.
– Расскажите мне о Хелстоне. Вы никогда не описывали его. Я бы хотел иметь некоторое представление о том месте, где вы будете жить, когда дом на Харли-стрит опустеет. Прежде всего, Хелстон – это деревня или город?
– Так, деревушка. Я не думаю, что его можно назвать даже деревней. Там всего лишь церковь и по соседству с ней несколько домиков, точнее, коттеджей с розовыми цветниками посреди зеленых лугов.
– Нужно еще добавить, что они цветут круглый год, особенно в Рождество, и картина будет закончена, – улыбнулся он.
– Нет, – ответила Маргарет, слегка задетая, – я не рисую картину. Я пытаюсь описать Хелстон так, как он выглядит на самом деле. Вам не следовало этого говорить.
– Каюсь, – ответил он. – Только ваше описание больше похоже на деревню из сказки, чем из действительности.
– Так и есть, – с горячностью отозвалась Маргарет. – Все другие места в Англии, что я видела, кажутся суровыми и прозаичными после Нью-Фореста. Хелстон похож на деревню из стихотворения, например, Теннисона. Но я ничего не буду больше пытаться описывать. Вы только посмеетесь надо мной, если я начну рассказывать, что я думаю об этом месте, каково оно на самом деле.
– Обещаю, что не буду. Но я вижу, вы настроены решительно. Тогда расскажите мне о доме священника, я хотел бы узнать о нем побольше.
– Я не могу описать свой дом. Это просто дом, и я не могу передать его очарование словами.
– Я сдаюсь. Вы довольно суровы сегодня, Маргарет.
– Разве? – спросила она, удивленно взглянув на него своими большими глазами. – Вот уж не подумала бы.
– Ну, я всего лишь сделал неудачное замечание, а вы не стали рассказывать мне не только о Хелстоне, но и о вашем доме, хотя мне очень бы хотелось узнать и о том, и о другом, а о последнем особенно.
– Но я действительно не могу рассказывать о своем доме. Я не думаю, что о таком можно вообще рассказать, если вы не видели дом собственными глазами.
– Ну, тогда, – помедлив немного, сказал он, – расскажите мне о ваших занятиях. Здесь вы читаете или берете уроки, иными словами, совершенствуете свой ум до полудня. Потом гуляете, потом катаетесь в коляске с тетей, с кем-то встречаетесь по вечерам. Теперь опишите свой день в Хелстоне. Вы ездите верхом, катаетесь или гуляете?
– Гуляю, конечно. У нас нет лошади, даже для папы. Он ходит пешком даже к самым дальним своим прихожанам. Прогулки – это прекрасно, и нам было бы стыдно ездить в коляске, а уж тем более ездить верхом.
– Вы много работаете в саду? По-моему, это подходящее занятие для юных леди в деревне.
– Я не знаю. Боюсь, я не люблю такую тяжелую работу.
– Стреляете из лука, устраиваете пикники, участвуете в балах охотничьего общества или любителей скачек?
– О нет! – ответила она, смеясь. – У папы очень скромный доход. Если бы даже такие события происходили по соседству, сомневаюсь, чтобы я приняла в них участие.
– Понятно, вы не расскажете мне ничего. Вы только расскажете, чем вы не намерены заниматься. Надеюсь, до окончания каникул я навещу вас и посмотрю, чем вы там заняты.
– Надеюсь, так и будет. Тогда вы сами увидите, как прекрасен Хелстон. Теперь я вас покину. Эдит собирается музицировать, а я гожусь только на то, чтобы переворачивать для нее страницы. И, кроме того, тете Шоу не понравится, что мы разговариваем.
Эдит играла блестяще. В середине пьесы дверь приоткрылась, и Эдит увидела капитана Леннокса, стоявшего в нерешительности. Она прекратила играть и бросилась прочь из комнаты, оставив смущенную и покрасневшую Маргарет объяснять удивленным гостям, какое видение заставило Эдит внезапно сорваться с места. Капитан Леннокс приехал раньше, чем ожидалось, или было уже так поздно? Все взглянули на часы, вежливо удивились и стали расходиться.
Потом Эдит вернулась, вся светясь от удовольствия, робко и одновременно гордо ведя за собой высокого красавца-капитана.
Его брат пожал ему руку, а миссис Шоу поприветствовала его в своей мягкой, радушной манере, однако в ее голосе проскальзывали печальные и даже жалобные нотки – следствие долгой привычки представлять себя жертвой неудачного брака. Но теперь, когда генерал скончался, жила она совсем неплохо, хотя ей не хватало чего-то вроде беспокойства или хотя бы огорчения. Впрочем, в последнее время миссис Шоу нашла повод для огорчения: она стала опасаться за свое здоровье. При мысли об этом у нее появлялся легкий нервный кашель. И некоторые услужливые доктора присоветовали ей то, о чем она мечтала: провести зиму в Италии. Миссис Шоу, как и большинство людей, временами испытывала сильные желания. Но она никогда не любила поступать открыто согласно своей воле и для собственного удовольствия. Она предпочитала уступать требованиям и пожеланиям других и потворствовала себе в этом. Миссис Шоу постоянно убеждала себя, что подчиняется жесткой внешней необходимости, и тогда она могла сколько угодно ныть и жаловаться, на самом деле поступая по-своему.
Она начала со вздохом рассказывать о своем вынужденном путешествии капитану Ленноксу. Тот из чувства долга соглашался со всем, что говорила его будущая теща, и незаметно искал глазами Эдит, которая руководила сервировкой стола и заказывала прислуге самые разные лакомства, несмотря на его заверения, что он поужинал два часа назад.
Мистер Генри Леннокс стоял, прислонившись к камину и забавляясь семейной сценой. Он был явно похож на своего брата, хотя и считался в этой необыкновенно красивой семье некрасивым. Но его лицо было умным, живым и проницательным. Время от времени Маргарет гадала, о чем он думает, когда молчит и наблюдает с несколько саркастическим любопытством за всем, что делают она и Эдит. Впрочем, сарказм был вызван разговором миссис Шоу с его братом и не относился к девушкам. Напротив, он думал, что обе кузины, занятые сервировкой стола, являют собой весьма приятное зрелище. Эдит предпочла все сделать сама. Она была в хорошем настроении и радовалась, показывая своему жениху, как хорошо она сможет справиться с ролью солдатской жены. Обнаружив, что вода в чайнике остыла, она приказала принести из кухни большой чайник. Эдит приняла его в дверях и пыталась нести, но ей было очень тяжело. Она вошла, надув губки, с черным пятном на муслиновом платье и с отметиной от чайника на маленькой белоснежной ручке, которую она показала капитану Ленноксу, словно ребенок, и, разумеется, за этим последовало надлежащее утешение. Маргарет быстро разожгла спиртовку, которая пришлась очень кстати здесь, но вряд ли пригодилась бы в кочевом лагере, каковым Эдит представляла себе жизнь в солдатских казармах.
После этого вечера суета продолжалась и закончилась лишь со свадьбой.
Глава II
Розы и шипы
Миссис Химанс
- Сквозь мягкий зеленый свет деревьев,
- По ковру мха, где прошло твое детство;
- К твоему дому, откуда ты
- Впервые взглянул с любовью в летнее небо.
В неторопливой повозке Маргарет, одетая в легкое летнее платье, возвращалась домой вместе с отцом, который приезжал в Лондон на свадьбу. Ее мать осталась дома по многим причинам, но только мистер Хейл знал истинную. Миссис Хейл решительно отказалась надеть на свадьбу серое атласное платье, которое было уже не новым, но еще и не старым, аргументируя это тем, что если у ее мужа нет денег, чтобы одеть свою жену во все новое, то она не покажется на свадьбе у дочери своей единственной сестры. Если бы миссис Шоу догадалась об истинной причине отсутствия миссис Хейл, она бы подарила ей кучу платьев. Но уже больше двадцати лет прошло с тех пор, как миссис Шоу была бедной, хорошенькой мисс Бересфорд, и она уже забыла все огорчения, кроме роковой разницы в возрасте с собственным мужем, о которой она могла распространяться в течение получаса. Ее дорогая Мария вышла замуж по любви за человека с прекрасным характером, всего на восемь лет старше ее. Мистер Хейл был одним из самых очаровательных проповедников, которых она когда-либо слышала, и совершенным идеалом приходского священника.
– Что еще может желать дорогая Мария в этом мире, выйдя замуж по любви? – рассуждала миссис Шоу.
Выскажись миссис Хейл начистоту, она могла бы многое на это ответить. Она бы обязательно упомянула серебристо-серое шелковое платье, белую шляпку, еще дюжину нарядов и украшений и сотни вещей для дома.
Маргарет знала лишь, что ее мать не сочла удобным приехать, и в глубине души не сожалела об этом, полагая, что им лучше встретиться в Хелстоне, чем посреди суматохи в доме на Харли-стрит, где ей самой пришлось играть роль Фигаро и быть здесь и там в одно и то же время. Маргарет слишком устала от того, что ей пришлось сказать и сделать за последние сорок восемь часов. После всех поспешных прощаний с тетушкой и кузиной она чувствовала себя подавленной, сожалея о временах, которые прошли безвозвратно, какими бы они ни были. На сердце у Маргарет было намного тяжелее, чем она ожидала, хоть она и возвращалась в свой родной дом, к той жизни, о которой она мечтала долгие годы, пока тоска не притупилась. Она с болью отгоняла воспоминания о прошлом, надеясь на радостное и безмятежное будущее. Наконец ее мысли обратились к настоящему, к любимому отцу, который спал, откинувшись на спинку сиденья. Его иссиня-черные волосы уже начали седеть и падали на лоб редкими прядями. Черты его лица стали резче, хотя когда-то они были очень изящными и считались даже красивыми. Во сне лицо священника казалось безмятежным, но это был скорее отдых после трудов, чем спокойствие того, кто вел беззаботную жизнь, лишенную тревог. Маргарет была глубоко поражена его изможденным, озабоченным видом и попыталась найти в известных ей обстоятельствах его жизни что-то, что помогло бы ей понять, какие страдания точили сердце ее отца.
«Бедный Фредерик! – подумала она, вздохнув. – О, если бы Фредерик стал пастором, вместо того чтобы пойти на флот и исчезнуть для нас! Мне бы хотелось больше знать об этом. Я ничего не поняла со слов тети Шоу. Я только знаю, что он не может вернуться в Англию из-за того ужасного случая. Бедный дорогой папа! Каким печальным он выглядит! Я так рада, что еду домой, чтобы быть рядом с папой и мамой и, может быть, послужить для них утешением».
Когда отец проснулся, она встретила его радостной улыбкой, в которой не было ни тени усталости. Он улыбнулся в ответ, но рассеянно, как будто это было для него непривычно. На его лицо опять вернулось привычное выражение озабоченности. У него появилась привычка приоткрывать рот, как будто он намерен что-то сказать, и этот постоянно полуоткрытый рот придавал его лицу нерешительное выражение. Но у него были такие же большие нежные глаза, полуприкрытые прозрачными белыми веками, как у дочери. Его взгляд был медлителен и слегка высокомерен. Маргарет больше походила на него, чем на мать. Иногда люди поражались, что у таких красивых родителей дочь была далеко не так хороша собой, даже, как считали некоторые, вообще некрасива. Рот у нее был широковат и вовсе не напоминал розовый бутон, способный произнести только «да», или «нет», или «пожалуйста, сэр». Но ее пухлые алые губы имели мягкий изгиб. Ее кожа цвета слоновой кости, отнюдь не белоснежная, была гладкой и нежной. Выражение ее лица, обычно слишком сдержанное и даже высокомерное для такой молодой девушки, теперь, во время беседы с отцом, изменилось: она сияла, как летнее утро, на щеках появились ямочки, а во взгляде читались детская радость и надежда на будущее.
Маргарет вернулась домой в конце июля. Деревья в лесу оделись в темную густую зелень, а папоротник под ними купался в косых солнечных лучах. Дни стояли знойные и душные. Маргарет много гуляла, сминая папоротник с жестоким весельем, чувствуя, как он поддается под ее легкими ступнями и испускает ему одному присущий аромат. Она забредала на пустоши, купавшиеся в теплом благоуханном свете, видела множество диких, свободных, живых существ – зверьков и насекомых, наслаждавшихся солнечным светом, травы и цветы, согретые солнцем. Жизнь и особенно эти прогулки в полной мере оправдали ожидания Маргарет. Она гордилась своей лесной деревней. Люди, живущие по соседству, были близки ей. Она завела сердечных друзей, с удовольствием осваивала и употребляла местные словечки, чувствовала себя среди них свободно, ласкала их детей, беседовала со стариками или читала для них медленно и отчетливо, носила вкусные лакомства больным и в конце концов решилась преподавать в школе, куда ее отец ходил каждый день по долгу службы. Ей постоянно хотелось пойти и навестить кого-то из новых друзей – мужчину, женщину или ребенка, – живущих в коттеджах в зеленой тени леса. Ее жизнь за пределами дома протекала радостно, однако в доме далеко не все складывалось так благополучно. Она упрекала себя, как наивный ребенок, за проницательность, за то, что она понимала, что все идет не так, как должно было быть. Ее мать, всегда такая добрая и нежная с ней, временами казалась неудовлетворенной их положением. Она считала, что епископ поступает несправедливо, не предоставив мистеру Хейлу более прибыльного прихода, и укоряла своего мужа за то, что тот не осмеливался заявить о своем желании оставить приход и получить более высокий пост. Он неизменно отвечал, что, если бы ему удалось сделать что должно в маленьком Хелстоне, он был бы вполне доволен. Но с каждым днем отец становился все более подавленным. Всякий раз, когда миссис Хейл требовала, чтобы ее муж просил о повышении, он все больше замыкался в себе. В такие дни Маргарет старалась примирить свою мать с Хелстоном. Миссис Хейл жаловалась, что жизнь в слишком тесном соседстве с лесом плохо сказывается на ее здоровье, и Маргарет пыталась напомнить ей о залитых солнцем пустошах. Она была уверена, что мать просто слишком привыкла к домашней жизни, лишь изредка выбираясь за пределы церкви, к школе и соседским домам. На время такие разговоры помогли, но, когда наступила осень и погода стала более изменчивой, мысли матери вернулись к нездоровому климату Хелстона. Она снова стала жаловаться, что хотя ее муж более образован, чем мистер Хьюм, и лучше исполняет обязанности викария, чем мистер Голдсворт, он уступает по своему положению обоим бывшим соседям.
Маргарет оказалась не готова к атмосфере недовольства, царившей в доме. Она без сожаления рассталась с роскошью Харли-стрит, которая лишь мешала ее свободе. Конечно, роскошь приносила наслаждение, но умение довольствоваться простыми радостями и гордость могли помочь Маргарет обойтись без всякой роскоши, если было нужно. Но тучи никогда не приходят с той стороны, откуда их ждешь. Конечно, и прежде, когда Маргарет проводила каникулы дома, ей доводилось слышать жалобы матери на мелкие неурядицы в Хелстоне и низкое служебное положение мистера Хейла, но в целом воспоминания о тех временах были счастливыми, и она легко забывала обо всех неприятностях.
Во второй половине сентября начались осенние дожди и сильные ветры, и Маргарет вынуждена была проводить дома больше времени, чем прежде. В Хелстоне было мало людей их круга, и в доме викария гости бывали редко.
– Хелстон, несомненно, одно из самых захолустных мест в Англии, – заявила миссис Хейл в одну из своих плохих минут. – Я не могу не сожалеть о том, что папе не с кем здесь общаться, мы живем так уединенно, что он неделями не видит никого, кроме фермеров и рабочих. Если бы мы только поселились на другой стороне прихода! Мы бы могли прогуливаться до Стэнфилдза и, конечно, навещать Горманов.
– Горманы? – переспросила Маргарет. – Это те Горманы, что разбогатели на торговле в Саутгемптоне? Я рада, что мы не навещаем их. Я не люблю торговцев. Я думаю, нам лучше жить вдали от всех, общаясь только с сельскими жителями и рабочими, людьми без претензий.
– Ты не должна быть такой привередливой, Маргарет, дорогая! – сказала ее мать, вспоминая молодого красивого мистера Гормана, с которым она однажды познакомилась у мистера Хьюма.
– Вовсе нет! У меня весьма разносторонний вкус. Мне нравятся люди, чьи занятия связаны с землей. Мне нравятся солдаты и моряки, и я люблю людей, как говорят, образованных. Ты же не требуешь, чтобы я восхищалась всеми подряд – мясниками, булочниками и другими торговцами, правда, мама?
– Но Горманы – это не все подряд, они очень уважаемые люди, у них солидное дело по производству экипажей.
– Очень хорошо. Производство экипажей – та же самая торговля, и я думаю, они намного бесполезнее, чем мясники и булочники. Как же я уставала кататься каждый день в экипаже тети Шоу! И как я наслаждалась прогулками!
И Маргарет гуляла, несмотря на погоду. Она была так счастлива, уходя из дому, что готова была пуститься в пляс. Она шла по пустоши, а западный ветер мягко подталкивал ее в спину. Ей казалось, что она – листок, гонимый осенним ветром. Но по вечерам мир в семье сохранять было трудно. Сразу же после чая отец удалялся в свою маленькую библиотеку-кабинет, и они с матерью оставались наедине. Миссис Хейл никогда не интересовалась книгами и с самого начала семейной жизни отвергла попытки мужа читать ей вслух, пока она работала. Иногда они играли в триктрак. Но позже у мистера Хейла появилось много забот, связанных со школой и приходом, и вскоре он обнаружил, что жена вовсе не считает эти заботы важной частью его профессии, а полагает, что он поступает так, просто чтобы позлить ее. Он сдался, когда дети были еще совсем маленькими, и обрел утешение в философских и богословских трактатах, читая их в своем крохотном кабинете в те вечера, которые проводил дома.
Когда Маргарет приезжала домой на каникулы, она обычно привозила с собой большую коробку книг, рекомендованных учителями или гувернанткой. Тогда даже летние дни казались ей слишком короткими, чтобы успеть прочитать все до отъезда. Теперь в ее распоряжении были только прекрасно переплетенные и мало читанные томики английских адептов классицизма, изгнанные из отцовского кабинета на книжные полки в гостиной. Самыми новыми и наиболее пригодными для чтения среди них оказались «Времена года» Томсона, «Биография Уильяма Купера» Хейли и «Жизнеописание Цицерона» Миддлтона. Выбор был явно ограничен. Маргарет рассказала матери все подробности своей жизни в Лондоне. Миссис Хейл слушала с интересом, иногда удивлялась и задавала вопросы, а иногда не без сожалений сравнивала спокойную и налаженную жизнь сестры с довольно скромным образом жизни в хелстонском приходе. В такие вечера Маргарет оставалось только умолкать и слушать, как дождь стучит по свинцовой крыше эркера. Раз-другой Маргарет поймала себя на том, что механически считает капли, гадая, осмелится ли она когда-нибудь обратиться к предмету, столь дорогому ее сердцу, и спросить, где сейчас Фредерик, что он делает, давно ли получали от него письмо. Но Маргарет также понимала, что хрупкое здоровье матери и явная неприязнь к Хелстону начались со времени мятежа, в котором Фредерик принимал участие. О подробностях случившегося никогда не говорилось, и Маргарет казалось, что вся семья молча предала эту историю забвению. Это заставляло Маргарет останавливаться и уходить от опасной темы. В обществе матери более подходящим человеком, к которому можно обратиться с вопросом, казался ей отец. Когда же она была с отцом, она думала, что легче было бы поговорить об этом с матерью. Возможно, ничего нового она бы не услышала. В одном из писем, которые она получила до отъезда с Харли-стрит, отец написал ей, что они получили весточку от Фредерика. Он все еще находится в Рио-де-Жанейро, в добром здравии и посылает ей горячий привет. Это были скупые строчки, ни капли живого участия, которого она ожидала. Когда изредка упоминали его имя, то всегда называли его не иначе как «бедный Фредерик». Его комната содержалась в том виде, в каком он ее оставил, стараниями Диксон, горничной миссис Хейл. Не обремененная никакими другими домашними обязанностями, Диксон постоянно вспоминала день, когда леди Бересфорд взяла ее в дом в качестве горничной двух прелестных мисс Бересфорд, подопечных сэра Джона, признанных красавиц графства Ретленд. Диксон всегда считала мистера Хейла препятствием, вставшим на пути блестящего будущего ее дорогой барышни. Если бы мисс Бересфорд не вышла столь поспешно замуж за бедного сельского священника, кто знает, кем бы она могла стать. Но Диксон была слишком преданной, чтобы оставить свою госпожу в несчастье (то есть в замужестве). Она осталась при ней и всегда считала себя доброй феей, в чьи обязанности входит защищать хозяйку от происков зловредного великана, мистера Хейла. Мастер Фредерик был ее любимцем и гордостью, и она еженедельно приходила прибирать его комнату с таким тщанием, будто он мог вернуться домой в этот же вечер.
Маргарет подозревала, что, хотя мать и не знала, наверняка были и другие письма от Фредерика, из-за которых отец впадал во все большее беспокойство. Миссис Хейл, по всей видимости, не замечала перемен во внешности и поведении мужа. Он всегда был нежным и добрым, готовым оказать помощь всем, кто нуждался в помощи. Он на несколько дней погружался в тоску, побывав у смертного ложа или получив известие о преступлении. Но теперь Маргарет замечала его отсутствующий взгляд, как будто его мысли были постоянно чем-то заняты и никакие насущные заботы, будь то утешение страждущих или преподавание в школе, дабы грядущее поколение отвращало свои помыслы от зла, не могли отвлечь его от тайного бремени. Мистер Хейл не навещал, как бывало, своих прихожан, но все чаще закрывался в кабинете, беспокойно ожидая деревенского почтальона, который извещал семью о своем приходе легким стуком в ставень кухни, и в прежние времена ему приходилось стучать не единожды, пока кто-нибудь в доме его услышит. Теперь мистер Хейл часто слонялся по саду, если утро было хорошим, а если нет, стоял задумчиво в кабинете у окна, пока не появлялся почтальон. Проходя по тропинке, почтальон почтительно, но с видом заговорщика отрицательно качал головой, и священник провожал его взглядом, пока тот не скрывался за изгородью из шиповника и большим земляничным деревом, а потом возвращался к себе в комнату и с тяжелым сердцем и беспокойными мыслями приступал к работе.
Но Маргарет была в том возрасте, когда любое предчувствие, не основанное на подлинных сведениях или событиях, с легкостью изгоняется ярким солнечным днем или счастливыми внешними обстоятельствами. И когда в октябре наступили две замечательные недели, ее заботы унеслись, как пушинки чертополоха, и она не думала ни о чем, кроме красоты леса. Папоротники завяли, и теперь, после дождей, стали доступны многие поляны, которые Маргарет только мимоходом разглядывала в июле и августе. В Лондоне она училась рисовать вместе с Эдит, и теперь, когда наконец наступила хорошая погода, решила восполнить праздные летние прогулки, когда она просто любовалась красотой лесов, и сделать несколько эскизов. Так, однажды утром она занималась подготовкой планшета, когда Сара, горничная, широко распахнула дверь гостиной и объявила: «Мистер Генри Леннокс».
Глава III
Тише едешь – дальше будешь
Миссис Браунинг
- Учись завоевывать веру женщины
- Благородно, так как вещь – дорогая;
- Храбро, как жизнь у смерти,
- С верной торжественностью.
- Веди ее от праздничных подмостков,
- Укажи ей звездные небеса,
- Охраняй ее своими искренними словами,
- Очищенными от лести ухаживания.
«Мистер Генри Леннокс». Всего минуту назад Маргарет подумала о нем, вспоминая, как он расспрашивал ее в Лондоне о том, чем она будет заниматься дома. Поистине, как говорят французы, «помяни солнце, и увидишь луч света»: именно такой луч осветил лицо Маргарет, когда она отложила планшет и крепко пожала руку Генри.
– Позови маму, Сара, – сказала она. – Мы с мамой хотим задать вам много вопросов об Эдит. Я так рада, что вы приехали.
– Разве я не говорил, что приеду? – негромко и слегка напряженно спросил он.
– Но я слышала, что вы уехали в Горную Шотландию, поэтому и подумать не могла, что вы заглянете в Хэмпшир.
– Ну, – он улыбнулся с видимым облегчением, – наши молодожены откалывали такие дурацкие штуки, и весьма рискованные притом: то полезут на гору, то отправятся на лодке под парусом по озеру; а посему я пришел к заключению, что им необходим наставник. И оказался совершенно прав, потому что мой дядя справиться с ними не мог и они держали бедного старика в напряжении по шестнадцать часов в день. Честное слово, как только я понял, что нельзя полагаться на их собственный здравый смысл, я счел своим долгом не покидать их, пока своими глазами не увижу, что они в целости и сохранности погрузились на корабль в Плимуте.
– Вы были в Плимуте? Эдит ни словом не обмолвилась об этом. Наверно, она, как обычно, писала в спешке. Они действительно отплыли во вторник?
– Да, отплыли и сняли с меня груз ответственности. Эдит передала со мной письмо со всевозможными новостями для вас. Небольшая записочка, по-моему, где-то здесь. Да, вот она.
– Спасибо! – воскликнула Маргарет.
Потом, желая насладиться чтением в одиночестве и без свидетелей, она, извинившись, сказала, что Сара, похоже, забыла или что-нибудь перепутала и придется ей самой предупредить мать о приезде мистера Леннокса.
Когда она вышла из комнаты, Леннокс принялся, по своему обыкновению, тщательно осматриваться. Небольшая гостиная в потоках утреннего света выглядела достойно. Среднее окно в эркере было распахнуто, и внизу виднелись кусты роз и алой жимолости. Маленькая лужайка пестрела цветами вербены и герани всевозможных оттенков. Но эти яркие цвета снаружи только подчеркивали скромную обстановку комнаты: потертый ковер, выцветшие ситцевые занавески и обои. Сама комната оказалась гораздо меньше и беднее, чем он ожидал, вовсе не под стать царственному облику Маргарет. Он взял одну из книг, лежащих на столе. Это был «Рай» Данте, в старинном итальянском переплете из белой веленевой бумаги с золотым тиснением. Рядом лежал словарь и список выписанных из него рукой Маргарет слов. Это был скучный список слов, но ему почему-то нравилось смотреть на них. Вздохнув, он положил книги на место.
«Они живут весьма скромно, как она и говорила. Странно – кажется, Бересфорды считались вполне обеспеченными».
Маргарет тем временем нашла свою мать. У миссис Хейл был один из тех дней, когда все не ладилось и валилось из рук. И появление мистера Леннокса тоже было воспринято с огорчением, хотя в глубине души она чувствовала себя польщенной тем, что он взял на себя труд навестить их.
– Как неудачно! Мы обедаем сегодня рано, и у нас нет ничего, кроме холодного мяса, ведь слуги гладят белье. Но мы, разумеется, должны пригласить его к обеду, как-никак он приходится Эдит деверем. А твой папа сегодня утром в таком подавленном настроении, и я не знаю из-за чего. Я только что заходила к нему в кабинет, а он там сидит, склонившись к столу и закрыв лицо руками. Я сказала ему, что воздух Хелстона вреден ему не меньше, чем мне, а он внезапно поднял голову и попросил меня не говорить больше ни слова о Хелстоне, потому что ему тяжело слышать это. Если есть на земле место, которое он любит, – это Хелстон. Но я уверена, это все из-за сырого и расслабляющего воздуха.
Маргарет почувствовала, как на ее небосклоне появилось холодное облачко и заслонило собой солнце. Она слушала терпеливо, надеясь, что, выговорившись, мать почувствует облегчение. Однако пора было вернуться к мистеру Ленноксу.
– Папе нравится мистер Леннокс, они прекрасно поладили на свадебном приеме. Полагаю, его приезд обрадует папу. И не беспокойся насчет обеда, мамочка. Холодное мясо превосходно подходит для ланча, и мистер Леннокс наверняка посчитает его за ранний обед.
– Но чем мы займем его до этого? Сейчас только половина одиннадцатого.
– Я попрошу его пойти со мной порисовать. Я знаю, он рисует, и тебе не придется его развлекать, мама. Только пойди к нему сейчас, а то он может счесть странным, если ты не появишься.
Миссис Хейл сняла черный шелковый передник и слегка помассировала лицо. Выглядела она очаровательно и женственно и приветствовала мистера Леннокса с радушием, подобающим при встрече с родственником. Он явно ожидал, что его попросят провести у них целый день, и принял приглашение с радостной готовностью, и миссис Хейл пожалела, что ей нечего добавить к холодной говядине. Его все устраивало, и он обрадовался предложению Маргарет отправиться вместе рисовать, не тревожа мистера Хейла, поскольку они все равно встретятся за обедом. Маргарет показала ему свои рисовальные принадлежности, чтобы он выбрал бумагу и кисти, после чего оба в самом веселом расположении духа вышли из дому.
– Пожалуйста, давайте остановимся здесь на минутку, – попросила Маргарет. – Эти коттеджи все время, пока две недели лил непрерывный дождь, преследовали мое воображение, словно упрекая меня за то, что я не нарисовала их.
– До того, как они развалятся и исчезнут. Честно говоря, их следует нарисовать – уж очень они живописны, – и лучше не откладывать до следующего года. Но где мы сядем?
– О! Вы могли бы приехать сюда прямо из конторы в Темпле[3], вместо того чтобы проводить два месяца в горах! Посмотрите на этот прекрасный ствол дерева, который оставили лесорубы, – просто отличное место, и света вполне достаточно. Я постелю там свой плед, и это будет настоящий лесной трон.
– А в качестве королевской скамеечки для ног – эта лужица! Постойте, я подвинусь, и вы сможете подойти поближе. Кто живет в этих домиках?
– Они были построены самовольными поселенцами пятьдесят или шестьдесят лет тому назад. Один пустует, лесники собираются снести его сразу, как только старик, живущий в другом коттедже, умрет, бедняга! Посмотрите, вот и он, я должна подойти и поговорить с ним. Он так глух, что вы услышите все наши секреты.
Старик стоял с непокрытой головой на солнце перед своим домом, опираясь на палку. Жесткие черты его лица смягчились улыбкой, как только Маргарет подошла и заговорила с ним. Мистер Леннокс поспешно набросал две фигуры, добавив пейзаж на заднем плане, исключительно для фона, как заметила Маргарет, когда пришло время собираться, убирать воду и обрывки бумаги и показывать друг другу свои этюды. Она засмеялась и покраснела, а мистер Леннокс внимательно наблюдал за сменой выражений ее лица.
– Я бы назвала это коварством, – сказала она. – Мне и в голову не пришло, что вы нарисуете меня и старого Исаака, когда велели мне расспросить его об истории этих коттеджей.
– Не смог устоять. Вы не представляете себе, какое это было сильное искушение. Я едва ли смею сказать, насколько мне дорог этот набросок.
Он был не вполне уверен, расслышала ли она его последние слова перед тем, как ушла к ручью мыть палитру. Она вернулась слегка покрасневшей, но смотрела совершенно прямо и бесхитростно. Он был рад этому, ибо слова сорвались с его губ нечаянно – редкий случай для такого человека, как Генри Леннокс, который любой поступок всегда обдумывал заранее.
Атмосфера в доме, когда они вернулись, была вполне мирной и безоблачной. Тучи на челе миссис Хейл рассеялись под благотворным влиянием созерцания пары карпов, весьма уместно подаренных соседом. Мистер Хейл вернулся с утренней прогулки и ожидал гостя прямо за калиткой у ворот, ведущих в сад. Он выглядел весьма почтенным джентльменом, несмотря на потертое пальто и поношенную шляпу. Маргарет гордилась своим отцом и всегда испытывала чистую и нежную радость, видя, какое впечатление он производит на каждого незнакомца. Все же она заметила на лице отца отпечаток какого-то необычного беспокойства, подавленного, но не рассеявшегося полностью.
Мистер Хейл попросил разрешения посмотреть их наброски.
– Не слишком ли темными ты изобразила эти растения на соломенной крыше? – Он возвратил Маргарет ее рисунок и протянул руку за наброском мистера Леннокса, который замешкался на секунду, не долее.
– Нет, папа! Я так не думаю. Молодило и заячья капуста сильно потемнели из-за дождя. Правда, похоже, папа? – сказала она, заглядывая через его плечо, пока он рассматривал фигуры на рисунке мистера Леннокса.
– Да, очень похоже. Твоя фигура и осанка переданы превосходно. А это вылитый старый бедный Исаак, скованный сутулостью из-за ревматизма спины. А что это висит на ветке дерева? На птичье гнездо не похоже.
– О нет, это моя шляпа. Я не могу рисовать в шляпке, слишком жарко. Интересно, могла бы я справиться с изображением человека? Здесь так много людей, которых я бы хотела нарисовать.
– Я бы сказал, что если захотите добиться сходства, то всегда его добьетесь, – заметил мистер Леннокс. – Я верю в силу воли. Полагаю, что именно поэтому мне удалось добиться сходства, когда я рисовал вас.
Мистер Хейл прошел в дом впереди них, так как Маргарет замешкалась, срывая несколько роз, которыми хотела украсить платье к обеду.
«Обычная лондонская девушка поняла бы намек, скрытый в моих словах, – размышлял мистер Леннокс. – Она поняла бы, обдумав каждую реплику, что молодой человек сделал ей комплимент без всякой задней мысли. Но Маргарет…»
– Постойте! – воскликнул он. – Позвольте мне помочь вам. – И он сорвал для нее несколько бархатных темно-красных роз, что росли высоко, а потом, разделив трофеи, вставил две себе в петлицу, а остальное отдал ей, довольной и счастливой.
Разговор за обедом протекал плавно и приятно. С обеих сторон было задано множество вопросов, произошел обмен сведениями о путешествии миссис Шоу по Италии. Интересная беседа, безыскусная простота образа жизни в доме викария и, прежде всего, соседство Маргарет заставили мистера Леннокса забыть то легкое разочарование, которое он поначалу испытал, убедившись в правоте Маргарет, оценившей доход своего отца как крайне скромный.
– Маргарет, дитя мое, может, ты соберешь нам несколько груш для десерта, – попросил мистер Хейл, когда на столе появилось вино, перелитое из бутылки в графин, знаменуя собой одновременно роскошь и гостеприимство.
Миссис Хейл опешила. Могло показаться, что десерт является чем-то непривычным в обиходе сельского священника. Оглянись мистер Хейл назад, он бы увидел печенье, джем и прочие лакомства, ожидавшие своей очереди в привычном порядке на буфете. Но мистер Хейл думал только о грушах и не отвлекался ни на что другое.
– Напротив южной стены поспели берэ[4], которые стоят всех заграничных фруктов и варенья. Сбегай, Маргарет, сорви нам несколько штук.
– Я предлагаю всем перейти в сад и съесть их прямо с дерева, – сказал мистер Леннокс. – Что может быть вкуснее хрустящей, сочной груши, благоуханной и нагретой солнцем. Плохо только, что всегда досаждают осы, достаточно дерзкие, чтобы бороться за фрукт, особенно в самый сладкий миг.
Он поднялся, чтобы следовать за Маргарет, которая вышла в сад, и ждал только разрешения миссис Хейл. Она предпочла бы закончить обед в надлежащей манере, со всеми церемониями, тем более что они с Диксон достали из кладовой чаши для споласкивания пальцев, чтобы завершить обед, как подобало сестре вдовы генерала Шоу. Но мистер Хейл тоже встал, намереваясь сопровождать гостя, и миссис Хейл осталось только покориться.
– Я вооружусь ножом, – сказал мистер Хейл, – ибо я уже не могу так просто есть фрукты, как вы. Я должен их очистить и разделить на четвертинки, прежде чем насладиться ими.
Маргарет сделала тарелку для груш из свекольного листа, который превосходно оттенял их золотистокоричневый цвет. Мистер Леннокс смотрел больше на нее, чем на груши. Но ее отец, намеренный со вкусом насладиться редкими и счастливыми мгновениями, украденными им у собственного беспокойства, выбрал самый лакомый и зрелый фрукт и уселся на садовую скамейку. Маргарет и мистер Леннокс прогуливались по насыпной дорожке вдоль южной стены, где пчелы все еще деловито жужжали и трудились в своих ульях.
– Какой совершенной жизнью вы здесь живете! Раньше я всегда довольно пренебрежительно относился к поэтам с их желаниями: «Мой дом – хижина за холмом» – и всем прочим в том же духе. Боюсь, что я был ничем не лучше любого другого уроженца Лондона. Зато теперь я чувствую, что двадцать лет усердного изучения законов были бы достойно вознаграждены одним годом такой превосходной безмятежной жизни, как эта. Какое небо! Взгляните только на эту багряную и янтарную листву, и ведь ни один листочек не шелохнется! – Он указал на высокие лесные деревья, в окружении которых сад казался гнездышком.
– Смею напомнить, что наше небо отнюдь не всегда такое голубое, как сейчас. И у нас идет дождь и мокнут опавшие листья, хотя, я думаю, Хелстон – такое же совершенное место, как и любое другое в мире. Вспомните, как вы издевались над моим описанием Хелстона однажды вечером на Харли-стрит и называли Хелстон «деревней из сказки».
– Издевался! Маргарет, это слишком жестокое слово.
– Может, и так. Но я помню, что мне хотелось бы поделиться с вами тем, что меня тогда переполняло, а вы – какое же слово употребить? – говорили о Хелстоне непочтительно, как о деревне из сказки.
– Я никогда больше не скажу такого, – горячо заверил он.
Они повернули за угол аллеи.
– Я бы мог почти желать, Маргарет… – Он остановился и замешкался.
Эта запинка была так необычна для красноречивого юриста, что Маргарет взглянула на него в легком недоумении. Но через мгновение – она даже не могла сказать почему – ей захотелось вернуться назад к матери и отцу, куда угодно, только бы подальше от него, так как она была уверена, что он собирается сказать нечто, на что она не знала, как ответить. В следующее мгновение ее гордость, опора во всех жизненных испытаниях, поборола неуместное смятение. Разумеется, она сумела бы ответить так, как следует. С ее стороны было бы постыдной слабостью избегать его слов, как будто у нее не хватит сил ответить, как подобает девушке с чувством собственного достоинства.
– Маргарет, – сказал он, захватив ее врасплох и внезапно завладев ее рукой, так что она была вынуждена стоять смирно и слушать, презирая себя за трепетание сердца. – Маргарет, я бы хотел, чтобы вы не любили Хелстон так сильно, не казались такой совершенно спокойной и счастливой здесь. Все эти три месяца я надеялся, что вы скучаете по Лондону, по лондонским друзьям, пусть немного, но достаточно, чтобы заставить вас выслушать более любезно (все это время она тихо, но настойчиво стремилась высвободить свою руку) того, кто не может предложить много, это правда, ничего, кроме планов на будущее, но того, кто любит вас, Маргарет, едва ли не вопреки себе. Маргарет, я так сильно напугал вас? Скажите! – Он увидел, что губы ее дрожат, как будто она собиралась плакать.
Она собрала все силы, чтобы успокоиться, и заговорила не раньше, чем уверилась, что справится со своим голосом, и тогда произнесла:
– Я поражена. Я не знала, что вы мною интересуетесь. Я всегда думала о вас как о друге, и, пожалуй, я бы предпочла и дальше так о вас думать. Мне не нравится, когда со мной говорят так, как вы сейчас. Я не могу сказать вам того, что вы хотите услышать, и все же я буду очень сожалеть, если я огорчила вас.
– Маргарет, – сказал он, глядя ей в глаза, встретившись с ее открытым прямым взглядом, выражающим наивысшую степень доверия и нежелание причинить боль.
«Вы, – хотел спросить он, – любите кого-то другого?» Но ему показалось, что этот вопрос оскорбил бы чистую безмятежность ее взгляда.
– Простите меня, я был слишком нетерпеливым. Я наказан. Только позвольте мне надеяться. Дайте мне хотя бы слабое утешение, сказав, что вы никогда не встречали того, кого вы могли бы… – Снова пауза. Он не смог закончить свое предложение.
Маргарет в мыслях горько упрекнула себя за то, что послужила причиной его страданий.
– Ах! Если бы эта фантазия никогда не приходила вам в голову! Было так приятно считать вас другом.
– Но я могу надеяться или нет, Маргарет, что когда-нибудь вы подумаете обо мне как о возлюбленном? Не сейчас, я понимаю, не стоит спешить, но когда-нибудь…
Маргарет молчала минуту или две, пытаясь понять собственное сердце, прежде чем ответить. Потом она сказала:
– Я никогда не думала о вас иначе как о друге. Мне нравится считать вас другом, но я уверена, я никогда не смогла бы думать о вас как-то иначе. Умоляю, давайте оба забудем весь этот («неприятный», собиралась сказать она, но вовремя остановилась) разговор.
Он помолчал, прежде чем ответить. Потом со своей привычной холодностью сказал:
– Разумеется, раз ваши чувства так определенны и коль скоро этот разговор был явно неприятен вам, лучше об этом не вспоминать. Это очень хорошо в теории – забыть то, что причинило боль, но для меня будет трудно выполнить обещанное.
– Вы рассержены, – сказала она печально, – как мне помочь?
Говоря это, она выглядела на самом деле такой опечаленной, что он мгновение боролся со своим действительным разочарованием, но потом ответил более бодро, но все еще с некоторым усилием:
– Примите во внимание разочарование не только влюбленного, Маргарет, но и человека, обычно не показывающего своих чувств – осторожного, светского, как меня многие называют, выбитого из своего обычного состояния силой страсти. Хорошо, мы больше не будем возвращаться к этому. Я буду вынужден утешаться презрением к собственной глупости. Еще не добившийся признания адвокат подумал о браке!
Маргарет не знала, что на это ответить. Сам тон разговора раздражал ее. Казалось, стоит ей возразить, и оживут все разногласия, которые отталкивали ее от него, хотя он был самым приятным мужчиной, самым сердечным другом, единственным человеком, который понимал ее в доме на Харли-стрит. К счастью, они, сделав круг по саду, внезапно столкнулись с мистером Хейлом. Он еще не покончил с грушей, с которой снимал тонкую, как фольга, полоску кожуры и наслаждался этим в своей неторопливой манере. Это походило на историю про восточного короля, который по велению волшебника окунул лицо в воду, а когда поднял голову, то оказалось, что прошло много лет и все вокруг изменилось. Маргарет была потрясена и не могла успокоиться настолько, чтобы присоединиться к разговору между отцом и мистером Ленноксом. Она только ожидала, когда же мистер Леннокс уйдет, чтобы она смогла прийти в себя и обдумать все, что случилось за последние четверть часа. Он и сам страстно желал уехать. Но несколько минут разговора, пустого и беззаботного, были жертвой, которую он должен был принести своему уязвленному самолюбию – или самоуважению. Он изредка поглядывал на ее печальное и задумчивое лицо.
«Я не так безразличен ей, как она считает, – подумал он про себя. – Я сохраню надежду».
И он невозмутимо, но с отчетливым сарказмом заговорил о жизни в Лондоне, о жизни в деревне, словно признавая существование своего второго, равнодушного и насмешливого «я» и одновременно опасаясь собственной насмешки. Мистер Хейл был озадачен. Его гость отличался от того человека, с которым он виделся на свадебном приеме и сегодня за обедом. Более безразличный, более искушенный, более мирской человек, в чем-то даже неприятный мистеру Хейлу. Все трое почувствовали облегчение, когда мистер Леннокс сказал, что должен отправляться немедленно, чтобы успеть на пятичасовой поезд. Они прошли в дом поискать миссис Хейл и попрощаться с ней. В последний момент Генри Леннокс-настоящий сумел одолеть своего двойника:
– Маргарет, не презирайте меня. У меня есть сердце, вопреки этому недостойному тону. Это подтверждается тем, что я люблю вас даже больше, чем раньше, – если только я не ненавижу вас – за то презрение, с которым вы слушали меня последние полчаса. До свидания, Маргарет… Маргарет!
Глава IV
Сомнения и трудности
Хабингтон
- Забрось меня на какой-нибудь пустынный берег,
- Где я могу найти
- Только след печального кораблекрушения,
- Но, если ты со мной, пускай бушует море,
- Я не молю о более мирной и спокойной доле.
Он уехал. Дом закрыли на ночь. Нет больше глубоких голубых небес, нет янтарной и багряной листвы. Маргарет поднялась переодеться к чаю, найдя Диксон, утомленную этим суматошным днем. Диксон лишь несколько раз небрежно провела щеткой по волосам молодой хозяйки, оправдываясь тем, что ей надобно срочно пойти к миссис Хейл. Теперь Маргарет ожидала в гостиной, пока мать спустится вниз. Она сидела одна у камина, не зажигая свечей на столе, вспоминая прошедший день, счастливый поход на этюды, радостный, приятный обед и мучительную злосчастную прогулку в саду.
Как же отличаются мужчины от женщин! Вот она сидит, расстроенная и несчастная из-за того, что ее внутренний голос не подсказал ей ничего, кроме отказа. Тогда как он, получив отказ на самое искреннее, самое святое чаяние в своей жизни, вскоре смог беседовать как ни в чем не бывало, как будто его интересовали только дела и прочие темы, о которых говорят в хорошем доме и в приятном обществе. О боже! Как она могла бы любить его, если бы он был другим, если бы не эта его двойственность, которую она постоянно ощущала. Потом ей пришло в голову, что его несерьезность могла быть напускной, чтобы скрыть горечь разочарования, которое оставило бы след и в ее собственном сердце, если бы она любила, а ей отказали.
Ее мать спустилась в комнату прежде, чем вихрь мыслей приобрел какое-то подобие порядка. Маргарет отогнала воспоминания о том, что было сделано и сказано в этот день, и превратилась в сочувствующего слушателя: она выслушала рассказ о жалобах Диксон на то, что гладильщица опять сожгла одеяло, а Сьюзан Лайтфут видели в шляпке с искусственными цветами, чем она окончательно подтвердила, что является пустой и легкомысленной особой. Мистер Хейл потягивал свой чай молча, весь во власти своих невеселых мыслей. Маргарет недоумевала, как ее отец и мать могли быть такими забывчивыми, такими равнодушными: за весь вечер они ни разу не вспомнили о мистере Ленноксе. Она забыла, что он не делал им предложения.
После чая мистер Хейл поднялся и стоял, опираясь локтем на камин, склонив голову на руку, размышляя над чем-то, и время от времени глубоко вздыхал. Миссис Хейл вышла обсудить с Диксон сбор зимней одежды для бедных. Маргарет занялась рукоделием своей матери, вздрагивая при мысли об этом длинном вечере и желая, чтобы он побыстрее закончился и можно было уйти к себе и тщательно обдумать события этого дня.
– Маргарет! – сказал мистер Хейл наконец с таким отчаянием в голосе, что девушка вздрогнула. – Этот гобелен так необходимо закончить прямо сейчас? Я имею в виду, не могла бы ты оставить его и пройти со мной в кабинет? Мне нужно поговорить с тобой о чем-то очень важном для нас всех.
«Очень важном для нас всех». У мистера Леннокса не было возможности поговорить с ее отцом наедине после ее отказа, а что еще могло быть «очень важно»? Маргарет смущалась и чувствовала себя виноватой из-за того, что, оказывается, уже выросла и достигла брачного возраста; кроме того, она не была уверена, что отец не выразит недовольство тем, что она самостоятельно отвергла предложение мистера Леннокса. Но вскоре она поняла, что тема разговора едва ли имеет отношение к тому, что произошло недавно, и теперь терялась в догадках, о чем желал поговорить с ней отец. Он усадил ее рядом с собой, помешал угли в камине, снял нагар со свечей, вздохнул пару раз, прежде чем смог решиться, но затем сразу огорошил ее:
– Маргарет! Я собираюсь уехать из Хелстона.
– Уехать из Хелстона, папа?! Но почему?
Минуту-другую мистер Хейл не отвечал. В замешательстве он беспокойно перебирал бумаги на столе, несколько раз открывал рот, но закрывал его снова, не находя в себе мужества заговорить. Маргарет не могла дольше вынести этого ожидания, которое терзало отца больше, чем ее саму.
– Но почему, папочка? Скажи же мне!
Внезапно он посмотрел ей прямо в глаза и произнес медленно и с напускным спокойствием:
– Потому что я больше не имею права оставаться священником Англиканской церкви.
Маргарет предполагала, что ее отец наконец-то получил продвижение по службе, которого так желала ее мать, – ведь только это заставило бы его оставить замечательный, любимый Хелстон и переехать, возможно, в один из величавых и тихих особняков, которые Маргарет видела время от времени неподалеку от кафедральных соборов. Такие места невольно внушали почтение и трепет, но перебраться туда означало навсегда покинуть Хелстон, что причинило бы огорчение и даже боль. Но эта предполагаемая боль не шла ни в какое сравнение с тем потрясением, которое испытала Маргарет от слов отца. Что он имел в виду? Загадочность этих слов только усугубляла положение. Его лицо, искаженное мукой и взывающее к состраданию, едва ли не умоляющее о милосердии и доброте собственное дитя, вызвало у нее внезапную дурноту. Мог ли он быть вовлечен в то, что сделал Фредерик? Фредерик был вне закона. Неужели естественная любовь к сыну заставила отца потворствовать какому-нибудь…
– О! В чем дело? Говори, папа! Расскажи мне все! Почему ты не можешь больше оставаться священником? Наверняка, если епископу рассказать все, что мы знаем о Фредерике, и тяжелое, несправедливое…
– Это не имеет отношения к Фредерику. Епископ не смог бы ничего с этим поделать. Дело во мне самом. Маргарет, я расскажу тебе об этом. Я отвечу на все твои вопросы сейчас, но после сегодняшнего вечера мы больше не будем об этом говорить. Я могу столкнуться с последствиями моих мучительных сомнений, но для меня слишком тяжело говорить о том, что послужило причиной моих страданий.
– Сомнения, папа! Сомнения в религии? – спросила Маргарет, потрясенная еще больше.
– Нет, нет, не сомнения в религии, ничего подобного.
Он замолчал. Маргарет вздохнула, как будто стояла на грани какого-то нового ужаса. Он начал снова, говоря быстро, чтобы покончить с мучительным признанием:
– Ты бы не смогла понять всего, если бы я рассказал тебе – о своей тревоге все эти долгие годы, когда я не мог решить, имею ли я право исполнять обязанности викария, о своих попытках погасить тлеющие сомнения в авторитете Церкви. О Маргарет, как я люблю святую Церковь, от которой должен быть отторгнут!
Он не мог продолжить минуту или две. Маргарет хранила молчание. Все казалось таким же непостижимым, как если бы отец обратился в мусульманство.
– Я сегодня прочел о двух тысячах человек, что были изгнаны из своих церквей, – продолжил мистер Хейл, слабо улыбнувшись, – пытался позаимствовать у них немного мужества, но это бесполезно, бесполезно, я не могу не чувствовать этого.
– Но, папа, ты хорошо все обдумал? О! Это такой ужас, такое потрясение, – сказала Маргарет и внезапно расплакалась. Единственное крепкое основание ее дома, образ любимого отца, казалось, шатается и колеблется. Что она могла сказать? Что могла сделать? Ее отчаяние заставило мистера Хейла самого собраться с силами, чтобы попытаться успокоить ее. Подавив душившие его сухие рыдания, шедшие из глубины сердца, он подошел к книжному шкафу и вынул томик, который читал довольно часто в последнее время и который, как ему казалось, придавал ему силы, чтобы вступить на избранный им путь.
– Вот, послушай, дорогая Маргарет, – сказал он, обхватив ее одной рукой за талию.
Она схватила его руку и крепко сжала ее, но не могла ни поднять головы, ни даже осмыслить, что он читает, – так велико было ее внутреннее смятение.
– Это речь одного из приходских сельских священников, такого же, как я. Она написана мистером Олдфилдом, священником из Карсингтона в Дербишире, около ста шестидесяти лет тому назад. Его испытания закончились. Он вел честную борьбу. – Последние два предложения он произнес тихо, будто для себя. Потом стал читать громко: – «Когда вы не можете больше продолжать свою работу, не оскорбляя Бога, не позоря религии, не греша против чести, не раня совесть, не разрушая свой мир, не рискуя потерять свое спасение, – словом, когда условия, в которых вы должны отправлять (если вы будете отправлять) свои обязанности, греховны и не оправданы Словом Божьим, вы можете, нет, вы должны верить, что Бог предназначил вам молчание, отрешение и уход в сторону к вящей славе Своей и торжеству благого Евангелия. Когда Бог не желает использовать вас одним образом, Он будет использовать вас по-иному. Душа, что желает служить Ему и почитать Его, никогда не упустит возможности сделать это, к тому же вы не должны ограниченно понимать завет Израилев, думая, что у Него есть только один путь, которым вы можете Его прославлять. Он может принять ваше молчание так же, как и молитвы; ваш уход так же, как и ваш труд. Прославлять Бога без притворства есть великая служба и исполнение тяжелейшего долга, что отпустит наименьший грех, хотя этот грех учит нас и дает нам возможность исполнить этот долг. Не будет тебе благодарности, душа моя, если ты примкнешь к извращающим Слово Божье, к дающим ложные обеты и будешь притворяться, что можешь еще оставаться священником».
Пока он читал это, усматривая в тексте нечто большее, что нельзя было выразить словами, он принял решение для себя, чувствуя, что утвердился в своих помыслах и уверовал в свою правоту. Но, замолчав, он услышал подавленные всхлипывания Маргарет, и его отвага уступила место острому чувству жалости.
– Маргарет, дорогая, – сказал он, привлекая ее к себе, – вспомни о первых мучениках, вспомни о тысячах страдальцев.
– Но, отец, – сказала она, внезапно поднимая покрасневшее, залитое слезами лицо, – первые мученики страдали за правду, тогда как ты… О милый, милый папа!
– Я страдаю во имя совести, мое дитя, – сказал он с трепетным достоинством, которое происходило от острой чувствительности его характера. – Я должен делать то, что велит мне моя совесть. Я долго мирился с самобичеванием, которое пробудило бы любой ум, менее вялый и трусливый, чем мой. – Он покачал головой, продолжив: – Твоя бедная мать так желала перемен, но ее желания оказались подобны содомским яблокам, они привели меня к этому трудному решению, за которое я должен быть и, надеюсь, буду благодарен. Уже почти месяц, как епископ предложил мне другую должность. Если бы я принял ее, мне нужно было бы заново подтвердить свою приверженность догматам нашей Церкви. Маргарет, я пытался сделать это. Я пытался удовольствоваться простым отказом от повышения, тихо оставаясь здесь, заглушая голос моей совести. Да простит меня Бог!
Он встал и заходил туда-сюда по комнате, жестоко порицая себя, но Маргарет его почти не слышала. Наконец он сказал:
– Маргарет, я вернусь к прежнему печальному известию: мы должны покинуть Хелстон.
– Да, я поняла. Но когда?
– Я написал епископу, по-моему, я уже говорил тебе об этом, но я забываю сейчас некоторые вещи, – сказал мистер Хейл, упав духом, как только разговор зашел о прозе жизни. – Я написал ему о своем намерении уйти в отставку. Он был достаточно добр, он уговаривал меня, но все бесполезно, бесполезно. В сущности, он повторял все мои доводы. Я буду вынужден довести до конца вопрос о снятии сана, и я лично навещу епископа, чтобы попрощаться с ним. Это будет испытанием, но горше, намного горше будет расставание с моими дорогими прихожанами. Уже назначен помощник викария, некий мистер Браун. Он приедет завтра и остановится у нас. В следующее воскресенье я проведу свою прощальную службу.
«Стоило ли это предпринимать так поспешно? – подумала Маргарет. – Но возможно, поспешность и к лучшему. Промедление только доставило бы лишние муки. Пусть лучше вот так сразу оглушит, чем переносить все эти приготовления, которые теперь, похоже, близки к завершению».
– Что говорит мама? – спросила она, глубоко вздохнув.
К ее удивлению, отец, не ответив, вновь заходил по кабинету. Наконец он остановился и произнес:
– Маргарет, я жалкий трус, я не могу причинять ей боль. Я хорошо знаю, что и без того замужество твоей матери оказалось не тем, на что она надеялась, что имела право ожидать, а это окажется таким ударом для нее, который у меня не хватит мужества и сил нанести. Ей необходимо объяснить, хотя бы сейчас, – сказал он, с тоскою глядя на дочь.
Маргарет была ошеломлена тем, что ее мать ничего не знает, хотя дело зашло уже так далеко.
– Да, в самом деле нужно, – ответила Маргарет. – Возможно, она не… О да! Она, конечно же, будет потрясена. – Маргарет снова ощутила всю силу удара, когда попыталась представить, что почувствует мать. – Куда мы едем? – спросила она наконец.
– В Милтон, на север, – ответил он с унылым безразличием, так как почувствовал, что хотя любовь дочери ненадолго принесла ему утешение, сама она тем острее ощущала болезненный удар.
– На север, в Милтон! Фабричный город в Даркшире?
– Да, – ответил он тем же подавленным, отстраненным тоном.
– Почему туда, папа? – спросила она.
– Потому что там я смогу заработать на хлеб для семьи. Потому что там я не знаю никого и никто не знает Хелстон, никто не напомнит мне о нем.
– На хлеб для семьи! Я думала, что у вас с мамой есть… – Она остановилась, увидев глубокие морщины на лбу отца.
Но он, движимый мгновенным чутьем, увидел на ее лице, как в зеркале, отражение его собственного уныния и подавил его усилием воли.
– Я все расскажу тебе, Маргарет. Только помоги мне сообщить об этом матери. Я сделаю все что угодно, кроме этого. При мысли о ее страдании мне делается дурно от страха. Если я расскажу тебе все, возможно, ты сможешь передать это ей завтра. Меня не будет весь день – пойду прощаться с фермером Добсоном и бедняками в Брейси-Коммон. Тебе это очень не по душе, Маргарет?
Маргарет это было совсем не по душе, она больше всего на свете хотела избежать подобного объяснения. Она не смогла ответить сразу, и ее отец снова спросил:
– Тебе это очень неприятно, да, Маргарет?
Она собралась с силами и сказала решительно:
– Это тяжело, но должно быть сделано, и я постараюсь это сделать. Тебе предстоит еще много неприятных дел.
Мистер Хейл уныло покачал головой и пожал ей руку в знак благодарности. Маргарет снова чуть не расплакалась от расстройства. Чтобы избавиться от тяжких дум, она сказала:
– Теперь расскажи мне, папа, какие у нас планы. У тебя и мамы есть немного денег независимо от приходского жалованья, не так ли? У тети Шоу есть, я знаю.
– Да, я полагаю, у нас есть независимый доход – сто семьдесят фунтов в год. Семьдесят из них мы всегда отправляли Фредерику, с тех пор как он уехал за границу. Я не знаю, нужно ли ему столько, – продолжил он колеблясь. – Он что-то получает на службе в испанской армии…
– Фредерик не должен страдать, – сказала Маргарет решительно, – в чужой стране, так несправедливо отторгнутый своей родиной. Остается сто фунтов. Не могли бы мы – ты, я и мама – жить на сто фунтов в год в очень дешевой, очень тихой части Англии? О, я думаю, могли бы.
– Нет! – сказал мистер Хейл. – Это не выход. Я должен что-то делать. Я должен заняться делом, чтобы держаться подальше от нездоровых мыслей. Кроме того, в деревенском приходе мне было бы больно вспоминать о Хелстоне и о моих обязанностях здесь. Я бы не вынес этого, Маргарет. И сто фунтов в год – очень мало на все необходимые нужды по содержанию дома, на то, чтобы обеспечить твою мать всеми удобствами, к которым она привыкла и которых достойна. Нет, мы должны ехать в Милтон. Это решено. Мне всегда лучше решать самому, а не под влиянием тех, кого я люблю, – сказал он, будто отчасти извиняясь за то, что многое решил сам, прежде чем сообщить кому-то из членов семьи о своих намерениях. – Я не могу слышать возражений. Они лишают меня уверенности.
Маргарет решила хранить молчание. В конце концов, не все ли равно, куда они поедут, если отъезд ужасен сам по себе.
Мистер Хейл продолжил:
– Несколько месяцев назад, когда я уже не мог молча бороться со своими сомнениями, я написал мистеру Беллу. Ты помнишь мистера Белла, Маргарет?
– Нет, мы никогда не встречались. Но я его знаю. Он – крестный Фредерика, твой старый наставник в Оксфорде, не так ли?
– Да, он член научного совета в колледже Плимута. Насколько мне известно, он уроженец Северного Милтона. Во всяком случае, у него там есть собственность, которая очень поднялась в цене с тех пор, когда Милтон стал большим промышленным городом. Ну и у меня есть причины полагать… представить… лучше мне ничего не говорить об этом. Но я уверен в симпатии со стороны мистера Белла. Не скажу, что он так уж подбодрил меня. Он сам без особых забот провел большую часть жизни на одном месте – в своем колледже. Но он отнесся ко мне с большой добротой. Благодаря ему мы и едем в Милтон.
– А именно? – спросила Маргарет.
– Ну, у него там есть арендаторы, дома и фабрики. Хотя он и не любит это место, слишком суматошное для человека его склада, он вынужден поддерживать там связи, и он сообщает мне, что слышал, будто там есть хорошая вакансия частного учителя.
– Частного учителя! – воскликнула Маргарет насмешливо, – Для чего промышленникам античная история, литература или воспитание, которое подобает джентльмену?
– Ну, – ответил ее отец, – некоторые из них действительно кажутся неплохими людьми, осознающими свои недостатки, – а это больше, чем могут похвастаться многие выпускники Оксфорда. Некоторые хотят учиться, хотя и имеют солидный доход. Некоторые хотят, чтобы их дети были лучше образованы, чем они сами. Во всяком случае, есть вакансия, как я сказал, для частного учителя. Мистер Белл рекомендовал меня некоему мистеру Торнтону, своему арендатору, очень умному человеку, насколько я могу судить по письмам. И в Милтоне, Маргарет, я найду себе занятие, если не счастье, встречусь с людьми и событиями настолько иными, что мне не придется вспоминать о Хелстоне.
Маргарет догадалась, что это был его тайный мотив. Все будет другим. Все, что она слышала о севере Англии, о промышленниках, о диком и холодном крае, внушало отвращение. Однако Милтон будет отличаться от Хелстона, и ничто там не напомнит им о любимых местах.
– Когда мы едем? – спросила Маргарет, немного помолчав.
– Я не знаю точно. Я хотел поговорить об этом с тобой. Видишь ли, мама еще не знает ничего, но я думаю, через две недели. После того как моя отставка будет принята, я не имею права оставаться здесь.
Маргарет едва не лишилась дара речи.
– Через две недели!
– Ну, не с точностью день в день. Ничего ведь еще не готово, – сказал отец, заметив тень тоски, затуманившей ее глаза, и внезапно побледневшее лицо.
Но она немедленно опомнилась.
– Да, папа, лучше действовать быстро и решительно, как ты сказал. Только мама ничего не знает об этом! И это самое большое затруднение.
– Бедняжка Мария! – с нежностью произнес мистер Хейл. – Бедная, бедная Мария! О, если бы мы не были женаты, если бы я был один в этом мире, как легко было бы! Маргарет, я не смею ей рассказать!
– Нет, – сказал Маргарет печально. – Это сделаю я. Позволь мне до завтрашнего вечера выбрать время. О папа! – вскричала она неожиданно. – Скажи, скажи мне, что это кошмар, ужасный сон, а не явь, не безжалостное пробуждение! Ты ведь не думал, что действительно собираешься покинуть Церковь, оставить Хелстон, быть навсегда отделенным от меня, от мамы, уехать далеко из-за какого-то наваждения, соблазна?! Ты ведь не это имел в виду!
Мистер Хейл посмотрел ей в лицо и ответил медленным, хриплым и размеренным голосом:
– Я имел в виду именно это, Маргарет. Ты не должна обманывать себя, не должна сомневаться в реальности моих слов, в моих намерениях и решениях.
Несколько мгновений они смотрели друг другу в глаза, и Маргарет наконец поверила, что все окончательно решено. Она поднялась и направилась к двери. Когда она взялась за ручку, отец позвал ее. Он стоял у камина, опустив голову и ссутулясь, но, как только она подошла, выпрямился во весь рост и, положив руки ей на голову, торжественно произнес:
– Да благословит тебя Бог, дитя мое!
– И да примет Он тебя в Его Церковь, – ответила она от всего сердца.
В следующий момент она испугалась, что такой ответ на его благословение может быть истолкован как неподобающий, непочтительный в устах дочери, и она обвила руками его шею. Он прижал ее к своей груди. И она услышала, как он бормотал про себя:
– Мученики и проповедники претерпели даже большую боль, и я не отступлю.
Оба вздрогнули, услышав, как миссис Хейл зовет свою дочь. Они отпрянули в стороны, полностью осознавая то, что им предстояло сделать. Мистер Хейл поспешно сказал:
– Иди, Маргарет, иди. Меня завтра не будет. К вечеру ты расскажешь все матери.
– Да, – ответила она и вернулась в гостиную, потрясенная до глубины души.
Глава V
Решение
Неизвестный автор
- Я прошу тебя о понимающей любви,
- Чтобы неизменно встречала
- Радость счастливой улыбкой,
- И вытерла заплаканные глаза,
- И тем утешила и успокоила
- Мне сердце на досуге.
Миссис Хейл рассказывала дочери о том, как планирует помочь бедным этой зимою. Маргарет не могла не слушать, но каждый новый проект все глубже ранил ее сердце. К тому времени, как грянут первые морозы, они будут уже далеко от Хелстона. Ревматизм старого Саймона станет сильнее, а зрение – хуже, и не будет никого, кто пришел бы и почитал ему, кто принес бы ему горячий бульон и теплую одежду. А если кто-то и придет, то это будет незнакомый человек, и старик станет тщетно высматривать на дороге ее. Маленький сынишка Мэри Домвиль, калека, будет подползать к двери, напрасно ожидая, что Маргарет вот-вот выйдет из леса. Ее бедные друзья никогда не поймут, почему она покинула их, а кроме них, есть и другие.
– Папа всегда тратил часть от своего заработка на нужды людей в приходе. Я, возможно, посягаю на будущие доходы, но зима, похоже, будет суровой, и нашим бедным людям нужно помочь.
– О мама, давай сделаем все, что можем, – сказала Маргарет, думая лишь о том, что это будет последняя возможность помочь своим дорогим друзьям, – мы здесь долго не задержимся.
– Ты не заболела, моя дорогая? – спросила миссис Хейл с беспокойством. – Ты выглядишь бледной и утомленной. Это все сырой нездоровый воздух.
– Нет-нет, мама, это здоровый воздух. Он самый чистый, самый свежий – особенно после дыма Харли-стрит. Но я устала, наверно, пора ложиться.
– Еще не так поздно, только половина десятого. Но тебе лучше лечь, дорогая. Попроси у Диксон сварить тебе овсяной каши. Я приду навестить тебя, как только ты ляжешь. Боюсь, что ты простудилась или это плохой воздух от стоячих прудов…
– О мама, – сказала Маргарет, улыбаясь через силу и целуя миссис Хейл – Я хорошо себя чувствую, не тревожься обо мне, я просто устала.
Маргарет поднялась наверх. Чтобы унять беспокойство матери, ей пришлось съесть тарелку каши. Она обессиленно лежала в кровати, когда миссис Хейл пришла сделать последние распоряжения и поцеловать дочь, прежде чем пойти к себе. Но как только Маргарет услышала, что дверь в комнату матери закрылась, она вскочила с кровати, накинула домашний халат и принялась расхаживать по комнате, пока скрип одной из половиц не напомнил ей, что не следует шуметь. Тогда она устроилась в нише окна. Этим утром, когда она бросила взгляд сквозь стекло, ее сердце танцевало при виде яркого чистого света на башне церкви, что предсказывало хороший и солнечный день. Этим вечером – уже прошло больше шестнадцати часов – она сидела слишком переполненная горем, чтобы плакать, но с тупой холодной болью в сердце, которая, казалось, навсегда лишила ее юной жизнерадостности. Визит мистера Леннокса, его предложение были сном, чем-то далеким и несущественным. Ее отец позволил сомнениям войти в свою душу и стал еретиком, изгоем. Все это превратило ее жизнь в одно огромное горе.
Маргарет всматривалась в темно-серые очертания церковной башни, тонущие в темно-синей вечерней дымке. Она чувствовала, что могла бы так вглядываться вечно, с каждым мгновением видя все дальше, но не получая знамения от Бога. В этот момент ей казалось, что земля безлюдна и пустынна, словно накрыта железным куполом, за пределами которого может царить несказанный покой и слава Всевышнего. Эти бесконечные глубины пространства в их неподвижном спокойствии были более обманчивыми, чем любые материальные границы. Они заглушали вопли земных страдальцев, мешая им подняться в бесконечно великолепный простор и затеряться – затеряться в нем навсегда, прежде чем они достигнут Его престола.
Погруженная в свои мысли, она не услышала, как вошел отец. Лунный свет был достаточно ярким, и мистер Хейл увидел свою дочь в необычном месте и необычной позе. Он подошел к ней и дотронулся до ее плеча, прежде чем она осознала, что он здесь.
– Маргарет, я услышал, что ты не спишь. Я не мог не прийти и не попросить тебя помолиться со мной, попросить Бога, чтобы Он был добр к нам обоим.
Мистер Хейл и Маргарет преклонили колени перед окном, он смотрел вверх, она смиренно склонила голову. Бог был там, рядом с ними, Он слышал произносимые шепотом слова отца. Ее отец мог быть еретиком, но разве не она в своих отчаянных сомнениях не более пяти минут назад показала себя еще большим скептиком? Она не произнесла ни слова, но прокралась к себе в кровать после ухода отца, как ребенок, стыдящийся своей вины. Пускай мир был полон ошеломляющих неожиданностей, она не утратит веры, но будет лишь молить о том, чтобы Бог позволил ей принимать правильные решения в нужный момент. Мистер Леннокс, его визит, его предложение, воспоминания о которых были вытеснены последующими событиями, завладели ее снами в эту ночь. Он залез на дерево невероятной высоты, чтобы достать ветку, на которой висела ее шляпка. Он падал, она пыталась спасти его, но ее удержала чья-то невидимая могучая рука. Он был мертв. И тут же она оказалась в гостиной на Харли-стрит и разговаривала с ним, как в былые времена, осознавая, что она только что видела его мертвым, распростертым на земле.
Несчастная, беспокойная ночь! Скверное преддверие наступающего дня! Вздрогнув, она проснулась, не чувствуя себя отдохнувшей, понимая, что действительность гораздо хуже ее ночных кошмаров. Все опять навалилось на нее: не просто горе, а ужасный разлад. Куда и как далеко забрел ее отец, ведомый сомнениями, которые казались ей искушениями дьявола? Она продолжала вопрошать, но мир не слышал ее.
В такое прекрасное свежее утро миссис Хейл чувствовала себя особенно хорошо и счастливо за завтраком. Она разговаривала, делилась своими планами благотворительности, не обращая внимания на молчание мужа и односложные ответы Маргарет. Прежде чем со стола убрали, мистер Хейл поднялся, оперся одной рукой о стол, как будто поддерживал себя:
– Меня не будет дома до вечера. Я собираюсь в Брайси-Коммон и попрошу фермера Добсона дать мне что-нибудь на обед. Я буду к чаю в семь.
Он даже не взглянул на них, но Маргарет знала, что он имел в виду. К семи она должна все рассказать матери. Мистер Хейл отложил бы этот разговор до половины седьмого, но Маргарет была скроена по-другому. Она не могла весь день носить в душе эту тяжесть, лучше скорее покончить с этим. День слишком короткий, чтобы успокоить мать. Но пока Маргарет стояла у окна, размышляя, как приступить к делу, и ожидая, когда служанка выйдет из комнаты, миссис Хейл поднялась наверх собрать вещи, чтобы идти в школу. Она спустилась уже одетая, более оживленная, чем обычно.
– Мама, прогуляйся со мной по саду этим утром. Хотя бы немного, – попросила Маргарет, обнимая миссис Хейл за талию.
Они вышли через открытое окно. Миссис Хейл что-то говорила, Маргарет не слышала слов матери. Ее взгляд наткнулся на шмеля, влетавшего в цветок колокольчика. Когда этот шмель вылетит обратно со своей ношей, она начнет – это должен быть знак. Знак свыше. Вот и вылетел шмель.
– Мама! Папа собирается уезжать из Хелстона! – выпалила она. – Он собирается покинуть церковь и жить на севере, в Милтоне.
Три самые трудные вещи были сказаны.
– Что заставляет тебя так говорить? – спросила миссис Хейл удивленно и недоверчиво. – Кто тебе рассказал такую чепуху?
– Сам папа, – ответила Маргарет, всей душой желая как-то нежно утешить ее, но не находя слов…
Они оказались возле садовой скамьи. Миссис Хейл села и заплакала.
– Я не понимаю тебя, – сказала она. – Или ты ужасно ошибаешься, или я не вполне понимаю тебя.
– Нет, мама, я не ошибаюсь. Папа написал епископу, сообщив, что у него есть сомнения, что он не может оставаться священником Англиканской церкви, что он должен покинуть Хелстон. Он также посоветовался с мистером Беллом, крестным Фредерика, – ты его знаешь, мама, – и он предложил нам поехать жить в Милтон, на север.
Миссис Хейл не отрываясь смотрела на Маргарет, пока та говорила. Тень на лице дочери сказала ей, что та, по крайней мере, сама верит в то, что говорит.
– Я не думаю, что это правда, – произнесла наконец миссис Хейл. – Он бы рассказал мне, прежде чем решиться на это.
Маргарет стало вдруг совершенно ясно, что матери давно следовало все рассказать. Как бы отец ни страшился ее недовольства и ропота, он допустил ошибку, не рассказав о переменах в своих взглядах, о намерениях изменить жизнь, предоставив жене услышать это из уст дочери. Маргарет села возле матери, склонила ее голову себе на грудь, наклонила собственную, нежно потерлась щекой о щеку.
– Дорогая, любимая мамочка! Мы так боялись причинить тебе боль. Папа так переживал, ты же знаешь, боялся, что у тебя недостаточно сил, а ведь предстояло пройти через такие ужасные испытания.
– Когда он рассказал тебе, Маргарет?
– Вчера, только вчера, – ответила Маргарет, почувствовав ревность, которая побудила к расспросам. – Бедный папа! – Она пыталась пробудить в душе матери сочувствие к тому, что пережил отец.
Миссис Хейл подняла голову.
– Что он имел в виду под сомнениями? – спросила она. – Конечно, он не стал диссидентом, не усомнился в Церкви.
Маргарет покачала головой, и слезы появились в ее глазах, поскольку миссис Хейл затронула оголенные нервы ее собственного горя.
– Разве епископ не может призвать его к порядку? – спросила миссис Хейл нетерпеливо.
– Боюсь, что нет, – ответила Маргарет. – Но я не спрашивала. Я бы не вынесла того, что могла услышать в ответ. Во всяком случае, все уже решено. Он собирается покинуть Хелстон через две недели. Я не уверена, говорил ли он, что послал прошение об отставке.
– Через две недели! – воскликнула миссис Хейл. – Я думаю, это очень странно, неправильно. Я бы назвала это жестокостью, – сказала она, начиная находить облегчение в слезах. – У него есть сомнения, ты говоришь, и он бросает свой приход, не посоветовавшись со мной. Смею сказать, если бы он мне рассказал о своих сомнениях сначала, я бы могла пресечь их в корне.
Маргарет чувствовала, что отец совершил ошибку, но она не могла слышать, как мать обвиняет его. Она знала, что его молчание вызвано лишь любовью к жене и оно, может быть, трусливое, но не бесчувственное.
– Я почти надеялась, что ты была бы рада уехать из Хелстона, мама, – сказала она, помолчав. – Ты никогда не чувствовала себя хорошо здесь, на этом воздухе, ты же знаешь.
– Не можешь же ты думать, что задымленный воздух промышленного города будет лучше местного воздуха, чистого и приятного, даже если он слишком влажный и расслабляющий. Подумать только, жить среди фабрик и рабочих! Хотя, конечно, если твой отец оставляет Церковь, нас нигде не примут в обществе. Это будет таким позором для нас! Бедный дорогой сэр Джон! Хорошо, что он не дожил и не видит, до чего дошел твой отец. Каждый день после ужина, когда я была маленькой девочкой и жила с твоей тетей Шоу в Бересфорд-Корте, сэр Джон обыкновенно произносил первый тост: «За Церковь и короля, и долой „охвостье“!»[5]
Маргарет была рада, что мысли матери перешли от факта умолчания ее мужа к тому, что должно было быть так близко ее сердцу. Помимо серьезного и важного беспокойства о природе сомнений отца, было еще одно обстоятельство, которое причиняло Маргарет сильную боль.
– Ты знаешь, мама, у нас здесь очень маленькое общество. Горманы, наши ближайшие соседи (трудно назвать их обществом, если мы едва с ними видимся), занимались торговлей так же, как и многие люди в Милтоне.
– Да, – ответила миссис Хейл почти возмущенно, – но, во всяком случае, эти Горманы делали экипажи для половины дворянских семей в стране и в некотором роде состояли в отношениях с ними. Но эти фабричные люди… ради чего кто-то будет носить хлопок, если может позволить себе лен?
– Ну, мама, я стою за прядильщиков хлопка не больше, чем за других рабочих. Только нам не придется общаться с ними.
– Почему твой отец выбрал Милтон?
– Отчасти, – ответила Маргарет, вздыхая, – потому, что он так отличается от Хелстона, отчасти потому, что мистер Белл говорит, что там есть вакансия частного учителя.
– Частный учитель в Милтоне! Почему он не может поехать в Оксфорд и быть учителем для джентльменов?
– Ты забываешь, мама! Он оставляет Церковь из-за своих убеждений, его сомнения не пойдут ему на пользу в Оксфорде.
Миссис Хейл молчала какое-то время, тихо плача. Наконец она произнесла:
– И мебель. Как, в конце концов, мы справимся с переездом? Я никогда в жизни не переезжала, и у нас только две недели, чтобы подумать об этом!
Маргарет почувствовала невыразимое облегчение, обнаружив, что беспокойство и страдания матери свелись к трудности настолько несущественной, что здесь она могла быть чрезвычайно полезной. Она все распланировала и убедила мать по возможности заняться сборами, чтобы все было готово до того, как они узнают что-то более определенное о намерениях мистера Хейла. На протяжении всего дня Маргарет не оставляла мать одну, всеми силами души стараясь уследить за перепадами ее настроения. Маргарет очень хотелось, чтобы вечером ее отец встретил дома спокойный прием. Она без конца повторяла, что он, должно быть, долго держал это в секрете и испытал немало горя, а ее мать холодно отвечала, что ему следовало рассказать ей все, что, во всяком случае, у него был бы советчик, чтобы дать ему наставление. У Маргарет дрогнуло сердце, когда она услышала шаги отца в холле. Она не решилась выйти встречать его и рассказать, что ей пришлось делать весь день, чтобы смягчить ревнивое раздражение матери. Она услышала, что он медлит, как будто ждет ее или какого-то знака от нее, но не осмелилась пошевелиться. По поджатым губам матери и ее побледневшим щекам Маргарет поняла, что та знает о возвращении мужа. Вскоре он открыл дверь в комнату и встал в проходе, не решаясь войти. Его лицо было пепельно-серым, а взгляд робким и боязливым, почти жалким. Но этот взгляд унылой неуверенности, умственной и телесной вялости тронул сердце миссис Хейл. Она подошла к нему и, рыдая, бросилась на грудь мужа:
– О Ричард, Ричард, ты должен мне рассказать все немедленно!
А Маргарет, вся в слезах, оставила их, побежала наверх и бросилась на кровать, уткнув лицо в подушку, чтобы заглушить истерические рыдания, что вырвались у нее наконец после невыносимо долгого дня, когда она изо всех сил сдерживала себя.
Сколько она так пролежала, Маргарет не могла сказать. Она не слышала шума, хотя служанка приходила убираться в комнате. Напуганная девочка на цыпочках выбралась из комнаты, пошла к миссис Диксон и сказала ей, что мисс Хейл плачет навзрыд и наверняка доведет себя до болезни, если будет продолжать так плакать. Вскоре Маргарет почувствовала, что до нее кто-то дотронулся, и села. Она увидела привычную комнату, фигуру Диксон в тени. Та стояла со свечой в руке чуть позади нее, чтобы не ослепить распухшие от слез глаза мисс Хейл.
– О Диксон! Я и не слышала, как ты вошла в комнату! – прошептала Маргарет. – Уже очень поздно? – спросила она, осторожно поднимаясь с кровати, хоть и не была уверена, что устоит на ногах.
Тем не менее она откинула влажные растрепанные волосы с лица и сделала вид, будто ничего не случилось, она просто спала.
– Я едва ли могу сказать, который час, – ответила Диксон огорченно. – С тех пор как ваша мама поведала мне эту ужасную новость, когда я одевала ее к чаю, я потеряла счет времени. Ума не приложу, что будет со всеми нами. Когда Шарлотта сказала мне, что вы рыдаете, мисс Хейл, я подумала: неудивительно, бедняжка! Хозяину взбрело в голову сделаться отступником – в его-то возрасте, когда, право слово, Церковь пошла ему на пользу и, в конце концов, не сделала ему ничего плохого. У меня есть кузен, мисс, который стал методистским проповедником в пятьдесят лет, а до того он был портным. Но он никогда не мог сшить и пары приличных брюк, хотя и занимался этим ремеслом всю жизнь, поэтому неудивительно. Но хозяин! Как я сказала хозяйке: «Что бы сказал на это бедный сэр Джон? Он не одобрял ваш брак с мистером Хейлом, но, если бы знал заранее, к чему это приведет, он бы гневался еще не так!»
Диксон так привыкла комментировать поступки мистера Хейла своей хозяйке (которая то слушала ее, то нет, когда была не в настроении), что не заметила пылающих глаз Маргарет и ее расширенные ноздри. Слышать, как отца осуждает перед ней ее же служанка!
– Диксон, – сказала она низким голосом, которым всегда говорила, если была взволнована, и в котором словно слышались отголоски дальней грозы. – Диксон! Ты забываешь, кому ты это говоришь. – Она стояла теперь прямо и твердо на ногах, лицом к лицу со служанкой, устремив на нее пристальный проницательный взгляд. – Я дочь мистера Хейла. Иди! Ты допустила ошибку, и такую, что, я уверена, твое доброе сердце заставит тебя сожалеть об этом, когда ты подумаешь.
Диксон нерешительно слонялась по комнате минуту или две. Маргарет повторила:
– Диксон, ты можешь идти. Я хочу, чтобы ты ушла.
Диксон не знала, возмущаться этими решительными словами или плакать, любой исход подошел бы для ее хозяйки, но она сказала себе: «У мисс Маргарет та же манера, что и у старого джентльмена, так же как и у мастера Фредерика. Удивительно, откуда она у них?» И она, которая возмутилась бы такими словами, будь они сказаны тоном менее надменным и решительным, смягчилась и сказала робко и немного обиженно:
– Можно, я расстегну ваше платье и причешу вас, мисс?
– Нет! Не сегодня, спасибо! – И Маргарет выставила ее из комнаты и заперла дверь.
С этого дня Диксон восхищалась Маргарет и во всем ее слушалась. Она говорила, это потому, что та была так похожа на бедного мастера Фредерика. Но, по правде говоря, Диксон, как и многим другим, нравилось, чтобы ею руководила сильная и решительная натура.
Маргарет потребовалась помощь Диксон в деле и ее молчание. Какое-то время служанка считала своей обязанностью выказывать оскорбленное достоинство и разговаривать с молодой госпожой как можно меньше. Поэтому вся ее энергия претворялась в поступки, а не в разговоры. Две недели были слишком коротким сроком, чтобы подготовиться к такому серьезному переезду. Как-то Диксон сказала:
– Любой джентльмен, вернее, любой другой джентльмен… – но, взглянув на сурово сдвинутые брови Маргарет, поспешно закашлялась и кротко приняла мятный леденец, предложенный Маргарет, чтобы прекратить «легкую щекотку в груди, мисс».
Но почти все, кроме мистера Хейла, достаточно понимали в практических делах, чтобы сообразить, что за такой короткий срок будет трудно выбрать дом в Северном Милтоне или еще где-нибудь, куда они смогут перевезти необходимую мебель из Хелстона.
Миссис Хейл, подавленная всеми неприятностями и необходимостью принимать немедленные решения, которые, казалось, обрушились на нее сразу, и в самом деле заболела. Маргарет почувствовала почти облегчение, когда ее мать фактически слегла и предоставила распоряжаться делами ей. Диксон, верная своей обязанности телохранительницы, преданно ухаживала за своей хозяйкой и только изредка выходила из комнаты миссис Хейл, качая головой и бормоча про себя. Маргарет предпочитала этого не слышать. Ей было ясно только одно: необходимо покинуть Хелстон. Преемник мистера Хейла был уже назначен, сразу после решения отца об отставке. Не стоит здесь задерживаться для его же пользы, а также из-за других соображений. Мистер Хейл возвращался домой каждый вечер все более подавленным после неизбежных прощаний с каждым своим прихожанином. Маргарет, не имея достаточного опыта, чтобы справиться со всеми делами, не знала, к кому обратиться за советом. Кухарка и Шарлотта продолжали работать усердно, несмотря на все эти приготовления и сборы. И поскольку пути назад не было, здравый смысл вскоре помог Маргарет понять, что и как нужно сделать и как это сделать лучше. Но куда они поедут? Через неделю отъезд должен состояться. Сразу в Милтон или куда-нибудь еще? Так много приготовлений зависело от этого решения, что Маргарет решилась спросить отца однажды вечером, несмотря на его явную усталость и подавленное настроение. Он ответил:
– Моя дорогая! Я действительно слишком много думал о другом, чтобы решать еще и это. Что говорит твоя мама? Чего она хочет? Бедная Мария!
В ответ он услышал эхо, более громкое, чем его вздох. Диксон только что вошла в комнату с чашкой чая для мисс Хейл и услышала последние слова мистера Хейла. Защищенная его присутствием от укоряющих глаз Маргарет, она осмелилась сказать:
– Моя бедная хозяйка!
– Ты же не думаешь, что ей стало хуже сегодня? – сказал мистер Хейл, торопливо поворачиваясь.
– Не могу сказать, сэр. Это не мне судить. Болезнь, кажется, больше задела душу, чем тело.
Мистер Хейл выглядел еще более подавленным.
– Тебе лучше отнести маме чай, пока он горячий, Диксон, – сказала Маргарет тихим, но властным тоном.
– Я приношу извинения, мисс! Я была занята размышлениями о моей бедной… о миссис Хейл.
– Папа! – сказала Маргарет, – эта неопределенность плоха для вас обоих. Конечно, мама должна через это пройти, мы не можем ничего поделать, – продолжала она мягче, – но теперь, по крайней мере, нам известен конечный пункт нашего пути. И я думаю, папа, что могу попросить маму помочь мне с подготовкой, если бы ты мне сказал, к чему готовиться. Она не выражала никаких пожеланий, она только думает, что ничего нельзя поделать. Мы направляемся прямо в Милтон? Ты снял там дом?
– Нет, – ответил он. – Я полагаю, мы должны снять комнаты и искать дом.
– И запаковать всю мебель, чтобы можно было оставить ее на станции, пока не найдем дом?
– Полагаю, что так. Делай, что считаешь нужным. Только помни, что у нас не так много денег, чтобы тратить их не считая.
Маргарет знала, что у них никогда не было лишних денег. Она почувствовала, будто на ее плечи внезапно навалилась огромная тяжесть. Четыре месяца назад все решения, которые ей нужно было принять, сводились к тому, какое платье надеть к обеду, или помочь Эдит набросать списки, кого с кем нужно посадить на званых обедах дома. И не нужно было вести домашнее хозяйство, чтобы принимать такие решения. Кроме одного важного обстоятельства, предложения капитана Леннокса, вся их жизнь шла заведенным порядком, словно безупречно отлаженный часовой механизм. Раз в год тетя и Эдит долго спорили, стоит ли им поехать на остров Уайт, за границу или в Шотландию. Но в те времена Маргарет и сама была уверена, что вернется без всяких усилий в тихую гавань родного дома. Теперь, с того самого дня, как приехал мистер Леннокс и поставил ее перед выбором, каждый день приносил какой-то вопрос, насущный для нее и для тех, кого она любила.
Мистер Хейл после чая поднялся к жене. Маргарет осталась одна в гостиной. Неожиданно она взяла свечу, поднялась в отцовский кабинет за большим атласом и, принеся его обратно в гостиную, начала сосредоточенно изучать карту Англии. Она выглядела радостной, когда ее отец спустился к ней.
– У меня есть хороший план. Послушай, в Даркшире, едва в ширине моего пальца от Милтона, находится Хестон. Я слышала от людей, живущих на севере, что это славный морской курорт. Как ты думаешь, может, нам отправить туда маму с Диксон, пока ты и я будем искать дом и подготовим его к ее приезду в Милтон? Она бы подышала морским воздухом, набралась бы сил к зиме, отдохнула бы, а Диксон с удовольствием позаботится о ней.
– Диксон едет с нами? – спросил мистер Хейл взволнованно.
– О да! – сказала Маргарет. – Диксон даже настаивает на этом, и я не представляю, как мама будет обходиться без нее.
– Но, боюсь, нам придется смириться с другим образом жизни. В городе все намного дороже. Я сомневаюсь, что Диксон будет чувствовать себя удобно. Сказать по правде, Маргарет, я иногда чувствую, будто эта женщина держится высокомерно.
– Так и есть, папа, – ответила Маргарет, – и если она будет вынуждена смириться с другим образом жизни, то мы будем вынуждены смириться с ее высокомерием, и еще не известно, что хуже. Но она действительно любит нас всех и будет несчастна, покинув нас, особенно при таких обстоятельствах. Поэтому, ради мамы и учитывая ее преданность, я думаю, она должна поехать.
– Очень хорошо, моя дорогая. Продолжай. Я сдаюсь. Как далеко Хестон от Милтона? Ширина твоего пальца не дает мне ясного представления о расстоянии.
– Я полагаю, миль тридцать, не так много!
– Дело не в расстоянии, а в… Не волнуйся! Если ты на самом деле думаешь, что маме там будет хорошо, пусть будет так.
Это был большой шаг вперед. Теперь Маргарет могла действовать и всерьез заняться подготовкой. И теперь миссис Хейл могла победить свою слабость и забыть страдания, с восторгом думая о поездке к морю. Она жалела лишь о том, что мистер Хейл не может остаться с ней на те две недели, которые ей предстоит там провести, как когда-то, когда они были помолвлены и она жила с сэром Джоном и леди Бересфорд в Торки[6].
Глава VI
Прощание
Теннисон
- Не видим мы ветвей шатер
- Или трепещущий бутон,
- Не любим бука темный тон
- И клена пламенный костер;
- Подсолнух, как ни горделив,
- Ничто не пробуждает в нас,
- Тюльпан цветет в урочный час —
- Нам дела нет, что он красив;
- Пока по тем же мы садам
- Все снова, снова не пройдем,
- И будут тропки с каждым днем
- Знакомей и любимей нам.
- Так пахарь борозду ведет,
- Все дальше направляя плуг;
- Так ширит память наша круг
- День ото дня, из года в год.
Наступил последний день. В доме было полно ящиков, которые увозили от парадного крыльца к ближайшей железнодорожной станции. Даже прелестная лужайка перед коттеджем выглядела неприглядной и неопрятной из-за соломы, которая вылетала через открытую дверь и окна. В комнатах раздавалось гулкое эхо, и непривычно яркий свет падал сквозь незашторенные окна, делая всю обстановку какой-то чужой и трудноузнаваемой. Гардеробная миссис Хейл до последнего момента оставалась нетронутой. Там хозяйка и Диксон упаковывали одежду, постоянно прерывая друг друга восклицаниями, перебирали с нежным сожалением забытые сокровища – подарки, сделанные руками детей, когда те были еще маленькими. Поэтому работа продвигалась очень медленно. Маргарет стояла внизу, спокойная и собранная, давая указания людям, нанятым в помощь кухарке и Шарлотте. Служанки все время плакали и удивлялись, как молодая леди может так бодро держаться. В конце концов они решили между собой, что она не успела полюбить Хелстон, так долго прожив в Лондоне. Маргарет была очень бледна и молчалива, но ее большие серьезные глаза замечали все вплоть до мельчайшей подробности. Служанки не могли понять, как болит ее сердце от тяжкой ноши, которую не могли ни снять, ни облегчить никакие вздохи. Все ее нервы были напряжены до предела, и лишь постоянная деятельность помогала ей удерживаться от слез. Ведь если бы она дала волю чувствам, кто бы тогда действовал? Ее отец проверял бумаги, книги, реестры и прочие документы в ризнице вместе с новым священником. Когда он приходил домой, ему нужно было упаковывать собственные книги, которые, кроме него, никто не мог уложить в нужном порядке. Кроме этого, разве Маргарет могла дать волю слезам перед незнакомцами или даже домашними – перед кухаркой и Шарлоттой?! Только не она! Но наконец четверо упаковщиков пошли на кухню выпить чаю, а Маргарет медленно прошла из коридора, где она, казалось, простояла целую вечность, через пустую гостиную, наполненную гулким эхом, в сумерки раннего ноябрьского вечера. Ночь уже опустила на землю тонкую завесу, затенявшую, но не скрывавшую предметы. Последние лучи заходящего солнца окрашивали их в лиловый цвет.
«Малиновка поет», – подумала Маргарет. Та самая малиновка, с которой так часто разговаривал ее отец, которая зимой жила у них в доме и для которой он собственными руками сделал что-то вроде клетки у окна кабинета. Листья были даже пестрее и ярче, чем несколько дней назад, но с первым морозом они опадут. Уже сейчас они то и дело срывались с ветвей, сверкая янтарем и золотом в косых лучах солнца.
Маргарет пошла по аллее под ветвями грушевых деревьев. Она не бывала здесь с тех пор, как гуляла вместе с Генри Ленноксом. Здесь, у клумбы тимьяна, он начал говорить, что хотел бы, чтобы она не так сильно любила Хелстон… Ее взгляд тогда остановился на поздно расцветшей розе, будто в ней она пыталась найти ответ. Потом Маргарет залюбовалась перистыми листьями моркови, рассеянно слушая его речь. Прошло всего две недели, а все так изменилось. Где он сейчас? Вернулся в Лондон, живет обычной жизнью, по давно заведенному порядку, обедает со старыми знакомыми на Харли-стрит или в компании веселых молодых друзей. А она бродит в сумерках по сырому и унылому саду, где листья опадают, вянут и превращаются в прах. Сейчас он, наверное, уже отложил свои юридические документы, вдоволь наработавшись за день, и прогуливается быстрым шагом по Темпл-Гарденз (он говорил, что часто там бывает), слышит неразборчивый шум – говор десятков тысяч деловых людей, невидимых, но находящихся где-то поблизости, и видит на поворотах проблески городских огней, будто всплывавших со дна реки. Он не раз рассказывал Маргарет об этих торопливых прогулках, совершаемых в перерывах между работой и ужином. Здесь же, в саду, было совсем тихо. Малиновка исчезла в безбрежной неподвижность ночи. Время от времени дверь какого-нибудь коттеджа открывалась и закрывалась, впуская уставшего работника в дом, но этот звук доносился издалека. Еле слышный, бросающий в дрожь хруст опавших листьев раздался в лесу за садом, но Маргарет показалось, что он прозвучал совсем рядом. Она знала – это был браконьер. Она много раз видела, сидя в темноте у окна спальни и любуясь торжественной красотой небес и земли, как браконьеры легко и бесшумно перепрыгивали через садовую изгородь, быстро перебегали влажную и залитую лунным светом лужайку и исчезали в черном неподвижном полумраке. Дикая, опасная свобода их жизни завладела ее воображением. Ей хотелось пожелать им успеха, она никогда не боялась их. Но сегодня Маргарет испугалась, сама не зная почему. Она услышала, как Шарлотта закрывает окна и запирает их на ночь, не догадываясь, что кто-то находится в саду. В ближней части леса послышался шум – это ветка упала: то ли оттого, что подгнило ее основание, то ли сломанная чьей-то рукой. Маргарет побежала, быстрая, как Камилла, прямо к окну и принялась нервно стучать, напугав Шарлотту.
– Впусти меня! Впусти меня! Это только я, Шарлотта!
Сердце Маргарет трепетало от страха, пока она не оказалась в безопасности в гостиной, где окна были закрыты на засов, а знакомые стены окружали и защищали ее. Маргарет села прямо на заколоченный ящик. В мрачной и неуютной комнате было холодно, не было ни огня, ни другого света, кроме пламени огарка свечи у Шарлотты. Шарлотта смотрела на Маргарет с удивлением, и Маргарет, не столько увидев, сколько почувствовав это, поднялась.
– Я испугалась, что ты оставишь меня на улице, Шарлотта, – произнесла она, едва заметно улыбнувшись. – И потом, ты никогда бы не услышала меня на кухне, а двери на дорожку к церковному двору давно закрыты.
– О мисс, я уверена, что скоро бы заметила ваше отсутствие. Работники хотели, чтобы вы сказали им, что делать дальше. И я отнесла чай в кабинет хозяина, потому что это самая подходящая комната для разговоров.
– Спасибо, Шарлотта. Ты добрая девушка. Мне будет жаль расстаться с тобой. Ты можешь написать мне, если тебе нужны будут мой совет или помощь. Я буду рада получить письмо из Хелстона, ты ведь знаешь. Как только у нас будет постоянный адрес, я тебе пришлю его.
Стол в кабинете был сервирован к чаю. Ярким пламенем горел огонь, а на столе стояли незажженные свечи. Маргарет села на ковер поближе к огню – ее платье пропиталось вечерней сыростью, к тому же ее знобило от переутомления. Обхватив колени руками, она склонила голову на грудь, позволив себе на минуту предаться отчаянию. Но, заслышав шаги отца, она встала, поспешно откинула назад густые черные волосы, утерла слезы, катившиеся по щекам, и пошла открывать ему дверь. Он выглядел еще более подавленным, чем дочь. Она вновь и вновь пыталась разговорить его ценою неимоверных усилий, с отчаянием думая, что больше не выдержит.
– Ты сегодня далеко ходил? – спросила она, заметив, что он ничего не ест.
– Далеко, до Фордхэм-Бичиз. Я ходил повидаться с вдовой Молтби, она очень жалела, что не может попрощаться с тобой. Она говорит, маленькая Сьюзан все смотрела на аллею последние дни… Маргарет, что случилось, дорогая?
Мысль о том, что маленький ребенок высматривал ее и так и не дождался не потому, что она забыла о Сьюзан, а потому, что не могла вырваться из дому, оказалась последней каплей горя для бедной Маргарет, и она разрыдалась так, будто ее сердце разрывалось. Мистер Хейл был огорчен и ошеломлен. Он поднялся и нервно заходил по комнате. Маргарет попыталась успокоиться, но не решалась заговорить, пока ее голос не обрел необходимую твердость. Она услышала, как отец разговаривает сам с собой:
– Я не вынесу этого. Я не могу видеть страдания других. Лучше бы мне было нести свой крест терпеливо и молча. Разве нельзя все вернуть назад?
– Нет, отец, – ответила Маргарет медленно и четко, глядя прямо на него. – Не нужно думать, что ты ошибся. Нам было бы намного хуже, если бы нам пришлось считать тебя лицемером. – Она понизила голос на последних словах, будто сама мысль о лицемерии отца отдавала непочтительностью.
– И вообще, – продолжила она, – я просто устала сегодня. Не думай, что я страдаю из-за того, что ты сделал, дорогой папа. Сегодня мы оба не будем говорить об этом, – сказала она, почувствовав, что опять готова разрыдаться. – Я лучше пойду и отнесу маме чашку чая. Она пила чай очень рано, когда я была слишком занята и не могла подняться к ней, думаю, она с удовольствием выпьет еще.
Время отправления поезда неумолимо приближало разлуку с прекрасным, любимым Хелстоном. Наступило следующее утро. Они уезжали. В последний раз они видели длинный приземистый дом, наполовину увитый китайской розой и пиракантусом. Теперь он казался еще уютнее, чем прежде, в лучах утреннего солнца, которое отражалось в окнах любимых комнат. Они уселись в экипаж, направлявшийся из Саутгемптона до железнодорожной станции, и уехали, чтобы больше не вернуться. С острой болью в сердце Маргарет старалась бросить последний взгляд на старую церковную башню, на миг мелькнувшую на повороте над волной зеленых деревьев. Мистер Хейл тоже вспомнил об этом, и она молча признала, что у него больше прав смотреть в окно, провожая глазами эту башню. Маргарет откинулась назад и закрыла глаза, слезы на мгновение повисли, сверкая, на темных ресницах, прежде чем незаметно скатиться по щекам.
Они остановились на ночь в Лондоне в каком-то скромном отеле. Бедная миссис Хейл проплакала в пути почти весь день, а Диксон выказывала свое сожаление, ворча и постоянно одергивая свои юбки якобы для того, чтобы защитить их от случайных прикосновений рассеянного мистера Хейла, которого она считала источником всех несчастий.
Они проходили по хорошо знакомым улицам, мимо домов, которые так часто посещали, мимо магазинов, в которых Маргарет слишком нетерпеливо, по мнению тети, ожидала, пока та примет какие-то важные решения. Утро казалось им бесконечно долгим, и они чувствовали, что давно пора отдохнуть, хотя на улицах Лондона царили обычное оживление и суматоха. Миссис Хейл давно не была в Лондоне, она пробудилась и, подобно ребенку, восхищалась витринами магазинов и экипажами.
– О, это магазин Харрисона, где я купила так много вещей к своей свадьбе. Боже! Как все изменилось! У них огромные зеркальные окна, больше, чем у Кроуфорда в Саутгемптоне. О, и там, скажу я вам… нет, это не… да, это… Маргарет, мы только что прошли мимо мистера Генри Леннокса. Интересно, куда он направляется?
Маргарет шагнула вперед и так же быстро отступила назад, улыбаясь такому своему движению. Находясь всего в сотне ярдов от них, мистер Леннокс казался ей отголоском Хелстона, он ассоциировался с солнечным утром, богатым событиями днем, ей захотелось увидеть его, не будучи замеченной им и не вступая в разговор.
Вечер, проведенный в гостиничной комнате, был длинным и тяжелым. Мистер Хейл пошел к книжную лавку и заодно хотел повидать кое-кого из друзей. Все люди, которых они встречали в отеле или на улице, торопились по каким-то своим делам, ожидали кого-то или спешили к кому-то, кто их ожидал. Лишь Хейлы казались чужаками, лишенными друзей, всеми покинутыми. Маргарет были хорошо знакомы несколько семей, живущих совсем рядом с отелем, там она и ее мать могли бы быть приняты ради самой Маргарет или ради ее тети Шоу, если бы они приехали поделиться радостью или просто узнать о новостях. Но сейчас, когда они привезли с собой в Лондон тревогу и боль, они вряд ли стали бы желанными гостями в домах хоть и добрых знакомых, но все же не друзей. Лондонская жизнь была слишком суматошной и полной, чтобы в ней нашлось место даже для часа глубокого молчания и сочувствия, которое показали друзья Иова, когда «они сидели с ним на земле семь дней и семь ночей, и никто не сказал ему ни слова, потому что они видели, сколь велика была его скорбь».
Глава VII
Новые места и новые лица
Мэтью Арнольд
- Туман заслоняет солнце,
- Закопченные карликовые дома
- Видим мы повсюду.
На следующий день примерно в двадцати милях от Милтона они пересели на маленькую железнодорожную ветку, ведущую в Хестон. В городке была только одна длинная и широкая улица, идущая параллельно побережью. Хестон так же отличался от маленьких курортных городков на юге Англии, как те от курортов на континенте. Используя шотландское выражение, все здесь было устроено «по-деловому». В повозках было больше деталей, сделанных из железа, в конской упряжи – меньше дерева и кожи, а люди на улицах, хоть и наслаждались отдыхом, выглядели озабоченными и поглощенными делами. В городе господствовали унылые цвета – более практичные, но не такие веселые и приятные. Даже батраки не носили здесь рабочих халатов, поскольку они стесняли движения и часто попадали в механизмы. На юге Англии лавочники в отсутствие покупателей отдыхали у дверей, наслаждаясь свежим воздухом и разглядывая прохожих. Здесь, если у них было свободное время, они сразу же находили себе занятие в магазине, хотя бы, как заметила Маргарет, бесцельно разворачивали и сворачивали ленты. Все эти отличия поразили воображение Маргарет, когда они с миссис Хейл отправились на следующее утро подыскивать временное жилье.
Две ночи, проведенные в гостинице, стоили дороже, чем ожидал мистер Хейл. Поэтому, когда им удалось снять чистую и светлую квартиру, Маргарет успокоилась – впервые за много дней. Комнаты были просторные, и было несколько уютных уголков, располагающих к мечтательности и покою. Отдаленное море, мерный плеск волн на песчаном берегу, крики носильщиков; непривычные люди и события – все это привлекало внимание Маргарет, но у нее не было сил, чтобы осознавать новые впечатления, и курортная жизнь мелькала мимо, словно цветные картинки. Они гуляли по пляжу, дышали морским воздухом, мягким и теплым на этом побережье даже в конце ноября. На горизонте море, утопавшее в легкой дымке, сливалось с нежными красками неба. Белый парус далекой лодки серебрился в неярком солнечном свете. Маргарет была готова день за днем наслаждаться грезами, которые подарило ей настоящее, не смея вспоминать о прошлом и не желая размышлять о будущем.
Но с будущим предстояло встретиться, каким бы суровым и жестоким оно ни оказалось. Однажды вечером было решено, что Маргарет с отцом должны отправиться на следующий день в Милтон, чтобы подыскать дом. Мистер Хейл получил несколько писем от мистера Белла и одно или два от мистера Торнтона и теперь хотел выяснить подробности своей будущей жизни в Милтоне, а это возможно было сделать только в личной беседе с мистером Торнтоном. Маргарет знала, что ехать необходимо, но сама мысль о промышленном городе внушала ей отвращение, и, видя, что на мать воздух Хестона оказывает благотворное воздействие, она весьма охотно отложила бы отъезд в Милтон.
За несколько миль до Милтона они увидели свинцовую тучу, нависшую над горизонтом. Она казалась особенно темной по контрасту с бледно-голубым зимним небом Хестона – на побережье уже начались утренние заморозки. Ближе к городу в воздухе ощущался слабый запах дыма, а может, так только казалось ей, привыкшей к запаху трав и деревьев. Вскоре они уже пробирались по длинным, прямым, безрадостным улицам, вдоль которых выстроились похожие друг на друга кирпичные домики. То здесь, то там, как курицы среди цыплят, возвышались громадные длинные фабрики со множеством окон, испускавшие черный «непарламентский» дым, что стекался в нависшую над городом тучу, которую Маргарет поначалу приняла за дождевую. На пути от станции к гостинице им приходилось постоянно останавливаться: громоздкие тяжелогрузные телеги запруживали недостаточно широкие улицы. Маргарет и раньше выезжала в город вместе с тетей. Но в Лондоне тяжелые громыхающие повозки использовались для разнообразных целей; здесь же каждый фургон, повозка или телега перевозили либо необработанный хлопок в мешках, либо хлопчатобумажную ткань в тюках. Улицы были многолюдны, большинство прохожих были хорошо одеты, соответственно своему достатку, но с неряшливой небрежностью, которая поразила Маргарет, привыкшую к хотя и потертому, поношенному, но все же щегольству работного люда в Лондоне.
– Нью-стрит, – сказал мистер Хейл. – Это, я полагаю, главная улица Милтона. Белл часто рассказывал мне о ней. Он говорил, что, когда несколько лет назад этот проулок превратился в оживленную улицу, его собственность сразу поднялась в цене. Фабрика мистера Торнтона должна быть где-то здесь, неподалеку, поскольку он – арендатор мистера Белла. Но мне кажется, он начинал с работы на складе.
– Где находится наша гостиница, папа?
– Полагаю, ближе к концу улицы. Что мы сделаем сначала – позавтракаем или осмотрим дома, которые отметили в «Милтон таймс»?
– Давай сначала посмотрим дома.
– Очень хорошо. Я только гляну, есть ли для меня письмо или записка от мистера Торнтона – он ведь обещал мне сообщить все, что узнает об этих домах, – и мы отправимся. Мы поедем в кебе – так мы не потеряемся и не опоздаем на сегодняшний поезд.
Писем для мистера Хейла не было. Они отправились на поиски дома. Тридцать фунтов в год – это все, что они могли предложить в качестве арендной платы, но в Хэмпшире за те же деньги можно было найти просторный дом с прелестным садом. Здесь даже скромная квартира с двумя гостиными и четырьмя спальнями оказалась им не по карману. Они осмотрели все дома из списка, но так и не смогли подобрать ничего подходящего. Отец и дочь с тревогой посмотрели друг на друга.
– Я думаю, нам стоит еще раз посмотреть второй дом. Тот, что в Крэмптоне, в пригороде. Где три гостиные. Помнишь, как мы смеялись над тем, что там при трех гостиных всего лишь три спальни? Но я уже все распланировала. Передняя комната внизу будет твоим кабинетом и нашей столовой (бедный папа!), поскольку мы решили, что для мамы нужно отвести самую лучшую гостиную. А та комната наверху, с ужасными голубыми и розовыми обоями и тяжелым карнизом, окнами выходит на прелестную равнину с излучиной реки или, может быть, канала. Я могла бы взять себе маленькую дальнюю спальню на втором этаже, над кухней, а вы с мамой – комнату за гостиной, а тот чулан под мансардой послужит вам прекрасной гардеробной.
– А Диксон и прислуга в помощь по хозяйству?
– О, подожди минуту. Я потрясена, обнаружив в себе талант к управлению. Диксон придется жить… Дай подумать… Позади гостиной. Я думаю, ей понравится – она так много ворчала по поводу лестниц в Хестоне. А у служанки будет та мансарда на чердаке над вашей с мамой спальней. Ну как?
– Смею сказать, да будет так. Но обои… Что за вкус! Обезобразить дом такими расцветками и такими тяжелыми карнизами!
– Не беспокойся, папа! Конечно, ты можешь уговорить хозяина поменять обои в одной или двух комнатах – в гостиной и вашей спальне, – поскольку мама будет проводить там много времени. А твои книжные полки скроют большую часть этих безвкусных обоев в кабинете.
– Ты думаешь, так будет лучше? Если так, мне лучше пойти и навестить этого мистера Донкина, чье имя упомянуто в объявлении. Я провожу тебя обратно в гостиницу, где ты сможешь заказать ланч и отдохнуть, а ко времени, когда все будет готово, я вернусь. Надеюсь, мы сможем заменить обои.
Маргарет тоже на это надеялась, хотя и ничего не сказала. Она никогда не сталкивалась с людьми, предпочитавшими безвкусные украшения строгости и простоте, которые сами по себе являются лучшим воплощением элегантности.
Отец проводил ее до входа в гостиницу и, оставив у лестницы, направился искать хозяина дома, который они присмотрели. Только Маргарет собралась войти в свою комнату, как услышала торопливые шаги посыльного.
– Прошу прощения, мэм. Джентльмен так быстро ушел, что у меня не было времени сообщить ему. Мистер Торнтон пришел сразу же после вашего ухода, и я передал ему, что вы вернетесь через час. Пять минут назад он пришел снова, сообщив, что подождет мистера Хейла. Сейчас он в вашей комнате, мэм.
– Спасибо. Мой отец скоро вернется, и вы сможете ему сообщить.
Маргарет открыла дверь и вошла, стройная, отважная и величавая, как обычно. Она не почувствовала неловкости – она успела привыкнуть к обществу в Лондоне. В комнате находился человек, пришедший по делу к ее отцу, и, так как он проявил любезность, она была расположена оказать ему в полной мере вежливый прием. Мистер Торнтон был намного больше удивлен и смущен, чем она. Вместо скромного священника средних лет вошла молодая девушка, она держалась смело и с достоинством, так отличавшим ее от женщин, с которыми ему до сих пор доводилось иметь дело. Ее одежда была простой: шляпка из лучшей соломки, украшенная белой лентой; темное шелковое платье без каких-либо украшений и оборок; большая индийская шаль, ниспадавшая с ее плеч длинными тяжелыми складками, словно мантия с плеч императрицы. Он не сразу понял, кто она такая, встретив прямой, невозмутимый взгляд и почувствовав, что его присутствие не произвело на нее особого впечатления и не вызвало удивления на прекрасном, цвета слоновой кости лице. Он слышал, что у мистера Хейла есть дочь, но думал, что речь идет о маленькой девочке.
– Мистер Торнтон, я полагаю! – сказала Маргарет после небольшой паузы, во время которой он так и не проронил ни слова от неожиданности. – Присаживайтесь. Мой отец проводил меня до дверей не более минуты назад, но, к сожалению, ему не сказали, что вы здесь, и он ушел по делам. Но он вернется почти тотчас же. Я сожалею, что вам пришлось прийти дважды.
Мистер Торнтон привык распоряжаться, но эта девушка, казалось, мгновенно приобрела над ним какую-то власть. До того как она появилась, он был сильно раздражен потерей драгоценного времени, но теперь покорно сел, подчиняясь ее просьбе.
– Вы знаете, куда направился мистер Хейл? Возможно, я смогу найти его.
– Он направился к мистеру Донкину на Кэньют-стрит. Это хозяин дома, который мой отец намерен снять в Крэмптоне.
Мистер Торнтон знал этот дом. Он видел объявление в газете и осмотрел помещения. Он обещал сделать для мистера Хейла все возможное – отчасти из-за рекомендации мистера Белла, отчасти потому, что ему был интересен священник, сложивший с себя сан по таким причинам, как мистер Хейл. Мистер Торнтон считал, что дом в Крэмптоне как раз то, что нужно. Но стоило ему увидеть Маргарет, с ее благородными манерами и внешностью, как он устыдился того, что подумал, будто дом с такой вульгарной обстановкой подойдет Хейлам.
Маргарет не могла изменить свою внешность, но красивый рисунок ее верхней губы, твердый подбородок, гордая посадка головы, движения, полные достоинства и одновременно женственной мягкости, всегда производили впечатление. Постороннему взгляду она казалась высокомерной даже сейчас, когда устала и мечтала об отдыхе. Но, конечно, она считала себя обязанной вести себя как настоящая леди с этим нежданным пришельцем, который выглядел не слишком элегантным, как и все прохожие на милтонских улицах. Ей хотелось, чтобы он ушел по своим явно неотложным делам, вместо того чтобы сидеть здесь и кратко и сухо отвечать на все ее замечания. Маргарет сняла шаль и повесила на спинку стула. Она села лицом к гостю, и Торнтон невольно обратил внимание на то, как прекрасно она сложена: округлая белая шея, покатые плечи, гибкая фигура. Когда она говорила, ее лицо не меняло своего холодного спокойного выражения, губы оставались надменно изогнутыми. Ее глаза с их мягкой темной глубиной смотрели на него спокойно и по-девичьи открыто. Он почти убедил себя, что она ему не нравится, еще до того, как закончился их разговор. Так он пытался утешить себя и подавить весьма неприятное чувство, что вот он смотрит на нее, едва сдерживая восхищение, а она взирает на него с гордым безразличием, считая его громоздким, неуклюжим провинциалом, лишенным изящества и утонченности, что, при всем своем раздражении, он готов был признать. Ее спокойную, холодноватую манеру он истолковал как надменность и, обиженный этим до глубины души, хотел уже встать и откланяться, чтобы больше не иметь ничего общего с этими Хейлами и их высокомерием.
Как только Маргарет исчерпала все темы для разговора, который решительно не ладился, вошел мистер Хейл. Он тут же учтиво и весьма любезно извинился, восстановив свое доброе имя и имя своей семьи во мнении мистера Торнтона.
Мистер Хейл и его гость заговорили о мистере Белле, и Маргарет, радуясь, что ей больше не надо принимать участия в разговоре, подошла к окну, пытаясь рассмотреть, что происходит на улице. Она была так поглощена своим занятием, что не услышала, что сказал ей отец, и ему пришлось повторить:
– Маргарет! Владелец дома упорствует – эти ужасные обои кажутся ему верхом совершенства, и я боюсь, мы будем вынуждены их оставить.
– О боже! Мне так жаль! – ответила она и начала прикидывать, не скрыть ли безобразные розы хотя бы своими рисунками, но вскоре отбросила эту идею, поскольку поняла, что от этого будет только хуже. Ее отец тем временем со своим сердечным деревенским гостеприимством настаивал, чтобы гость остался позавтракать с ними. Мистеру Торнтону это было совсем не ко времени, но все же он решил уступить, если Маргарет хотя бы словом или взглядом поддержит приглашение своего отца, и обрадовался, но в то же время рассердился на нее, когда она этого не сделала. Она попрощалась с ним вежливым наклоном головы, и он почувствовал себя неловким и застенчивым, чего с ним прежде не случалось.
– Ну, Маргарет, теперь быстро поедим. Ты заказала ланч?
– Нет, папа. Этот человек уже был здесь, когда я пришла, и у меня не было возможности передать заказ на кухню.
– Тогда мы должны просто что-нибудь перекусить. Боюсь, он долго ждал.
– Мне показалось, чрезвычайно долго. Я была как раз на последнем издыхании, когда ты пришел. Он совсем не поддерживал разговор, а лишь отвечал кратко и отрывисто.
– Но наверняка по существу. Я все же смею думать, что он толковый молодой человек. Он сказал (ты слышала?), что Крэмптон находится на песчаной почве и что это самое здоровое предместье Милтона.
Когда Маргарет и мистер Хейл вернулись в Хестон, им пришлось отчитываться перед миссис Хейл, приготовившей для них чай и множество вопросов.
– А как твой корреспондент, мистер Торнтон?
– Спроси Маргарет, – ответил ее муж. – Они довольно долго пытались беседовать, пока я вел переговоры с владельцем дома.
– О! Я вряд ли могу много о нем сказать, – лениво сказала Маргарет, слишком уставшая, чтобы тратить силы на описание. Затем, встряхнувшись, произнесла: – Это высокий, широкоплечий мужчина, около… сколько ему, папа?
– Я полагаю, около тридцати.
– Около тридцати… Не красавец, но и не урод, ничего замечательного… Не вполне джентльмен, как и следовало ожидать.
– Но и не грубый, не вульгарный, – добавил отец ревниво. Ему не нравилось, что дочь недооценивает его нового друга.
– О нет! – воскликнула Маргарет. – Он смотрит так решительно и властно, что какими бы ни были черты его лица, оно не может показаться пошлым или примитивным. Я бы не решилась торговаться с ним: он выглядит очень непреклонным. В общем, это человек, самой природой предназначенный для своего места, проницательный и сильный, прирожденный торговец.
– Не называй милтонских промышленников торговцами, Маргарет, – попросил ее отец. – Это разные вещи.
– Разные? Я применяю это слово ко всем, кто так или иначе связан с продажами, но, если ты считаешь, папа, что это неправильно, я не буду больше так говорить. Но, мама, к слову о грубости и пошлости: ты должна подготовиться, чтобы увидеть наши обои в гостиной. Розовые и голубые розы с желтыми листьями! И очень тяжелый карниз по всей комнате!
Но когда они переехали в свой новый дом в Милтоне, отвратительные обои были убраны. Владелец дома принял их благодарность весьма сдержанно и позволил им думать, если им так нравится, что он уступил их вежливым просьбам. Не было никакой особенной нужды сообщать им, что вся учтивость мистера Хейла не имела в Милтоне той власти, какой обладало краткое и резкое указание мистера Торнтона, богатого фабриканта.
Глава VIII
Ностальгия
- И это дом, дом, дом,
- Дом, где я буду жить.
Новые светлые обои немного примирили их с Милтоном. Но требовалось большее – то, чего они не могли себе позволить. Когда миссис Хейл въехала в новый дом, наступило время густых желтых туманов, застилавших долину и широкую излучину реки, прежде видимую из окна.
Маргарет и Диксон уже два дня распаковывали вещи и обустраивали комнаты, но в доме все еще царил беспорядок. А снаружи густой туман подкрадывался к окнам, к каждой открытой двери, норовя проникнуть внутрь удушливыми белесыми клочьями.
– О Маргарет! И вот здесь мы будем жить? – спросила миссис Хейл в полном смятении.
Унылый тон, которым был задан вопрос, болью отозвался в сердце Маргарет. Она едва заставила себя ответить:
– О, туманы в Лондоне иногда намного хуже!
– Но тогда ты знала, что ты – в Лондоне, а рядом твои друзья. Здесь же!.. Мы одиноки. О! Диксон, что за место!
– В самом деле, мэм, я уверена, оно кого хочешь доведет до могилы, едва ли кто выживет здесь! Мисс Хейл, для вас это слишком большая тяжесть.
– Совсем нет, Диксон, спасибо, – ответила Маргарет холодно. – Самое лучшее, что мы можем сделать для мамы, – подготовить ее комнату, чтобы она могла лечь спать, а я пойду и принесу ей кофе.
Мистер Хейл также был подавлен и нуждался в сочувствии дочери.
– Маргарет, я убежден, что это нездоровое место. Что, если твое или мамино здоровье пострадает? Жаль, что я не поехал в какой-нибудь сельский край в Уэльсе, здесь поистине ужасно, – сказал он, подходя к окну.
Но пути назад не было. Они обосновались в Милтоне, и надлежало стойко переносить капризы погоды. Более того, казалось, что и вся другая жизнь скрыта от них густым туманом обстоятельств. Только вчера мистер Хейл подсчитал, во сколько обошлись им переезд и две недели, проведенные в Хестоне, и обнаружил, что потратил почти все свои наличные деньги. Нет! Они уже здесь, здесь и должны остаться.
Ночью, когда Маргарет поняла это, она долго сидела в темноте, оцепенев от горя. Тяжелый, пахнущий дымом воздух витал в ее спальне, которая размещалась в задней пристройке дома. Окно комнаты выходило на стену такой же пристройки примерно в десяти футах. Эта стена едва проступала сквозь туман и казалась огромной, непреодолимой преградой между ними и надеждой. В спальне Маргарет царил беспорядок – все свои силы она потратила на обустройство комнаты матери. Маргарет присела на ящик и с болью в душе подумала о том, что ярлык, прикрепленный к нему, надписали еще в Хелстоне – прекрасном, любимом Хелстоне! Она глубоко задумалась и тут, к счастью, вспомнила, что получила письмо от Эдит, которое не успела прочитать до конца в суматохе утра. Эдит рассказывала об их прибытии на Корфу, о путешествии по Средиземному морю – о музыке и танцах на борту корабля. Веселая новая жизнь открывалась перед юной миссис Леннокс. У нее был дом с балконом, выходящим на белые утесы и глубокое синее море.
Эдит писала легко и красиво, создавая на бумаге яркие образы и живые картины. Она не только выделяла характерные особенности пейзажа, но и подмечала множество всевозможных подробностей, предоставив Маргарет воображать виллу, снятую капитаном Ленноксом на паях с другой молодой парой, расположенную среди живописных крутых скал, высоко над морем. В последние дни этого года они, казалось, только и делали, что плавали на лодках и устраивали пикники на берегу, и вся жизнь Эдит проходила на свежем воздухе, в удовольствии и радости, подобно высокому голубому небу, безоблачному и чистому. Ее муж обязан был руководить строевой подготовкой, а она, как самая музыкальная из жен офицеров, по просьбе капельмейстера должна была переписывать последние новинки английской музыки – и это составляло их самые суровые и тяжелые обязанности. Эдит выразила робкую надежду на то, что, если и в следующем году полк останется на Корфу, Маргарет сможет к ней приехать и погостить подольше. Она спрашивала Маргарет, помнит ли та день год назад, о котором Эдит уже писала ей, – как весь день лил дождь, и как она не хотела надевать свое новое платье, чтобы пойти на этот глупый ужин, и как промочила и забрызгала подол, пока они ехали в экипаже, и как в том доме они впервые встретились с капитаном Ленноксом.
Да! Маргарет хорошо помнила тот день. Эдит и миссис Шоу поехали на ужин. Маргарет присоединилась к ним позднее вечером. Роскошный прием, дорогая и красивая мебель, огромный дом, тихая и спокойная непринужденность гостей – все эти воспоминания живо пронеслись перед ней по контрасту с нынешними обстоятельствами, и она со вздохом вернулась в настоящее. Спокойное течение прежней жизни пропало бесследно. Привычные застолья, визиты, покупки, танцевальные вечера – все ушло, ушло навсегда. Эдит и тети Шоу тоже больше не было в Лондоне; конечно же, о ней там и некому было вспоминать. Она не сомневалась, что никто из ее прошлого окружения не думает о ней, кроме Генри Леннокса. Да и он, как считала Маргарет, тоже постарается поскорее забыть ее из-за боли, которую она ему причинила. Она слышала, как он часто с гордостью говорил о своей силе воли, благодаря которой он был способен заставить себя выкинуть из головы досадные мысли. Потом она представила, как все могло бы случиться. Если бы она полюбила его и приняла его предложение, то перемена взглядов отца и изменение его положения в обществе были бы с нетерпимостью восприняты мистером Ленноксом. С одной стороны, для нее это оказалось бы горьким разочарованием, но она смогла бы его перенести, поскольку знала, что намерения отца чисты, и это придало бы ей силы примириться с его ошибками, хотя, возможно, она и говорила бы о них с осуждением. Но светские толки о странном поступке мистера Хейла угнетали и раздражали бы мистера Леннокса. Как только Маргарет поняла, как все могло бы быть, она почувствовала благодарность за то, что ничего этого не произошло. Сейчас они опустились ниже некуда, и хуже уже не могло быть. Когда пришли письма от Эдит и тети Шоу, вся семья храбро восприняла их удивление и смятение. Маргарет поднялась и начала медленно раздеваться, чувствуя наслаждение оттого, что может позволить себе не торопиться после такого суматошного дня, хотя было уже поздно. Она уснула, надеясь, что новый день принесет просвет либо в погоде, либо в обстоятельствах. Но если бы Маргарет знала, сколько времени пройдет, прежде чем появится просвет, она бы пала духом. Время года было неблагоприятным как для здоровья, так и для оптимизма. Ее мать сильно простудилась, и Диксон было явно не по себе, хотя она воспринимала любую попытку Маргарет помочь ей как оскорбление. Они не смогли найти служанку в помощь Диксон – в Милтоне все работали на фабриках. Тех же, которые обращались к ним, Диксон распекала за то, что они посмели думать, будто им можно доверить работу в доме джентльмена. Поэтому Хейлам пришлось довольствоваться приходящей уборщицей. Маргарет хотела было послать за Шарлоттой, но сейчас им было не по средствам держать такую хорошую служанку, да и до Хелстона было слишком далеко.
Мистер Хейл встретился с несколькими учениками, рекомендованными ему мистером Беллом и мистером Торнтоном. По большей части ученики были в том возрасте, когда мальчики еще учатся в школе. Но согласно общепринятым в Милтоне взглядам, сделать из парня хорошего торговца можно, лишь с молодых лет приучая его к работе на фабрике, в конторе или на складе. Если отправить его хотя бы в какой-нибудь шотландский университет, он вернется непригодным к коммерции. Еще менее годились Оксфорд и Кембридж, к тому же туда не принимали до восемнадцати лет. Поэтому многие промышленники подыскивали своим сыновьям должности в коммерческих предприятиях в самом восприимчивом возрасте, в четырнадцать-пятнадцать лет, беспощадно отрезая все пути для дальнейшего образования в области литературы или других изящных искусств, дабы направить все их помыслы и энергию в русло коммерции. Но все же находились умные родители и молодые люди, у которых было достаточно здравого смысла, чтобы осознать свои собственные недостатки и попытаться исправить их. Среди них было несколько мужчин в расцвете лет, которые решительно признавали собственное невежество и намеревались освоить то, что им следовало освоить гораздо раньше. Мистер Торнтон был, возможно, самым старшим учеником мистера Хейла. И несомненно, самым любимым. У мистера Хейла вошло в привычку цитировать его мнения так часто и с таким уважением, что это превратилось в милую домашнюю шутку – гадать, сколько времени от урока уходит у них на занятия, а сколько – на разговоры.
Маргарет всячески поддерживала это легкое, шутливое отношение к знакомству отца с мистером Торнтоном, потому что чувствовала, что миссис Хейл слегка ревнует мужа к его новому другу. Пока его время в Хелстоне было занято исключительно книгами и прихожанами, мать мало заботило, много ли она с ним видится или нет. Но теперь, когда он с нетерпением ожидал занятий с мистером Торнтоном, она, казалось, была уязвлена и обеспокоена, что он впервые пренебрегает ее обществом. Чрезмерные похвалы мистера Хейла, как это нередко бывает, производили на слушателей обратный эффект: они не склонны были верить в беспристрастную справедливость этого Аристида[7].
Прожив более двадцати лет в деревенском приходе, мистер Хейл был ослеплен той грандиозной энергией, которая била в Милтоне через край, с легкостью преодолевая бесчисленные трудности. Власть машин и мужчин в этом городе произвела на него сильнейшее впечатление, и он поддался этому чувству, не задумываясь о деталях. Но Маргарет мало бывала за пределами дома и не знала, сколь сильно машины и люди, связанные с ними, влияют на общество, зато, как это порой случается, близко познакомилась с двумя-тремя из жертв, неизбежных при таком порядке вещей. Всегда следует задаваться вопросом, все ли сделано для того, чтобы уменьшить страдания тех, кому суждено страдать. Или триумфаторы растопчут беспомощных, вместо того чтобы просто увести их в сторону с дороги победителя, к которому они не сумели присоединиться?
Маргарет пыталась найти служанку в помощь Диксон. Однако представления Диксон о служанках были основаны на воспоминаниях об опрятных ученицах хелстонской школы, которые гордились тем, что им позволили прийти в пасторский дом в будние дни, относились к миссис Диксон со всем уважением и трепетали перед мистером и миссис Хейл. Диксон не требовала этой трепетной почтительности по отношению к себе, но и не возражала, если благоговение, с которым девочки относились к семье пастора, распространялось и на нее. Их почтительное отношение льстило ей, как Людовику XIV льстило, когда его придворные прикрывали глаза от слепящего света, будто бы исходящего от него. Но ничто, кроме преданной любви к миссис Хейл, не могло заставить Диксон примириться с грубыми и распущенными манерами милтонских девушек, искавших место служанки, когда она выясняла наличие у них должного опыта. Они заходили так далеко, что осмеливались сами задавать вопросы, сомневаясь в платежеспособности семейства, которое снимало дом за тридцать фунтов в год, да при этом еще важничало и держало двух служанок, одна из которых была очень сердитая и властная. Мистер Хейл был теперь не викарием прихода Хелстона, а всего лишь человеком, который мог (или не мог) потратить определенную сумму. Маргарет утомляли и раздражали придирки Диксон по отношению к этим претенденткам на должность служанки, которыми та постоянно изводила миссис Хейл. Конечно же, Маргарет отталкивали грубые манеры этих людей; она избегала с брезгливой гордостью их панибратского обращения и возмущалась их нескрываемым любопытством к состоянию и положению любой семьи в Милтоне, не занятой в торговле. Но Маргарет предпочитала держать все свои впечатления от их наглости при себе; наконец она решила взять на себя поиски прислуги хотя бы для того, чтобы оградить мать от подробных рассказов обо всех разочарованиях и явных или вымышленных оскорблениях.
Маргарет обращалась и к мясникам, и к бакалейщикам в поисках единственной в своем роде девушки, однако ее надежды и ожидания таяли с каждой неделей, поскольку в промышленном городе было трудно найти кого-нибудь, кто бы отказался от большего заработка и большей независимости на фабрике. Для Маргарет выходы в такой суматошный и деловой город оказались немалым испытанием. Миссис Шоу, заботясь о приличиях и не позволяя девушкам вести себя слишком независимо, всегда настаивала на том, чтобы лакей сопровождал Эдит и Маргарет, если они выходили за пределы Харли-стрит и даже если навещали соседей. Маргарет молча роптала на эти ограничения и оттого особенно наслаждалась одинокими прогулками по лесу и полям Хелстона. Она ходила быстрым шагом, иногда почти бегом, если должна была спешить, или ступала совсем бесшумно, вслушиваясь в лесные голоса или наблюдая за птицами, которые пели в листве деревьев или поглядывали своими блестящими живыми глазками из-под низкого кустарника или спутанного дрока. Для нее было испытанием перейти от таких вольных прогулок, когда движение и покой сменяли друг друга, повинуясь лишь ее собственной воле, к размеренной и осторожной походке, которая приличествовала девушке на городских улицах. Она бы посмеялась над собой, подумав о такой перемене, если бы ее не занимали более серьезные мысли.
Часть города, в которой располагался Крэмптон, была особенно оживленной из-за потока рабочих. На окраинах было расположено много фабрик, которые два-три раза в день пропускали толпы мужчин и женщин. До тех пор пока Маргарет не изучила этот распорядок, она постоянно сталкивалась с ними. Они шли стремительно, их лица были бесстрашными и самоуверенными, смех – громким, остроты – язвительными, особенно по отношению к тем, кто стоял выше их по рангу или общественному положению. Звуки их несдержанных голосов и пренебрежение правилами вежливости поначалу немного пугали Маргарет. Девушки бесцеремонно, хотя и беззлобно обсуждали ее одежду, даже дотрагивались до шали или платья, чтобы определить материал. Иногда они даже задавали вопросы о какой-нибудь вещи, заинтересовавшей их. Они были так уверены в том, что ей как женщине близок их интерес к ее одежде, что она охотно отвечала на их вопросы и слегка улыбалась в ответ на замечания. Маргарет не боялась, встречая ватаги девушек, говорящих громко и возбужденно. Гораздо больше беспокоили ее мужчины, которые то и дело отпускали дерзкие замечания ей вслед уже не по поводу одежды, а по поводу ее внешности. Она, до сих пор считавшая, что даже самое утонченное замечание такого рода являлось дерзостью, вынуждена была терпеть открытое восхищение этих непосредственных людей. Но сама их непосредственность свидетельствовала об отсутствии у них намерений причинить ей вред или оскорбить, и Маргарет поняла бы это, если бы была меньше напугана беспорядочными выкриками. Страх заставлял ее сердиться, ее лицо краснело, а темные глаза вспыхивали, когда она слышала некоторые их замечания. И все же, когда она оказывалась дома и в безопасности и припоминала их слова, они скорее забавляли ее, чем сердили.
Например, однажды, когда она проходила мимо большой компании мужчин, вслед ей понеслись сомнительные комплименты и не слишком оригинальные предложения стать «зазнобой», а один из них добавил: «Мордашка у тебя, сестренка, такая миленькая, что и день от нее светлеет». В другой раз, когда она неосознанно улыбалась каким-то своим мыслям, бедно одетый пожилой рабочий сказал, обращаясь к ней: «Улыбайся сколько хочешь, дочка, с таким-то славным личиком грех не улыбнуться». Этот человек выглядел настолько измученным и озабоченным, что Маргарет не могла не улыбнуться ему в ответ, с радостью осознавая, что ее облик способен вызывать приятные мысли. Он, очевидно, прочитал понимание в ее взгляде, и отныне они приветствовали друг друга улыбками всякий раз, когда их пути случайно пересекались. Однако в разговор они не вступали. Они больше не обменялись ни единым словом, но все же Маргарет посматривала на этого человека с большим интересом. Иногда, в воскресный день, она видела его с девушкой, скорее всего дочерью, еще более болезненного вида, чем он сам.
Однажды Маргарет с отцом прогуливались в полях за городом. Была ранняя весна, и Маргарет собрала дикие фиалки и чистотел, вспоминая с невыразимой грустью о щедром изобилии юга. Мистер Хейл покинул ее, отправившись в Милтон по каким-то делам, и по дороге домой она встретила своих скромных друзей. Девушка тоскливо взглянула на цветы, и Маргарет, повинуясь внезапному порыву, протянула их ей. Светло-голубые глаза девушки заблестели, когда она взяла цветы, и отец заговорил вместо нее:
– Спасибо вам, мисс. Бесси будет теперь частенько думать о цветах. Это она будет о них думать, а я вот буду думать о вашей доброте. Вы, сдается мне, не из этих мест?
– Нет, – ответила Маргарет с невольным вздохом. – Я приехала с юга, то есть из Хэмпшира, – продолжила она, боясь, что он может не понять ее и решить, что она потешается над его невежеством.
– Это ведь за Лондоном, так вроде? А я из Бернли-Вэйз – это сорок миль на север. Ишь как получается, Север и Юг встретились и вроде бы даже стали добрыми друзьями в этом большом и дымном городе.
Маргарет замедлила шаг, чтобы идти рядом с ним, а он шел не торопясь, чтобы не утомить дочь. Маргарет заговорила с девушкой, и в ее голосе невольно прозвучали жалость и нежность, тронувшие сердце отца.
– Боюсь, вы не очень хорошо себя чувствуете.
– Нет, – ответила девушка, – и никогда тому не бывать.
– Скоро весна, – сказала Маргарет, надеясь разогнать печаль, владевшую собеседницей.
– Ни весна, ни лето не принесут мне облегчения, – отозвалась девушка тихо.
Маргарет взглянула на мужчину, словно ожидая от него возражений, ей казалось, он не должен позволять дочери говорить о себе с такой безнадежностью. Но вместо этого он сказал лишь:
– Боюсь, она говорит правду. Боюсь, она совсем зачахла.
– Там, где я скоро буду, всегда будет весна, и цветы, и много блестящих одежд.
– Бедный ягненочек, бедный ягненочек! – пробормотал ее отец еле слышно. – Так оно и будет, и ты наконец-то отдохнешь, бедняжка, бедняжка. Бедный отец! Сдается мне, это случится совсем скоро.
Его слова удивили Маргарет, однако не вызвали отвращения – она лишь сильнее посочувствовала отцу и дочери.
– Где вы живете? Я думаю, что мы, должно быть, соседи, если мы так часто встречаемся на этой дороге.
– Мы устроились на Фрэнсис-стрит, девять, второй поворот налево, как пройдете «Золотой дракон».
– А ваше имя? Я постараюсь не забыть его.
– Мне стыдиться нечего. Меня зовут Николас Хиггинс, а ее – Бесси Хиггинс. Почему вы спрашиваете?
Маргарет удивил последний вопрос, ведь в Хелстоне было в порядке вещей, что, спрашивая у собеседника имя и адрес, она собирается навестить его и при необходимости помочь в его нуждах.
– Я думала… Я хотела прийти и навестить вас. – Она внезапно оробела, осознав, что напрашивается в гости к незнакомцу, который, видимо, не желал этого.
Судя по выражению его лица, мужчина нашел это предложение бесцеремонным.
– Мне не нравится, когда чужие приходят в мой дом, – сказал он резко, но потом смягчился, увидев, как она покраснела от смущения, и добавил: – Вы нездешняя, любой скажет, и, может быть, мало кого здесь знаете, и вы подарили моей девочке цветы из своих рук… Вы можете прийти, если хотите.
Маргарет немного удивил и даже уязвил его ответ. Она не была уверена, пойдет ли к ним, если ее приглашают, словно делая ей одолжение. Но когда они подошли к повороту на Фрэнсис-стрит, девушка обернулась к ней и сказала:
– Вы ведь и вправду не забудете навестить нас?
– Вот, вот, все так и будет, – произнес ее отец нетерпеливо, – она придет. Она сейчас немного сердится и думает, что я мог бы быть повежливее. Но она еще подумает хорошенько и придет. Я читаю ее хорошенькое, гордое личико, словно книгу. Пойдем, Бесси, слышишь, звонит колокол на фабрике.
Маргарет шла домой, думая о своих новых друзьях и с улыбкой вспоминая о проницательности человека, который так легко разгадал ее мысли. С этого дня Милтон перестал быть для нее мрачным и безотрадным местом. Не весна и не время примирили ее с этим городом – это сделали люди.
Глава IX
Переодеться к чаю
Миссис Барбо
- Пусть земля Китая, раскрашенная ярко,
- Очерченная золотом и пестрая от голубых вен,
- От аромата индийского листа
- Иль загорелых зерен мокко радость получает.
На следующий день после знакомства Маргарет с Хиггинсами мистер Хейл поднялся в маленькую гостиную в неурочный час. Он подходил то к одной вещи в комнате, то к другой, словно изучая их, но Маргарет видела, что это была просто уловка, способ отложить то, что он желал, но боялся сказать. Наконец он произнес:
– Моя дорогая! Я пригласил мистера Торнтона сегодня на чай.
Миссис Хейл сидела откинувшись на спинку стула, с закрытыми глазами и с выражением страдания на лице, что стало привычным для нее в последнее время. Но слова мужа мгновенно пробудили ее.
– Мистер Торнтон! И сегодня вечером! Для чего этому человеку понадобилось приходить сюда? Диксон стирает мои платья и кружева, а вода сейчас совсем жесткая из-за этих ужасных восточных ветров, которые, я полагаю, дуют в Милтоне круглый год.
– Ветер меняет направление, моя дорогая, – сказал мистер Хейл, поглядывая на дым, который как раз несло с востока, – правда, он не разбирался в сторонах света и определял их произвольно, сообразно обстоятельствам.
– О чем ты говоришь! – сказала миссис Хейл, дрожа и еще плотнее заворачиваясь в шаль. – В любом случае, дуй восточный или западный ветер, этот человек все равно придет.
– О мама, ты просто никогда не видела мистера Торнтона. Он выглядит как человек, которому нравится бороться со всеми трудностями, что встречаются у него на пути, – врагами, ветрами или обстоятельствами. Чем сильнее будут дождь и ветер, тем вероятнее, что он придет к нам. Но я пойду и помогу Диксон. Я научилась отлично крахмалить. Мистера Торнтона развлекать не понадобится, ведь он придет только для того, чтобы побеседовать с папой. Но, папа, я в самом деле очень хочу увидеть того Пифиаса, который сделал из тебя Дамона[8]. Ты знаешь, я его видела только один раз, и мы оба были так озабочены тем, что сказать друг другу, что не особенно преуспели в разговоре.
– Я не думаю, что он когда-нибудь тебе понравится или ты изменишь о нем свое мнение, Маргарет. Он не дамский угодник.
Маргарет презрительно усмехнулась:
– Я не особенно восхищаюсь дамскими угодниками, папа. Но мистер Торнтон придет сюда как твой друг, как один из тех, кто оценил тебя по достоинству…
– Единственный человек в Милтоне, который оценил меня, – поправил мистер Хейл.
– Поэтому мы окажем ему гостеприимство и угостим кокосовыми пирожными. Диксон будет польщена, если мы попросим ее приготовить несколько штук. А я отглажу твои чепцы, мама.
Не раз за это утро Маргарет хотелось, чтобы мистер Торнтон не приходил. Она планировала для себя другие занятия: написать письмо Эдит, прочитать несколько страниц из Данте, навестить Хиггинсов. Но вместо этого она утюжила, слушая причитания Диксон, и только надеялась, что, выказав сочувствие, она сможет помешать Диксон излить свои жалобы перед миссис Хейл. Время от времени Маргарет, чтобы подавить раздражение из-за накатившей на нее усталости – предвестника головной боли, которая в последнее время частенько донимала ее, приходилось напоминать себе, что ее отец уважает мистера Торнтона. Маргарет едва могла говорить, когда наконец упала в кресло и объявила своей матери, что теперь она больше не Пегги-прачка, а Маргарет Хейл, леди. Ей хотелось немного пошутить, но миссис Хейл восприняла шутку всерьез, и Маргарет рассердилась на свой несдержанный язык.
– Да! Если бы кто-нибудь сказал мне, когда я была мисс Бересфорд, одной из первых красавиц графства, что мое дитя простоит полдня в маленькой тесной кухне, работая, как служанка, и все ради того, чтобы мы могли оказать достойный прием торговцу, а этот торговец, должно быть, единственный…
– О мама! – произнесла Маргарет, вставая. – Не наказывай меня так жестоко за мою несдержанность. Я не возражаю против глажения или какой-то другой работы ради тебя и папы. Я рождена и воспитана как леди и останусь ею, даже если придется скоблить пол и мыть тарелки. Сейчас я немного устала, но через полчаса я приду в себя, готовая ко всему. А что касается торговли, то почему бы бедняге мистеру Торнтону не быть торговцем? Вряд ли с его образованием он сможет заниматься чем-то другим. – Маргарет медленно поднялась и пошла в свою комнату, поскольку ей явно требовалась передышка.
В доме мистера Торнтона в это же самое время состоялся очень похожий разговор. Крупная дама, намного старше среднего возраста, занималась рукоделием в мрачно, но достойно обставленной столовой. Черты ее лица, как и фигура, были скорее крупными и резкими, чем тяжелыми. В них не было ничего особенного, но те, кто однажды посмотрел на нее, обычно навсегда запоминали эту крепкую, суровую, величественную женщину, которая никогда не уступала дорогу из вежливости и никогда не останавливалась на своем пути к цели.
Она была одета в плотное черное шелковое платье и штопала огромную скатерть прекрасной работы, держа ее против света, чтобы обнаружить вытертые места. В комнате не было книг, кроме «Комментариев к Библии» Мэтью Генри, шесть томов которой лежали в центре массивного буфета, строго между чайником и лампой. Из дальней комнаты раздавались звуки пианино. Кто-то разучивал легкую пьесу, играя очень быстро. Каждая третья нота звучала неотчетливо или полностью пропускалась, а в конце прозвучали громкие аккорды, половина из которых была сыграна фальшиво, но к полному удовольствию пианиста. Миссис Торнтон услышала за дверью столовой шаги, такие же решительные, как и ее собственные.
– Джон, это ты?
Ее сын открыл дверь и остановился на пороге.
– Почему ты пришел так рано? Я думала, ты собираешься пить чай с другом мистера Белла, этим мистером Хейлом.
– Так и есть, мама, я просто зашел переодеться.
– Переодеться! Хм! Когда я была девочкой, молодые мужчины не меняли сюртуков перед тем, как выпить чаю. Почему ты должен переодеваться ради того, чтобы выпить чаю в компании старого пастора?
– Мистер Хейл – джентльмен, а его жена и дочь – леди.
– Жена и дочь! Они тоже учительницы? Чем они занимаются? Ты никогда не говорил о них.
– Нет, мама, потому что я никогда не видел миссис Хейл. А мисс Хейл я видел только полчаса.
– Берегись, Джон, как бы тебя не поймала девушка без гроша за душой.
– Меня нелегко поймать, мама, я думаю, ты знаешь. Но я не хотел бы говорить о мисс Хейл в таком тоне. Я никогда еще не встречал ни одной молодой леди, которая попыталась бы поймать меня. Наверное, они сразу чувствуют, что это безнадежное дело.
Миссис Торнтон была не из тех, кто легко уступает, даже собственному сыну. Да и материнская гордость заставляла ее спорить с ним.
– Ну, я только говорю, берегись. Возможно, наши милтонские девушки достаточно рассудительны и доброжелательны, чтобы не ловить себе мужей, но эта мисс Хейл происходит из аристократических кругов, где, если слухи правдивы, богатые мужья считаются желанной добычей.
Мистер Торнтон нахмурился и подошел ближе к креслу своей матери.
– Мама, – сказал он с короткой усмешкой, – ты заставляешь меня признаться. Единственный раз, когда я видел мисс Хейл, она обращалась со мной любезно, но едва ли не презрительно. Она держалась так надменно, будто она королева, а я – ее скромный и не слишком опрятный слуга. Не беспокойся, мама.
– Я не беспокоюсь, но я и не удовлетворена. Какое право она, дочь какого-то бывшего викария, имеет воротить свой нос от тебя! Я бы ни для кого из них не стала переодеваться… Наглая семейка!.. Да я бы на твоем месте…
Уже выходя из комнаты, Джон сказал:
– Мистер Хейл – добропорядочный, благородный и ученый. Он вовсе не наглый. Что касается миссис Хейл, я тебе расскажу, какая она, если ты захочешь послушать, – и с этими словами закрыл дверь.
Миссис Торнтон пробормотала:
– Презирать моего сына! Относиться к нему как к прислуге! Хм! Хотела бы я знать, где она найдет другого такого. Мой сын – настоящий мужчина, и у него самое благородное, отважное сердце, которое я когда-либо знала. И не важно, что я его мать. Я вижу, что есть что, я не слепая. Я знаю, что собой представляет Фанни и кто такой Джон. Презирать его?! Ненавижу ее!
Глава X
Закаленное железо и золото
Мы все – деревья, и ветер лишь
делает нас крепче и сильнее.
Джордж Герберт
Мистер Торнтон покинул дом, не заходя в гостиную. Он сильно опаздывал и торопился в Крэмптон. Он беспокоился, что недостаток пунктуальности может быть воспринят как пренебрежительное отношение к новому другу. Ему хотелось быть пунктуальным, хотелось показать, как он уважает своего нового друга. Церковные часы пробили половину восьмого, а он уже стоял у дверей, вслушиваясь в шаги Диксон, всегда нарочито медлительные, когда ей приходилось унижать себя, открывая дверь. Мистера Торнтона проводили в маленькую гостиную, где его сердечно приветствовал мистер Хейл. Он представил гостя своей жене, миссис Хейл пробормотала еле слышно несколько слов, впрочем, она была так бледна и так куталась в шаль, что мистер Торнтон тут же простил ей ее холодность.
Маргарет зажгла лампу, и в центре полутемной комнаты образовался островок теплого золотистого света. Окна были зашторены, как это принято в сельских домах, и ночная тьма осталась снаружи, за стеклами. Мистер Торнтон не мог не сравнивать мысленно эту комнату с той, которую только что покинул. Столовая в его доме была обставлена красивой и дорогой, хотя и несколько громоздкой мебелью, но ни одна деталь в ее обстановке не выдавала присутствия женщин в доме, кроме разве что кресла у окна, где обычно восседала его мать. Конечно, его мать устроила все в доме по своему вкусу, и он был вполне доволен обстановкой, столовая соответствовала своему предназначению – там можно было и перекусить на скорую руку, и угостить друзей, и дать роскошный обед, а эта маленькая гостиная была обставлена весьма скромно, и все же… все же она была в два., нет, в двадцать раз прекрасней, чем любая комната в доме Торнтонов, и намного удобнее. Здесь не было ни зеркал, ни позолоты, ни даже кусочка стекла, отражающего свет, сверкающего, как вода в солнечный день. Однотонные обои теплых тонов, ситцевые шторы, привезенные из Хелстона, в тон которым была подобрана обивка стульев. Небольшой столик с секретером у окна напротив двери, на противоположной стороне – этажерка с высокой белой китайской вазой, из которой свисали ветки английского плюща, бледно-зеленой березы и медного цвета листья бука. Прелестные корзинки для рукоделия стояли у кресел, на столе, в совершенном беспорядке, лежало несколько книг, как будто их только что сюда положили. За приоткрытой дверью можно было увидеть другой стол, накрытый к чаю белой скатертью, на ней красовались вазочка с кокосовыми пирожными и корзина, наполненная апельсинами и румяными американскими яблоками на подстилке из зеленых листьев.
Мистеру Торнтону стало ясно, что все эти милые мелочи были привычны в их семье, и он подумал, что к ним, несомненно, приложила руку Маргарет. Она стояла возле чайного столика в бледно-розовом муслиновом платье, не пытаясь вступить в разговор, занятая исключительно приготовлением чая, и ее гладкие, цвета слоновой кости руки двигались меж белых чашек красиво, бесшумно и грациозно. На одной руке был браслет, который постоянно падал на тонкое запястье. Мистер Торнтон наблюдал за перемещениями этого беспокойного украшения с большим вниманием и почти не слушал ее отца. Казалось, будто его заворожило то, как она нетерпеливо поправляла браслет, как он туго охватывал ее нежную руку, а затем, ослабев, снова сползал. Мистер Торнтон готов был воскликнуть: «Он снова падает!» Он почти пожалел, когда его пригласили к столу, помешав наблюдать за Маргарет. Она подала ему чашку, храня на лице гордое и неприступное выражение, но как только его чашка опустела, она тут же заметила это и снова наполнила ее. Ему очень хотелось попросить ее сделать для него то, что она сделала для своего отца, который захватил ее мизинец и большой палец своей крупной рукой и действовал ими как щипчиками для сахара. Мистер Торнтон видел ее прекрасные глаза, поднятые на отца, полные света, смеха и любви, и почувствовал, что эта маленькая пантомима предназначена лишь для двоих, которым казалось, что никто их не замечает. Маргарет была бледна и молчалива – у нее все еще болела голова. Но она была готова заговорить, если в беседе возникнет длинная неловкая пауза, чтобы у гостя – друга и ученика ее отца – не было повода подумать, что им пренебрегают. Но разговор продолжался, и после того, как чайные приборы были убраны, Маргарет пересела со своим шитьем поближе к матери. Она почувствовала, что теперь может предаться своим собственным мыслям, не боясь, что ей придется заполнять паузу в разговоре.
Мистер Торнтон и мистер Хейл были поглощены беседой, которую начали при своей последней встрече. Маргарет вернуло к действительности какое-то тихое, незначительное замечание матери, и, внезапно оторвавшись от работы, она обратила внимание на то, сколь разительно различаются внешне отец и мистер Торнтон. У ее отца было хрупкое телосложение, позволявшее ему казаться выше, если рядом не находился кто-то с высокой массивной фигурой. У него были мягкие черты лица, в которых отражалось каждое чувство, рождавшееся в его душе. Веки были крупными и выпуклыми, придавая глазам особую, томную, почти женственную красоту. Брови были красиво изогнуты и приподняты высоко над глазами. Лицо мистера Торнтона производило иное впечатление: прямые брови нависали над ясными, глубоко посаженными и серьезными глазами, их взгляд, без неприятной остроты, казалось, проникал в самое сердце, самую суть людей и вещей. Немногочисленные, но глубокие морщины на лице казались вырезанными из мрамора и располагались преимущественно в уголках рта. Губы были слегка сжаты над зубами, такими безупречными и красивыми, что когда на его лице появлялась редкая улыбка, она была подобна вспышке солнечного света. Улыбка совсем не вязалась с обликом этого сурового и решительного человека, безусловно готового пойти на все ради достижения собственных целей, но она вспыхивала мгновенно и открыто, как это бывает только у детей, отражалась в глазах и заражала собеседника глубокой искренней радостью. Эта улыбка была первой и пока единственной чертой, что понравилась Маргарет в новом друге отца. Она подумала, что, по-видимому, именно противоположность характеров, столь очевидная во внешности обоих, объясняла тяготение, которое они явно испытывали друг к другу.
Маргарет поправила рукоделие матери и опять вернулась к своим мыслям, совершенно забытая мистером Торнтоном, как будто ее не было в комнате. Он рассказывал мистеру Хейлу об устройстве парового молота, вернее, о том, какие осторожность и точность нужны при работе с этой машиной, обладающей невиданной мощностью. Его рассказ напомнил мистеру Хейлу о джинне в «Тысяче и одной ночи» – то могучем великане ростом от земли до неба, то крохотном существе, упрятанном в старой лампе, настолько маленькой, что могла уместиться в руке ребенка.
– И это воплощение силы – эта практическая реализация идеи, достойной титана, – придумано человеком из нашего славного города. И у этого человека еще достанет сил, чтобы подняться шаг за шагом от одного чуда, которого он достиг, к еще большим чудесам. И я не побоюсь сказать, что среди нас много подобных ему; если он нас покинет, другие смогут заменить его, вести борьбу и в конце концов подчинить все слепые силы природы науке.
– Ваша похвальба напомнила мне старые строки: «У меня сто капитанов в Англии – и все столь же хороши, как он когда-то был».
Услышав слова отца, Маргарет посмотрела на них с неподдельным интересом. Как же они добрались от зубчатых колес до Чеви Чейса?
– Это не похвальба, – ответил мистер Торнтон, – это факт. Не буду отрицать, я горжусь тем, что живу в городе – или, даже лучше сказать, в районе, – потребности которого порождают столько открытий и изобретений. Я предпочитаю тяжело работать, страдать, падать и подниматься здесь, чем вести скучную и сытую жизнь, какую ведут аристократы на юге, где дни текут медленно и беззаботно. Можно увязнуть в меду так, что потом невозможно будет подняться и взлететь.
– Вы ошибаетесь. – Задетая клеветой на свой любимый юг, Маргарет невольно повысила голос, на ее щеках появился румянец, а в глазах – сердитые слезы. – Вы ничего не знаете о юге. Там действительно не так силен дух коммерции, который вызывает к жизни авантюры, прогресс и всевозможные чудесные изобретения, но зато там и меньше страданий. Здесь на улицах мне нередко встречаются люди, не поднимающие глаз от земли, – они придавлены горем и заботами, и они не только страдают, но и ненавидят. У нас на юге есть бедные, но без этого ужасного выражения на лицах, вызванного осознанием несправедливости. Вы не знаете юга, мистер Торнтон, – закончила она и внезапно замолчала, злясь на себя за неуместную горячность.
– Могу ли я в свою очередь сказать, что вы не знаете севера? – спросил он с невыразимой мягкостью в голосе, так как увидел, что действительно обидел ее.
Маргарет промолчала, ибо раны от расставания с Хелстоном были еще свежи и она боялась, что если заговорит, то не сможет справиться с дрожью в голосе.
– Во всяком случае, мистер Торнтон, – сказала миссис Хейл, – вы, наверное, согласитесь, что в Милтоне больше грязи и дыма, чем в любом из городов на юге.
– Боюсь, я должен согласиться, – сказал мистер Торнтон с мимолетной улыбкой. – Парламент предложил нам пережигать дым, чтобы очистить его. И мы, как послушные дети, так и сделаем… когда-нибудь.
– Но ведь вы рассказывали мне, что уже переделали трубы, чтобы поглощать дым, разве нет? – спросил мистер Хейл.
– Я переделал трубы по собственному почину еще до того, как парламент вмешался в это дело. Это потребовало определенных затрат, но я возместил их экономией угля. Будьте уверены, парламентский акт тут ни при чем. Конечно, если бы я не поменял трубы и на меня бы донесли, я был бы оштрафован, понес бы финансовые убытки и так далее. Но все законы, эффективность которых зависит от доносов и штрафов, на деле не работают из-за несовершенства технологий. Я сомневаюсь, был ли в Милтоне дымоход, о котором доносили правительству последние пять лет, хотя некоторые постоянно пускают треть своего угля на так называемый «непарламентский дым».
– Я только знаю, что здесь муслиновые шторы нужно стирать не реже раза в неделю, а в Хелстоне они оставались чистыми месяц и больше. А что касается рук… Маргарет, сколько раз ты мыла руки этим утром? Три раза, разве нет?
– Да, мама.
– Вам, кажется, не по душе действия парламента и все законы, контролирующие работу фабрик в Милтоне, – сказал мистер Хейл.
– Да, как и многим другим. И думаю, не без оснований. Весь механизм… я имею в виду не только деревянное и железное оборудование… вся система торговли хлопком – дело настолько новое, что не стоит удивляться, если не все работает идеально. Что мы имели семьдесят лет назад? И чего достигли сейчас? Первые хозяева фабрик были ненамного образованнее и опытнее своих рабочих. Но им хватило здравого смысла и смекалки, и они сделали ставку на машину сэра Ричарда Аркрайта, еще весьма несовершенную. Торговля дала им, людям невысокого происхождения, огромные богатства и власть. Власть над рабочими, над покупателями – над всем мировым рынком. Пятьдесят лет назад в милтонской газете можно было прочесть, что такой-то (один из полудюжины набойщиков того времени) закрывает свой склад в полдень каждый день, поэтому все покупатели должны прийти до этого часа. Представьте себе человека, диктующего покупателям, когда им совершать покупки. Что до меня, то если хороший покупатель надумает прийти в полночь, я встану и буду с ним предельно любезен, даже подобострастен, если это потребуется, все что угодно, лишь бы получить от него заказ.
Маргарет поджала губы, но теперь слушала гостя внимательно, не отвлекаясь.
– Я рассказываю вам об этом, чтобы показать, какую почти неограниченную власть имели промышленники в начале столетия. У людей от власти кружилась голова. Если человек добивался успехов в торговле, это еще не значило, что во всем остальном он окажется столь же разумен. Наоборот, золото часто лишало своего владельца остатков порядочности и скромности. Пиршества, которые устраивали эти первые текстильные бароны, вошли в легенду. Они были расточительны и крайне жестоки по отношению к рабочим. Вы ведь знаете пословицу, мистер Хейл: «Дай бедняку лошадь, и он поскачет прямиком к дьяволу»? Некоторые из этих первых промышленников неслись прямо к дьяволу, сокрушая все и вся на своем пути. Но постепенно ситуация изменилась – появилось больше фабрик, больше хозяев, и потребовалось больше рабочих. Рабочие и хозяева теперь ведут борьбу практически на равных. И нам не нужны третейские судьи, а еще меньше нам нужны советы невежд, даже если эти невежды заседают в парламенте.
– Неужели борьба между двумя классами неизбежна? – спросил мистер Хейл. – Я знаю, вы используете это выражение, потому что, по вашему мнению, это единственное, что дает правильное представление о настоящем положении вещей.
– Это правда. И я уверен, что неизбежна борьба между разумом и невежеством, между предусмотрительностью и недальновидностью. Это одно из великих преимуществ нашей системы – рабочий может достичь власти и положения хозяина собственными усилиями. Любой усердный и рассудительный работник имеет шанс достичь большего. Он не обязательно станет владельцем фабрики, но может стать мастером, кассиром, счетоводом, клерком, кем-то имеющим полномочия и власть.
– И вы считаете врагами всех, кто не преуспел по какой бы то ни было причине? – спросила Маргарет отчетливо холодным тоном.
– Я полагаю, они враги самим себе, – быстро ответил мистер Торнтон, немало задетый надменным осуждением, прозвучавшим в ее голосе.
Но уже в следующее мгновение он почувствовал, что не должен был отвечать грубостью на грубость: пусть она его презирает, раз ей так хочется, но это его долг перед самим собой – попытаться объяснить, что он имел в виду. Но что делать, если она истолкует его слова превратно? Нужно быть предельно откровенным и правдивым, тогда, возможно, он сумеет достучаться до нее. Проще всего было бы объяснить свою точку зрения, рассказав о собственной жизни, – но можно ли затрагивать личную тему в разговоре с посторонними? И все же это самый простой и доступный способ убедить в своей правоте. Поэтому, отбросив в сторону робость, которая заставила его на мгновение покраснеть, он сказал:
– Я имею право так говорить. Шестнадцать лет назад мой отец умер при весьма печальных обстоятельствах. Меня забрали из школы, и мне пришлось повзрослеть за несколько дней. К счастью, у меня была такая мать, какой судьба одарила немногих, – женщина сильной воли и целеустремленности. Мы переехали в небольшой провинциальный городок, где жизнь была дешевле, чем в Милтоне, и где я получил должность в мануфактурной лавке (превосходное место, между прочим, именно там я приобрел исчерпывающие знания о товарах и основах торговли). Постепенно я стал получать пятнадцать шиллингов в неделю – пятнадцать шиллингов на трех человек. Но моя мать настояла на том, чтобы мы каждую неделю откладывали три шиллинга. Это стало началом моей карьеры и научило меня самопожертвованию. Теперь я в состоянии предоставить моей матери все удобства, которых требует ее возраст, хоть она частенько возражает против этого. И теперь во многих случаях я мысленно благодарю ее за все, чему она меня научила. Я обязан успехом не удаче, не образованию, не таланту – только строгим правилам, которые привила мне мать. Она научила меня не потакать собственным слабостям и не думать слишком много о собственных удовольствиях. Я верю, что страдание, которое, как говорит мисс Хейл, отражается на лицах людей в Милтоне, есть не что иное, как естественное наказание за слобоволие, за неумение отказать себе в удовольствиях ради собственного будущего. Я не считаю, что люди чувственные, потакающие своим желаниям, достойны моей ненависти, я просто смотрю на них с презрением из-за слабости их характера.
– Но у вас все же было некоторое образование, – заметил мистер Хейл. – Легкость, с которой вы теперь читаете Гомера, показывает мне, что вы уже знакомы с его произведениями, вы читали их прежде и только вспоминаете старые знания.
– Это правда, я читал его в школе. И смею сказать, я даже был на хорошем счету по классической филологии в те дни, хотя с тех пор я больше не занимался ни греческим, ни латынью. Но я спрошу вас: насколько эти знания подготовили меня к той жизни, которую мне пришлось вести? Никак не подготовили. Любому человеку достаточно просто уметь читать и писать, чтобы освоить те действительно полезные знания, которые я впоследствии приобрел.
– Нет, я не согласен с вами. Но возможно, я своего рода педант. Разве представление о героической простоте жизни во времена Гомера не придавало вам сил?
– Нисколько! – воскликнул мистер Торнтон, смеясь. – Я был слишком занят мыслями о живых, о тех, кто плечом к плечу вместе со мной боролся за хлеб насущный, и у меня просто не было времени вспоминать о вымерших народах. Теперь, когда моя мать обеспечена, как подобает в ее возрасте, и вознаграждена за все прежние усилия, я могу обратиться к древним преданиям и с чистой совестью наслаждаться ими.
– Смею заметить, мое замечание было скорее профессиональным: всяк кулик свое болото хвалит, – ответил мистер Хейл.
Когда мистер Торнтон поднялся, чтобы уйти, он, пожав руки мистеру и миссис Хейл, шагнул и к Маргарет, протягивая ей руку. Обычай дружеского рукопожатия был привычен в Милтоне, но Маргарет оказалась не готова к такому жесту. Она просто поклонилась, хотя, увидев его протянутую было и тут же отведенную назад руку, пожалела о том, что вовремя не поняла его намерения. Мистер Торнтон, не ведая о ее сожалении, вскинул голову и вышел, бормоча под нос:
– В жизни не встречал такой заносчивой и неприятной девицы. Спору нет, она красавица, но такая гордячка, что и смотреть на нее не хочется.
Глава XI
Первые впечатления
Говорят, у нас в крови жестокость;
Крупица иль две, возможно, на пользу,
Но в нем, я это чувствую остро,
Слишком много безжалостности.
Неизвестный автор
– Маргарет! – сказал мистер Хейл, проводив своего гостя. – Я с тревогой следил за выражением твоего лица, когда мистер Торнтон признался, что служил посыльным в лавке. Я-то узнал об этом еще раньше, от мистера Белла. Признаюсь, побаивался, что ты встанешь и покинешь комнату.
– О папа! Неужели ты и вправду думаешь, что у тебя такая глупая дочь? Как раз его рассказ о себе понравился мне больше всего. Когда он хвастался Милтоном и его необыкновенными достоинствами, когда осуждал других и призывал презирать людей за их недальновидность, расточительность и слабость, вместо того чтобы попытаться помочь им в обретении тех качеств, которые в нем воспитала мать, все во мне противилось его жесткости; но о себе он говорил так просто, без жеманства и вульгарности, свойственной лавочникам, и с такой нежностью и уважением отзывался о своей матери, что мне и в голову не пришло бы покинуть комнату.
– Я удивляюсь тебе, Маргарет, – сказала миссис Хейл. – Не ты ли еще в Хелстоне всегда осуждала торговцев?! Я не думаю, мистер Хейл, что вы поступили правильно, представив нам такого человека и не рассказав, кем он был. Право же, я очень боялась показать ему, как я ошеломлена некоторыми подробностями его жизни. Его отец «умер при печальных обстоятельствах». Вероятно, это произошло в работном доме.
– Думаю, что все было еще хуже, – ответил ее муж. – Я был достаточно наслышан о его прошлой жизни от мистера Белла еще до того, как мы приехали сюда. И так как часть истории мистер Торнтон уже рассказал вам, я дополню то, что он опустил. Его отец занимался спекуляциями, обанкротился, а затем покончил с собой, потому что не мог вынести позора. Все его бывшие друзья отвернулись от него, узнав, что причиной банкротства явилась нечестная игра – отчаянные, безнадежные попытки заработать на деньгах других людей и вернуть собственный капитал. Никто не пришел на помощь его вдове и сыну. У них был еще один ребенок, по-моему девочка, слишком маленькая, чтобы зарабатывать деньги, и ее тоже нужно было содержать. По крайней мере, никто из друзей не поспешил предложить помощь, а миссис Торнтон не из тех, кто терпеливо ждет милостей от людей. Поэтому они уехали из Милтона. Я знал, что мистер Торнтон пошел работать в лавку и на эти заработки, часть из которых откладывала его мать, они и существовали долгое время. Мистер Белл рассказал, что они буквально перебивались с хлеба на воду… Как именно, он не знает. Однако, когда кредиторы уже потеряли всякую надежду получить деньги по долгам старого мистера Торнтона (если они и в самом деле на что-то рассчитывали после его самоубийства), этот молодой человек вернулся в Милтон, встретился с каждым из кредиторов и заплатил им первую часть из всей суммы долга. Все было сделано без лишнего шума, но долг был выплачен до последнего пенни. Узнав об этой истории, один из кредиторов, ворчливый, раздражительный старик (по словам мистера Белла), взял мистера Торнтона себе в партнеры.
– Это в самом деле прекрасно, – сказала Маргарет. – Какая жалость, что злая судьба уготовила для человека с такой волей и характером презренную роль милтонского фабриканта!
– Презренную? – переспросил мистер Хейл.
– Да, папа, достойно презрения, что деньги являются для него единственной мерой успеха. Когда он говорил о новых изобретениях, он явно рассматривал их только как еще один способ расширения торговли и зарабатывания денег. А бедные люди вокруг него – они бедны, потому что порочны, а порочны, потому что им не дано его железного характера и способностей, благодаря которым он разбогател. И он даже не испытывает к ним сочувствия,
– Он не говорил, что они порочны. Они расточительны и потакают собственным желаниям – вот его слова.
Маргарет собрала все рабочие принадлежности матери, готовясь лечь спать. Выходя из комнаты, она замешкалась – ей хотелось сказать отцу что-нибудь приятное, при этом не покривив душой. Но легкая досада все же отразилась в ее словах:
– Папа, я считаю, что мистер Торнтон – замечательный человек, но лично мне он совсем не нравится.
– А мне нравится! – засмеялся отец. – И лично, как ты выразилась, и вообще. Но спокойной ночи, дитя мое. Твоя мать сегодня очень устала, Маргарет.
Маргарет и сама заметила, как мать измучилась из-за волнений последних дней, и слова отца, наполнив ее смутным страхом, камнем легли на сердце. Жизнь в Милтоне так отличалась от той, к которой миссис Хейл привыкла в Хелстоне, где и в доме, и на улице всегда был свежий деревенский воздух. Здесь же сам воздух был, казалось, лишен всех живительных элементов. Домашние заботы с новой силой обрушились на всех женщин семьи, поэтому можно было всерьез опасаться за здоровье миссис Хейл. Кроме того, странное поведение Диксон и миссис Хейл говорило о том, что с хозяйкой что-то случилось. Они с Диксон часто тайком беседовали в спальне, откуда служанка выходила заплаканной и сердитой. Однажды Маргарет вошла в комнату матери сразу после ухода Диксон и, застав свою мать, стоящей на коленях, немедленно удалилась, но, уходя, случайно услышала, как та просила Бога дать ей сил и терпения выдержать телесные страдания. Маргарет очень хотела восстановить близкие, доверительные отношения с матерью, прерванные ее долгим проживанием у тети Шоу. Прежняя Маргарет была бы довольна тем, что снова может ласкаться к маме и слышать ее нежные, полные любви слова, но сейчас она чувствовала, что есть еще какая-то тайна, скрываемая от нее, которая имеет непосредственное отношение к состоянию здоровья миссис Хейл. Той ночью Маргарет долго лежала без сна, размышляя, как уменьшить вредное влияние милтонской жизни на здоровье ее матери. Необходимо было как можно скорее найти постоянную служанку в помощь Диксон, тогда Диксон могла бы уделять миссис Хейл больше внимания и заботы.
Последние несколько дней все время и мысли Маргарет были заняты посещением регистрационных бюро и встречами со всякого рода людьми, среди которых попалось лишь несколько приятных. Однажды днем она встретила Бесси Хиггинс на улице и остановилась поговорить с ней.
– Бесси, как ваши дела? Надеюсь, вам теперь получше, ветер уже переменился.
– И лучше, и хуже, если вы знаете, что это значит.
– Не совсем, – ответила Маргарет, улыбаясь.
– Мне лучше, что ночью я не задыхаюсь от кашля, но я так истомилась в Милтоне и хочу отправиться в землю Бьюлы[9]. Но как только подумаю, что ухожу все дальше и дальше, сердце обмирает, и тогда мне не лучше, а хуже.
Маргарет пошла рядом с девушкой. Минуту или две она молчала. Наконец тихо спросила:
– Бесси, ты хочешь умереть? – Сама Маргарет избегала разговоров о смерти, для нее, такой молодой и здоровой, было естественно любить жизнь.
Бесси тоже помолчала минуту или две. Потом ответила:
– Если бы у вас была такая жизнь, как у меня, и вы бы так же устали от нее, как я, и думали бы, что «так может продолжаться пятьдесят или шестьдесят лет – я знаю, так бывает», и все эти шестьдесят лет у вас бы кружилась голова и было бы тошно и больно, а годы бы все тянулись и насмехались над вашей немощью… О мисс! Говорю вам, вы бы обрадовались, когда доктор наконец сказал бы вам, что едва ли вы увидите зиму.
– Почему, Бесси, неужели в твоей жизни нет места радости?
– Ну, наверно, моя жизнь не хуже, чем у многих прочих. Только она меня потрепала, а их – нет.
– Но что это значит? Ты знаешь, я здесь чужая, поэтому я не сразу понимаю, что ты имеешь в виду, я ведь не знаю, как вы живете тут, в Милтоне.
– Если бы вы пришли к нам домой, как вы когда-то сказали, я бы могла рассказать вам. Но отец говорит, вы точно такая же, как другие: с глаз долой – из сердца вон.
– Я не знаю, кто эти другие. Но я была очень занята, и, по правде говоря, я забыла, что обещала.
– Вы сами предложили это! Мы не навязывались.
– Я забыла, что говорила в тот раз, – тихо продолжила Маргарет. – Я бы обязательно вспомнила о своем обещании, будь я меньше занята. Можно, я пойду сейчас с тобой?
Бесси бросила быстрый взгляд на Маргарет, чтобы убедиться в ее искренности. Напряжение в ее взгляде сменилось задумчивостью, когда она встретила теплый дружеский взгляд собеседницы.
– Никому до меня особо дела не было. Если вам не все равно, можете пойти.
Они пошли вместе, храня молчание. Когда они свернули в маленький двор, выходивший на грязную улицу, Бесси сказала:
– Вы не пугайтесь, если отец дома, он поначалу может и нагрубить. Видите ли, он вспоминал вас, и сдается мне, он тоже волновался и гадал, придете вы или нет.
– Не бойся, Бесси.
Но когда они пришли, Николаса не оказалось дома. Крупная, неряшливо одетая и неуклюжая девушка, немного моложе Бесси, но более высокая и крепкая, занималась стиркой. Прачка она была неумелая и так гремела корытом и всем, чем можно, что Маргарет поежилась и от души посочувствовала бедной Бесси, которая буквально упала на стул, полностью вымотанная своей прогулкой. Маргарет попросила у сестры Бесси стакан воды и, пока та бегала за водой (задев кочергу и опрокинув стул на своем пути), развязала ленты на шляпке Бесси, чтобы та могла отдышаться.
– Вы думаете, такая жизнь стоит того, чтобы за нее цепляться? – едва слышно прошептала бедная девушка.
Маргарет, не отвечая, поднесла стакан воды к ее губам. Бесси сделала долгий жадный глоток, затем откинулась на спинку стула и закрыла глаза. Маргарет услышала, как она бормочет про себя: «Они больше не будут ни голодать, ни испытывать жажду. И солнце не будет палить их, и свет не будет их тревожить».
Маргарет наклонилась и тихо сказала:
– Бесси, не торопи свою смерть, не отказывайся от жизни, какой бы она ни была… Или могла бы быть. Помни, кто дал тебе жизнь и предопределил твою судьбу.
Она вздрогнула, услышав голос Николаса. Он вошел, незамеченный ею.
– Нет нужды поучать мою девочку. Пусть она идет туда, куда ее зовут, – к золотым воротам, украшенным драгоценными камнями. Если это ее радует, пусть так и будет, но я не собираюсь морочить ей голову всякой чепухой.
– Но конечно, – ответила Маргарет, поворачиваясь к нему, – вы верите в то, что я сказала, что Бог дал ей жизнь и предопределил, какой она должна быть.
– Я верю в то, что вижу, и не более. Вот во что я верю, молодая леди. Я не верю всему тому, что слышу… Нет! Ни капли. Я слышал, как одна молодая девица всяко расспрашивала, где мы живем, и громко обещала, что навестит нас. А моя девочка потом дни и ночи думала об этом, вскакивала каждый раз, заслышав звук незнакомых шагов, она не знала, что я за ней наблюдаю. Но вот вы здесь, и вам будут рады, если, конечно, вы не собираетесь поучать нас.
Бесси умоляюще смотрела на Маргарет, сжимая ее руку в своих.
– Не сердитесь на него, – попросила она тихо, – Здесь многие думают, как он. Если бы вы их услыхали, вы не сердились бы на него. Он очень хороший, правда… но, – и в ее глазах мелькнуло отчаяние, – когда он говорит такие вещи, это заставляет меня желать смерти больше, чем обычно, мне так хочется много знать, меня волнуют эти чудеса.
– Бедная девочка… Бедняжка моя, я не хотел расстраивать тебя, но мужчина должен говорить правду, а когда я вижу, что народ становится хуже день ото дня и все вокруг приходит в упадок, я говорю себе: почему бы не оставить весь этот разговор о религии и не заняться тем, что понимаешь и знаешь? Это ведь так просто – говорить о том, что знаешь, и делать то, что умеешь.
Но девушка повторяла с болью в голосе:
– Не думайте о нем плохо, он хороший человек, правда. Я буду грустить даже в Граде Божьем, если отца там не будет. – Лихорадочный румянец появился на щеках Бесси, а в глазах – лихорадочное пламя. – Но ты будешь там, отец! Ты будешь! О! Мое сердце! – Она приложила свою руку к груди и мертвенно побледнела.
Маргарет обняла девушку и положила ее голову к себе на грудь. Она убрала тонкие и мягкие волосы Бесси с висков и смочила их водой. Глаза Николаса были полны любви и печали, он угадывал просьбы Маргарет без слов, и даже глупенькая сестра Бесси с готовностью повиновалась и стала двигаться поосторожнее, чтобы не шуметь. Через некоторое время смертельно опасный приступ прошел, и Бесси поднялась и сказала:
– Я пойду лягу, это лучше всего. Но, – она невольно схватила Маргарет за платье, – вы придете снова… я знаю, вы придете… просто скажите это!
– Я приду завтра, – пообещала Маргарет.
Бесси прильнула к отцу, и он собрался отнести ее наверх. Но как только Маргарет поднялась, чтобы уйти, он с видимым усилием произнес:
– Если бы Бог существовал, я бы попросил его только об одном – благословить вас.
Маргарет ушла от них очень грустная и задумчивая.
Она опоздала домой к чаю. В Хелстоне опоздание к столу миссис Хейл расценивала как тяжелый проступок, но теперь подобные вольности, казалось, перестали раздражать ее, хотя в глубине души Маргарет страстно желала, чтобы мама отчитала ее, как в добрые старые времена.
– Ты нашла служанку, дорогая?
– Нет, мама, эта Энн Бакли ни за что бы не подошла.
– Полагаю, теперь моя очередь изображать из себя принца, примеряя милтонским девушкам туфельку служанки, – сказал мистер Хейл. – Вы обе потерпели поражение, как знать, может удача улыбнется мне.
Маргарет едва смогла улыбнуться в ответ на эту маленькую шутку, так она была подавлена тем, что увидела в доме Хиггинсов.
– Что ты собираешься сделать, папа? – спросила она
– Ну, я мог бы обратиться к какой-нибудь уважаемой женщине, чтобы она порекомендовала мне девушку, хорошо известную ей или ее слугам.
– Очень хорошо. Но сначала мы должны найти такую уважаемую женщину.
– Вы ее нашли. Я уже завлек ее в ловушку, и вы поймаете ее завтра, если постараетесь.
– О чем вы говорите, мистер Хейл? – с любопытством спросила его жена.
– Ну, мой образцовый ученик (как называет его Маргарет) сегодня сказал мне, что его мать завтра собирается навестить миссис и мисс Хейл.
– Миссис Торнтон! – воскликнула миссис Хейл.
– Его мать, о которой он нам рассказывал? – спросила Маргарет.
– Я полагаю, у него только одна мать и ее имя миссис Торнтон, так что вы обе правы, – ответил мистер Хейл.
– Я бы хотела посмотреть на нее. Должно быть, она необычная женщина, – добавила миссис Хейл. – Возможно, у нее на примете есть девушка, которая устроила бы нас и согласилась бы у нас работать. Она представляется мне бережливой, экономной женщиной, думаю, что она мне понравится.
– Моя дорогая, – сказал мистер Хейл встревоженно, – прошу вас, не обольщайтесь прежде времени. Я полагаю, миссис Торнтон так же высокомерна и горда, как и наша маленькая Маргарет. И думаю, она не любит говорить ни о своем прошлом, ни о своих прежних невзгодах, ни об экономии. Я уверен, лучше не подавать виду, что мы знаем ее историю.
– Но, папа, кажется, мне не свойственно высокомерие. Хотя ты постоянно упрекаешь меня в этом, я не могу согласиться с тобой.
– Я не знаю, высокомерна ли миссис Торнтон. Но из того, что я узнал от ее сына, полагаю, что так оно и есть.
Однако характер миссис Торнтон не слишком занимал Маргарет. Ей лишь хотелось знать, должна ли она присутствовать при этом визите, поскольку он помешал бы ей пойти навестить Бесси в первой половине дня. Однако, поразмыслив, она решила, что в любом случае должна остаться дома и помогать матери.
Глава XII
Утренние визиты
Ну, я полагаю, мы должны.
Друзья на совете
Мистеру Торнтону пришлось приложить немало усилий, чтобы убедить мать нанести ответный визит Хейлам. Она не часто соблюдала светские формальности, а когда ей приходилось это делать, она выполняла свои обязанности скрепя сердце. Сын подарил ей коляску, но она запретила ему держать лошадей. И они нанимали лошадей лишь для торжественных случаев, когда миссис Торнтон выходила в свет. Не далее как две недели назад она наняла лошадей на три дня и нанесла визиты всем своим знакомым и теперь могла спокойно сидеть в своем кресле, ожидая, когда те в свою очередь придут к ней. Крэмптон находился слишком далеко, чтобы идти туда пешком. И миссис Торнтон несколько раз переспрашивала сына, в самом ли деле он желает, чтобы она потратилась на кеб и съездила к этим Хейлам. Она была бы рада, если бы без этого можно было обойтись. Миссис Торнтон заявила, что «нет смысла поддерживать близкие отношения со всеми учителями Милтона; это все равно как если бы ты захотел, чтобы я навестила жену учителя танцев Фанни!».
– Я бы так и поступил, мама, если бы у мистера Мейсона и его жены было так же мало друзей, как у Хейлов в этом незнакомом для них месте.
– Ну, полно, полно! Я поеду к ним завтра. Я хочу только, чтобы ты точно понимал, чего хочешь.
– Если ты поедешь завтра, я закажу лошадей.
– Чепуха, Джон. Можно подумать, ты сделан из денег.
– Нет, пока не совсем. Но насчет лошадей мое решение твердо. Последний раз, когда ты выезжала в кебе, ты приехала домой с головной болью от тряски.
– Смею сказать, что я никогда не жаловалась на это.
– Нет, моя мать никогда не жалуется, – сказал он с гордостью. – Вот поэтому мне стоит лучше присматривать за тобой. И раз Фанни теперь здесь, небольшая поездка пойдет ей на пользу.
– Она сделана из другого теста, Джон. Она не вынесет этого.
Сказав это, миссис Торнтон замолчала, ей не хотелось долго распространяться на эту тему. Она испытывала невольное презрение к слабости, а в отличие от матери и брата Фанни обладала слабым характером. Миссис Торнтон не была женщиной, склонной к излишним рассуждениям, ее здравый смысл и твердость не позволяли ей вести долгие споры даже с самой собой. Она интуитивно чувствовала, что ничто не сможет укрепить характер Фанни, ничто не сможет научить ее терпеливо сносить неприятности или смело встречать трудности. И хотя миссис Торнтон с болью признавала недостатки дочери, она относилась к ней со своего рода жалостливой нежностью – так обычно матери относятся к слабым и больным детям. Человек посторонний или невнимательный мог бы предположить, что миссис Торнтон с большей любовью относится к Фанни, чем к Джону. Но он бы глубоко ошибся. Самая открытость и даже некоторая бесцеремонность, с которой мать и сын высказывали друг другу все, что было у них на душе, указывала на доверительные отношения между ними. А неловкая доброта миссис Торнтон по отношению к дочери, стыд, с которым она скрывала недостаток всех лучших качеств в собственном ребенке, сама обладая ими и высоко ценя их в других, – этот стыд выдавал отсутствие прочной привязанности. Сына она называла только Джоном; «милая», «дорогая» и тому подобные слова были предназначены для Фанни.
Но сердце матери благодарило Бога за сына день и ночь, и она гордилась им.
– Фанни, дорогая, сегодня я собираюсь заложить лошадей в коляску, чтобы поехать и навестить этих Хейлов. Почему бы тебе не поехать со мной и не повидать няню? Это по пути, она всегда рада видеть тебя. Ты можешь побыть там, пока я буду у миссис Хейл.
– О! Мама, это так далеко, а я так устала.
– От чего? – спросила миссис Торнтон, слегка нахмурив брови.
– Я не знаю, погода наверно. От нее такая слабость. Не могла бы ты привезти няню сюда, мама? Коляска доставит ее сюда, и она сможет провести остаток дня здесь. Я знаю, ей это понравится.
Миссис Торнтон не ответила, но положила свое шитье на стол и, казалось, задумалась.
– Но ей придется возвращаться домой поздно, – заметила она наконец.
– О, я найму кеб. Я бы ни в коем случае не позволила ей идти домой пешком.
В этот момент в комнату зашел мистер Торнтон, чтобы попрощаться с матерью перед уходом на фабрику.
– Мама! Я зашел только сказать, что если у тебя на примете есть какая-нибудь девушка, которая могла бы ухаживать за больной миссис Хейл, то скажи ей об этом.
– Если что-то узнаю, то скажу. Но я сама никогда не болела, поэтому не знаю капризов больных.
– Ну, у тебя же есть Фанни, а у нее вечно что-нибудь болит. Возможно, она сможет что-нибудь предложить, не так ли, Фан?
– Вовсе не всегда болит, – обиделась Фанни. – И я не собираюсь ехать с мамой. У меня сегодня болит голова, и я никуда не поеду.
Мистер Торнтон выглядел недовольным. Взгляд матери был прикован к шитью, над которым она усердно трудилась.
– Фанни! Я хочу, чтобы ты поехала, – сказал он властно. – Это пойдет тебе на пользу. Ты обяжешь меня, если поедешь, и без лишних разговоров.
Сказав это, он быстро вышел из комнаты.
Если бы он остался чуть дольше, Фанни, наверное, расплакалась бы из-за его властного тона, особенно из-за слов «ты обяжешь меня». Но все было уже сказано. И она лишь проворчала, поджав губы:
– Джон всегда говорит, будто я притворяюсь больной, но я никогда не притворяюсь. Кто эти Хейлы, из-за которых он так суетится?
– Фанни, не говори так о своем брате. У него есть на то причины, иначе он не настаивал бы на этом визите. Поторапливайся и приведи себя в порядок.
Но маленькая перебранка между сыном и дочерью не заставила миссис Торнтон относиться более благожелательно к «этим Хейлам». Ее ревнивое сердце повторило вопрос дочери: «Кто они такие, что он так беспокоится о том, чтобы мы уделили им внимание?» Этот вопрос постоянно вертелся у нее в голове, как назойливый припев к песне. Фанни же скоро забыла свои обиды, отдавшись всецело созерцанию себя в новой шляпке перед зеркалом.
Миссис Торнтон была женщиной нелюдимой и застенчивой. Только в последние годы у нее появилось достаточно свободного времени, чтобы выходить в общество. Но общество ей не доставляло удовольствия. Ей вполне хватало званых обедов у себя и обсуждения чужих званых обедов. Но этот визит к совершенно незнакомым людям – дело другое. Она чувствовала себя неловко и оттого выглядела особенно суровой и неприветливой, входя в маленькую гостиную Хейлов.
Маргарет вышивала на небольшом кусочке батиста узор для одежды будущего малыша Эдит. «Пустое, бесполезное занятие», – заметила про себя миссис Торнтон. Ей больше понравилось двойное вязание миссис Хейл, оно выглядело более практичным. Комната была заполнена безделушками, так что уборка здесь занимала много времени, а время у людей ограниченного достатка измерялось деньгами.
Миссис Торнтон сделала все эти замечания про себя, пока произносила обычные банальности, которые говорят большинство людей, пытаясь скрыть свои чувства. Миссис Хейл отвечала с усилием, ее мысли вертелись вокруг старинного кружева, украшавшего одежду миссис Торнтон.
– Кружева, – как она впоследствии заметила Диксон, – старинные английские, их уже не делают лет семьдесят, и их уже не купить. Это, должно быть, фамильная ценность, доставшаяся ей от предков.
Несомненно, владелица этих фамильных кружев была достойна чего-то большего, чем слабые попытки миссис Хейл угодить гостье и поддержать разговор. Маргарет, судорожно искавшая тему для разговора с Фанни, слышала, как ее мать и миссис Торнтон погрузились в бесконечное обсуждение нравов и пороков прислуги.
– Я полагаю, вы не любите музыку, – сказала Фанни, – я не вижу у вас пианино.
– Я люблю слушать хорошую музыку, но сама играю не слишком хорошо. А папа и мама к музыке равнодушны, поэтому мы продали наше старое пианино, когда переезжали сюда.
– Удивительно, как вы можете жить без него. Оно мне кажется просто необходимым для жизни.
«Пятнадцать шиллингов в неделю, из которых три откладывались! – подумала про себя Маргарет. – Но она, должно быть, очень молода. Она могла просто не помнить об этом. Но она должна знать о том времени».
Маргарет ответила довольно холодно:
– Полагаю, у вас здесь бывают хорошие концерты.
– О да! Великолепные! Только там бывает слишком много народу, и это хуже всего. Туда пускают всех без разбору. И каждый уверен, что слышит там последние новинки. На следующий день после концерта все бегут к Джонсону заказывать ноты.
– Вы любите новую музыку просто за ее новизну?
– О, каждый знает, что в Лондоне это модно, иначе певцы здесь исполняли бы другую музыку. Вы, конечно, бывали в Лондоне.
– Да, – ответила Маргарет, – я жила там несколько лет.
– О! Лондон и Альгамбра[10] – вот два места, что я хочу посетить.
– Лондон и Альгамбра!
– Да, с тех пор, как я прочитала «Истории об Альгамбре». Вы не читали их?
– Боюсь, что нет. Но уверена, что вы вполне можете съездить в Лондон.
– Да, как-нибудь, – сказала Фанни, понизив голос. – Мама сама никогда не была в Лондоне и не может понять моего желания. Она очень гордится Милтоном, этим грязным, задымленным городом. Кажется, именно грязь и дым ей и нравятся.
– Если миссис Торнтон прожила здесь несколько лет, я вполне могу понять ее любовь к этому городу, – сказала Маргарет своим чистым, звонким голосом.
– Что вы говорите обо мне, мисс Хейл? Могу я поинтересоваться?
Маргарет не была готова ответить на этот вопрос, немного удививший ее, поэтому ответила мисс Торнтон:
– О мама! Мы только пытались выяснить, за что ты так любишь Милтон.
– Благодарю, – ответила миссис Торнтон. – Но я не думаю, что моя естественная привязанность к этому месту, где я родилась и выросла, где прожила много лет, требует каких-то объяснений.
Маргарет была рассержена. Из-за ответа Фанни могло показаться, будто они дерзко обсуждали чувства миссис Торнтон. Но Маргарет также возмутили бесцеремонные манеры старой дамы.
Миссис Торнтон продолжила после небольшой паузы:
– Вы знаете что-нибудь о Милтоне, мисс Хейл? Вы видели какую-нибудь из наших фабрик? Наши великолепные склады?
– Нет! – ответила Маргарет. – Пока еще нет.
Ей показалось, что, скрывая свое полное безразличие к таким местам, она уклоняется от правды, и поэтому она продолжила:
– Конечно, папа взял бы меня посмотреть фабрики, если бы я интересовалась ими. Но я на самом деле не нахожу удовольствия в изучении цехов и складов.
– Это очень любопытные места, – заметила миссис Хейл, – но там всегда так много шума и пыли. Я помню, однажды вышла в сиреневом шелковом платье поискать свечи и оно было совершенно испорчено.
– Вполне возможно, – сказала миссис Торнтон сухим, недовольным тоном. – Я просто думала, что, поскольку вы недавно приехали жить в город, который занял видное положение в стране благодаря развитию промышленности, вы могли бы поинтересоваться и посетить некоторые фабрики. Подобных им нет больше нигде в королевстве. Если мисс Хейл изменит свое мнение и снизойдет до того, чтобы поинтересоваться фабриками Милтона, я могу только сказать, что буду рада достать ей разрешение посетить ситценабивной цех или прядильные цеха на фабрике моего сына. Вы там увидите самые последние усовершенствованные станки и машины.
– Я так рада, что вы не любите фабрики, мастерские и подобные вещи, – сказала Фанни полушепотом, поднявшись, чтобы присоединиться к своей матери, которая собралась покинуть дом Хейлов.
– Я думаю, что мне хотелось бы знать все о них, будь я на вашем месте, – тихо ответила Маргарет.
– Фанни, – сказала ее мать, когда они отъехали, – мы будем любезны с этими Хейлами, но не заводи необдуманной дружбы с их дочерью. Такая дружба не доведет до добра. Мать выглядит очень больной, но кажется женщиной милой и тихой.
– Я не собираюсь заводить никакой дружбы с мисс Хейл, мама, – ответила Фанни недовольно. – Я думала, я выполняю свою обязанность, разговаривая с ней и пытаясь развлечь ее.
– Ну, во всяком случае, Джон должен быть теперь удовлетворен.
Глава XIII
Глоток свежего воздуха
Р. К. Тренч
- Эти сомнения, тревоги, страх, и боль,
- И муки – всего лишь тени напрасные,
- Что уйдут, когда придет смерть;
- Мы можем пересечь безводные пустыни,
- Пробраться через мрачный лабиринт
- И пройти сквозь темноту подземелья.
- Если следовать воле Всевышнего,
- Мрачнейшие дороги, темнейшие пути
- Выведут нас на небеса.
- И мы, выброшенные на разные берега,
- Встретимся, пройдя опасный жизненный путь,
- В доме нашего Небесного Отца!
Едва гостьи удалились, Маргарет быстро поднялась к себе, надела шляпку и шаль и отправилась к Бесси Хиггинс, чтобы посидеть с ней хоть немного. Пока Маргарет шла по переполненным людьми узким улицам, она чувствовала на себе заинтересованные взгляды, как будто вопрошавшие, что привело ее к ним.
Мэри Хиггинс, младшая сестра Бесси, попыталась как могла прибрать дом к предстоящему визиту Маргарет. В центре комнаты пол из грубого камня был вычищен, но под стульями, столом и вокруг стен так и остался нетронутый темный слой пыли. Хотя день был жарким, в очаге горел огонь, и в комнате было ужасно душно. Маргарет не догадывалась, что, затопив камин, Мэри хотела продемонстрировать ей свое гостеприимство, хотя, возможно, эта томительная для других жара была необходима Бесси. Сама Бесси лежала на кушетке, поставленной у окна. Она чувствовала себя намного слабее, чем вчера, но с трудом приподнималась каждый раз, заслышав на улице незнакомые шаги, чтобы посмотреть, не идет ли Маргарет. И теперь, когда Маргарет была здесь и сидела на стуле рядом с ней, Бесси лежала спокойная и довольная, вглядываясь в лицо гостьи, касаясь ее одежды, по-детски восхищаясь дорогой тканью.
– Я раньше никогда не понимала, почему эти люди в Библии так любили носить мягкие одежды. Но это, должно быть, так приятно – носить такие платья, как у вас. Я таких прежде не видела. На наших улицах полно разряженных красавиц, но их платья слишком яркие, просто режут глаза, а такие цвета, как у вас, успокаивают меня. Где вы взяли такое платье?
– В Лондоне, – ответила Маргарет, немного повеселев.
– Лондон! Вы бывали в Лондоне?
– Да! Я жила там несколько лет. Но мой настоящий дом в деревне на самом краю леса.
– Расскажите мне о своем доме, – попросила Бесси. – Мне нравится слушать, как рассказывают о деревне, о деревьях в лесу и тому подобных вещах. – Она откинулась назад, закрыла глаза, сложив руки на груди, и лежала совершенно неподвижно, приготовившись слушать Маргарет.
Маргарет никогда не говорила о Хелстоне с тех пор, как покинула его, разве что случайно упоминала название в разговоре. Но в мечтах она видела его, пожалуй, даже более отчетливо, чем в жизни, и, когда ночью она проваливалась в сон, ее память странствовала по всем дорогим и милым местам. Сердце Маргарет было открыто для бедной девушки, и она решилась нарушить молчание.
– О Бесси, я так любила дом, который мы оставили! Мне бы хотелось, чтобы ты его увидела. Я не могу передать словами и половину его красоты. Там везде стоят зеленые деревья, раскинув свои ветви над землей, и в их тени прохладно даже в полдень. И хотя каждый листок кажется неподвижным, в лесу все время слышен шелест, словно тихий голос, звучащий вдали. Дерн в лесу то мягкий и нежный, как бархат, то холодный и влажный, оттого что впитал воду из небольшого, журчащего где-то в траве ручейка. А в других частях леса раскинулись заросли папоротника, они словно волны морские – то совсем темные в тени деревьев, то освещенные золотыми лучами солнца.
– Я никогда не видела моря, – пробормотала Бесси. – Но продолжайте.
– А потом ты выходишь из леса на холмистую равнину, и вершины холмов кажутся выше, чем кроны деревьев…
– Я рада это слышать. Я здесь все время задыхаюсь и как будто падаю в пропасть. Когда я выходила гулять, мне всегда хотелось подняться высоко-высоко, чтобы видеть далеко и вдохнуть воздух полной грудью. Я задыхаюсь здесь, в Милтоне, но думаю, что этот шелест деревьев, о котором вы говорили, просто ошеломил бы меня. У меня и так все время болит голова из-за шума на фабрике. Но там, на этих холмах, там, наверное, тихо?
– Да, – ответила Маргарет, – только высоко в небе можно услышать жаворонка. Иногда я слышала, как фермеры перекликаются с работниками. Но их голоса доносились издалека, и мне нравилось думать, что там, вдали, люди усердно работают на полях, пока я сижу в вереске и ничего не делаю.
– Я раньше думала, что если бы у меня был свободный день и я могла бы ничего не делать, а только отдыхать в каком-нибудь спокойном тихом месте вроде того, о чем вы только что говорили, то, наверное, отдых подбодрил бы меня. Но сейчас я ничего не делаю целыми днями, а все равно устаю от безделья так же, как от своей работы. Иногда я так устаю, что думаю, я даже не смогу наслаждаться небесами, не передохнув хоть немного сначала. Я очень боюсь, что отправлюсь прямиком туда, не поспав хоть недолго в могиле.
– Не бойся, Бесси, – сказала Маргарет, положив ладонь на руку девушки. – Бог может дать тебе лучший отдых, чем безделье на земле или глубокий сон в могиле.
Бесси вздрогнула и тихо сказала:
– Если бы мой отец не говорил так… Вы ведь сами слышали… У него в мыслях нет ничего плохого, как я сказала вам вчера и повторю снова и снова. И я совсем не верю ему днем, но все же ночью, когда я в лихорадке, в полусне, в полубреду, все снова наваливается на меня. О, так плохо! И я думаю, что лучше бы было умереть, чем надрывать себе сердце и жить здесь среди этого бесконечного фабричного шума, чем мечтать о минуте тишины, чем дышать этим пухом и чувствовать, как он заполняет легкие, – я так жду смерти ради одного глотка чистого воздуха, о котором вы говорили. Моя мама умерла, и я никогда не смогу сказать ей снова, как я любила ее, не смогу рассказать обо всех своих горестях, и если эта жизнь – смерть, если нет Бога, чтобы утереть слезы со всех глаз… Так-то, так-то! – Бесси выпрямилась и с неожиданной силой сжала руку Маргарет. – Я могу сойти с ума и убить вас, я правда могла бы…
Она откинулась на подушку, совершенно обессиленная. Маргарет опустилась перед ней на колени:
– Бесси, у нас есть Отец Небесный.
– Я знаю это! Я знаю это! – стонала Бесси и беспокойно металась на кровати. – Я грешница. То, что я говорю, грешно. О, не бойтесь меня, не бойтесь приходить ко мне. Я не трону и волоска на вашей голове. И, – открыв глаза и посмотрев пристально на Маргарет, – я верю, возможно, больше, чем вы, в то, что нам предопределено. Я читала книгу Откровения до тех пор, пока не выучила ее наизусть. И я никогда не сомневаюсь, когда бодрствую и в здравом уме, что приду к блаженству.
– Давай не будем говорить о том, какие фантазии приходят тебе в голову, когда ты в лихорадке. Я бы хотела услышать о том, как вы жили, когда ты была здорова.
– Я думаю, что была еще здорова, когда мама умерла, но с тех пор я никогда не чувствовала себя достаточно сильной. Я начала работать в чесальном цехе, пух попал в мои легкие и отравил меня.
– Пух? – переспросила Маргарет.
– Пух, – повторила Бесси, – маленькие волокна хлопка. Когда его расчесывают, они летают в воздухе, будто мелкая белая пыль. Говорят, он оседает на легких и сжимает их. Почти все, кто работает в чесальном цехе, чахнут, кашляют и плюют кровью, потому что они отравлены пухом.
– Но разве им нельзя помочь? – спросила Маргарет.
– Откуда мне знать? Иногда в чесальных цехах ставят такое большое колесо, оно крутится, от него начинается сквозняк и выгоняет пыль. Но колесо стоит очень дорого, пятьсот или шестьсот фунтов, и не приносит выгоды. Поэтому только несколько хозяев поставили его. И я слышала, будто многим не нравится работать там, где стоит это колесо, потому что из-за него они сильнее чувствуют голод, ведь они уже привыкли глотать пух, а теперь обходятся без него, и еще, если нет колеса, им больше платят. Поэтому колесо не нравится ни хозяевам, ни рабочим. Но я знаю, что хотела бы работать в том месте, где стоит колесо.
– Твой отец знал об этом? – спросила Маргарет.
– Да! И он очень сожалел. Но наша фабрика была самой лучшей, там работали хорошие люди, а отец боялся отпустить меня в незнакомое место. Многие тогда называли меня красивой, хотя теперь вам бы это и в голову не пришло. Мне не нравилось, когда обо мне слишком пеклись, а мама все твердила, что Мэри нужно учиться, а отец все покупал книги и ходил на разные лекции. Нужно было много денег, поэтому я просто работала, и теперь, в этой жизни, я никогда не избавлюсь от этого непрерывного шума в ушах и пуха в горле. Вот и все.
– Сколько тебе лет? – спросила Маргарет.
– В июле будет девятнадцать.
«И мне тоже девятнадцать», – подумала Маргарет, грустно глядя на Бесси, – контраст между ними был слишком очевиден. С минуту или две она не могла говорить, пытаясь справиться с подступившими слезами.
– И еще я хотела сказать о Мэри, – продолжала Бесси. – Я хотела попросить вас быть ей другом. Ей семнадцать, и она – последняя в нашей семье. И я не хочу, чтобы она пошла на фабрику, и еще я думаю, что она не подходит для такой работы.
– Но она не смогла бы… – Маргарет бессознательно взглянула на грязные углы комнаты. – Она едва ли могла бы работать служанкой, не правда ли? У нас есть одна преданная служанка, почти друг, ей требуется помощь, но она очень требовательная, и было бы несправедливо нанять ей помощницу, которая только раздражала бы ее.
– Да, я понимаю. Вы правы. Наша Мэри – хорошая девушка, но кто учил ее помогать по дому? Матери не было, я работала на фабрике и совсем ей не помогала, а только ругала за то, что она все делает плохо, потому что не знает, как нужно делать. Но если бы она могла жить у вас, несмотря на все ее недостатки…
– Но даже если она не сможет работать у нас как служанка, я постараюсь всегда быть для нее другом ради тебя, Бесси. А теперь я должна идти. Я приду снова, как только смогу. Но если я не приду завтра, или на следующий день, или даже через неделю, или через две недели, не думай, что я забыла тебя. Я могу быть занята.
– Я буду знать, что вы не забудете обо мне. Я не буду опять сомневаться в вас. Но помните, что через неделю или две я могу умереть и меня похоронят.
– Я приду, как только смогу, Бесси, – сказала Маргарет, крепко пожимая ей руку. – Но ты сообщишь мне, если тебе станет хуже.
– Да, конечно, – ответила Бесси, пожимая ей руку в ответ.
В последние дни миссис Хейл чувствовала себя все хуже и хуже. Почти год прошел со дня свадьбы Эдит, и, вспоминая скопившиеся за год беды и трудности, Маргарет удивилась, как они смогли их вынести. Если бы она могла предвидеть то, что случилось, она убежала бы и спряталась от грядущих событий. И все же дни шли за днями, и каждый из дней был чуть лучше предыдущего – среди всех горестей проблескивали маленькие яркие искры нежданной радости. Год назад, когда Маргарет вернулась в Хелстон и впервые стала замечать склонность матери к постоянным жалобам и недовольству судьбой, она бы горько застонала при одной мысли о том, что мать может всерьез заболеть и им придется бороться за ее здоровье в незнакомом шумном и деловитом городе, лишив себя привычных удобств деревенской жизни. Но с появлением более серьезной и объективной причины для жалоб миссис Хейл стала проявлять терпение. Она была столь же нежной и спокойной, испытывая телесные страдания, сколь беспокойной и подавленной была когда-то, не имея истинной причины для печали. Мистер Хейл что-то предчувствовал, но, как свойственно мужчинам его склада, закрывал глаза на явные признаки грядущего несчастья. Однако он был более раздражен, чем обычно, и Маргарет, как его дочь, знала, что в этом выражается его беспокойство.
– В самом деле, Маргарет, ты становишься слишком впечатлительной! Клянусь, я бы первым забил тревогу, если бы твоя мама по-настоящему заболела. Мы всегда замечали, когда в Хелстоне у нее болела голова, даже если она не говорила нам об этом. Она выглядит очень бледной, когда болеет. А сейчас у нее здоровый румянец на щеках, такой же, как и тогда, когда я впервые познакомился с ней.
– Но, папа, – возразила Маргарет нерешительно, – ты знаешь, я думаю, это лихорадочный румянец.
– Чепуха, Маргарет. Говорю тебе, ты слишком впечатлительная. Я считаю, что это ты не очень хорошо себя чувствуешь. Пошли завтра за доктором для себя. А потом, если это успокоит тебя, он может осмотреть твою маму.
– Спасибо, милый папа. Это правда успокоит меня. – И она подошла к нему, чтобы поцеловать.
Но мистер Хейл отстранил ее нежно, но молча, словно она рассердила его своими предположениями, от которых он был бы рад побыстрее избавиться, так же как и от ее присутствия. Он беспокойно заходил по комнате.
– Бедная Мария! – произнес он, будто бы разговаривая с самим собой. – Если бы каждый мог поступать правильно, не жертвуя другими… Я буду ненавидеть этот город и себя тоже, если она… Прошу, Маргарет, скажи, твоя мама часто говорит с тобой о Хелстоне?
– Нет, папа, – ответила Маргарет печально.
– Ты же понимаешь, она не может не огорчаться из-за него, да? Я всегда был уверен, что твоя мама такая простая и искренняя, что я знаю все ее маленькие обиды. Она никогда бы не стала скрывать ничего серьезного, угрожающего ее здоровью, от меня, не так ли, Маргарет? Я вполне уверен, что не стала бы. Поэтому не позволяй мне верить в эти твои глупые, нездоровые фантазии. Подойди поцелуй меня и иди спать.
Но она слышала, как он ходит по кабинету («бегает, как енот», как говорили они с Эдит в детстве), и, хотя была сильно утомлена, еще очень долго лежала в постели без сна, прислушиваясь к его шагам.
Глава XIV
Мятеж
Саути
- Я привыкла спать ночами сладко, как дитя,
- Но теперь, если резко подует ветер, я вздрагиваю
- И думаю о моем бедном мальчике, которого качает
- В бурном море. И тогда мне кажется,
- Я чувствую, как бессердечно было забрать его от меня
- За такой небольшой проступок.
В эти дни Маргарет радовало лишь то, что между ней и матерью установились более нежные и доверительные отношения, чем в детстве. Миссис Хейл стала относиться к дочери как к близкой подруге, именно об этом Маргарет всегда мечтала, завидуя Диксон, которой миссис Хейл поверяла все свои мысли и тревоги. Маргарет старалась выполнить любые просьбы матери, даже если они казались ей пустяковыми. Она сердилась не больше, чем слон, который посадив крохотную занозу, покорно поднимает ногу по приказу погонщика. И Маргарет вскоре получила награду за свое терпение.
Однажды вечером, когда мистера Хейла не было дома, миссис Хейл заговорила с дочерью о ее брате Фредерике. Именно о нем Маргарет всегда так мечтала расспросить мать, но робость побеждала ее природную прямоту. Чем больше она стремилась узнать о нем, тем сложнее ей было начать разговор.
– О Маргарет, прошлой ночью было так ветрено! Ветер завывал даже в камине у нас в комнате! Я не могла уснуть. Я совсем не могу спать при таком ужасном ветре. Я привыкла не спать, когда бедный Фредерик был в море. И теперь, если я не сразу проснулась из-за ветра, я вижу во сне, как его корабль в бурном море окружают волны, огромные, прозрачные, как зеленое стекло, просто водяные стены с каждой стороны, они намного выше мачт и закручиваются над кораблем этой ужасной, злой белой пеной, будто кольца гигантской змеи. Это старый сон, но он всегда возвращается ветреными ночами, я просыпаюсь и сижу, цепенея от ужаса, в своей постели. Бедный Фредерик! Сейчас он на суше, поэтому ветер не может причинить ему вреда, пусть даже ветер будет настолько силен, что сломает эти высокие трубы.
– Где сейчас Фредерик, мама? Наши письма адресованы господам Барбур в Кадисе, это я знаю, но где он сам?
– Я не помню названия места, но он изменил фамилию. Ты должна запомнить это, Маргарет. Помечай «Ф. Д.» в уголке каждого письма. Он взял фамилию Диккенсон. Я бы хотела, чтобы он взял фамилию Бересфорд, на которую он имеет право, но твой отец решил, что не стоит. Его могут узнать, ты понимаешь, если он назовется моим именем.
– Мама, – сказала Маргарет, – я была у тети Шоу, когда все случилось. И думаю, из-за того, что я тогда была слишком маленькой, мы не могли поговорить откровенно. Но теперь мне хотелось бы знать, если можно… если тебе не будет больно говорить об этом.
– Боль! Нет, – ответила миссис Хейл, ее щеки вспыхнули. – Мне больно думать, что я больше никогда не увижу моего дорогого мальчика. Но он поступил правильно, Маргарет. Они могут говорить все что угодно, но у меня есть его собственные письма, и я поверю ему, моему сыну, охотнее, чем любому военному трибуналу. Подойди к моему японскому шкафчику, дорогая, и во втором ящике слева ты найдешь пачку писем.
Маргарет выполнила просьбу. Там были желтые, испорченные морской водой листки, с тем особенным запахом, которым пропитаны письма моряков. Маргарет принесла их матери, та развязала шелковую ленточку дрожащими пальцами и, сверив даты, дала Маргарет прочитать их, поспешно и взволнованно пересказывая их содержание еще до того, как дочь успела пробежать глазами страницу.
– Ты видишь, Маргарет, они с самого начала невзлюбили этого капитана Рейда. Он был вторым лейтенантом на их корабле, «Орионе», на котором Фредерик плавал тогда. Бедняжка, как он был хорош в своей форме гардемарина, с кортиком в руке, он разрезал им все газеты, будто это был нож для бумаги! Но этот мистер Рейд просто возненавидел нашего Фредерика. А потом… подожди! Эти письма он писал с борта «Расселла». Когда его назначили на этот корабль, он обнаружил в команде своего старого врага, капитана Рейда, и был готов терпеливо сносить его придирки. Посмотри! Вот это письмо. Прочти его, Маргарет. Где он говорит это… стой!.. «Мой отец может быть уверен во мне, я снесу с надлежащим терпением все, что один офицер и джентльмен может стерпеть от другого. Но, зная о прошлом моего нынешнего капитана, я признаю, что с опасением ожидаю, что его жестокость даст о себе знать и на борту „Расселла“». Ты видишь, он обещал сносить все терпеливо, и я знаю, он так и делал, потому что он был самым добрым и покладистым мальчиком, когда его не сердили. Это то письмо, где он рассказывает о капитане Рейде – о том, как он разозлился на свою команду, потому что те не так быстро ставили паруса, как команда «Мстителя»? Видишь, он рассказывает, что у них на борту «Расселла» было много новичков, в то время как «Мститель» находился почти три года в порту и командиры ничего не делали, а только муштровали своих людей, заставляй их бегать вверх и вниз по снастям, подобно крысам или обезьянам.
Маргарет медленно читала письмо, наполовину неразборчивое из-за выцветших чернил. Это могло быть… возможно, это и было… обвинение капитана Рейда в излишней жестокости, может намного преувеличенное рассказчиком, который написал его, еще не остыв от ссоры. Несколько моряков находились наверху на снастях марселя, капитан приказал им спуститься наперегонки вниз, угрожая тому, кто спустится последним, плеткой-девятихвосткой. Фредерик стоял на дальнем конце балки и понял, что не сможет обогнать своих товарищей, но все же, опасаясь бесчестья, отчаянно бросился вниз, не смог перехватить веревку, сорвался и упал на палубу без чувств. Он пришел в себя спустя несколько часов; возмущение команды корабля достигло предела, когда молодой Хейл писал эти строки.
– Но мы еще долго не могли получить это письмо, очень долго, и получили его уже после того, как услышали о мятеже. Бедный Фред! Надеюсь, ему стало хоть немного легче, когда он написал нам, хотя он и не знал, как отправить его, бедняга! А потом, то есть задолго до того, как письмо Фреда дошло до нас, мы увидели сообщение в газетах о жестоком мятеже, вспыхнувшем на борту «Расселла», и о том, что мятежники захватили корабль и стали пиратами. И что капитан Рейд был посажен в лодку и брошен на произвол судьбы, с ним находилось еще несколько офицеров, их позднее подобрал пароход из Вест-Индии. О Маргарет! Мы с твоим отцом обезумели от горя, увидев список спасенных, в котором не было имени Фредерика Хейла. Мы подумали, что произошла какая-то ошибка, потому что бедный Фред был таким хорошим мальчиком, только, возможно, чересчур вспыльчивым. И мы надеялись, что они напечатали «Халл» вместо «Хейл», газеты так небрежны. И на следующий день к тому времени, как привозят почту, папа отправился в Саутгемптон получить газеты. Я не могла оставаться дома, поэтому пошла встретить его. Он опаздывал, очень сильно опаздывал. Я села у изгороди и стала ждать его. Наконец он появился с поникшей головой и ступал так тяжело, как будто каждый шаг давался ему с трудом. Маргарет, теперь я понимаю его.
– Не продолжай, мама. Я все понимаю, – сказала Маргарет, наклоняясь к матери и с нежностью целуя ей руку.
– Нет, ты не понимаешь, Маргарет. Никто не поймет, кто не видел его тогда. Я едва могла подняться и встретить его… Все, казалось, закружилось вокруг меня. И когда я подошла к нему, он ничего не сказал и, казалось, удивился, увидев меня там, в трех милях от дома, возле Олдемского бука. Он взял мою руку в свою и гладил ее, как будто хотел успокоить меня, чтобы я мужественно встретила тяжелый удар. Но я задрожала так, что не могла говорить, и он обнял меня и, прижав свою голову к моей, начал раскачиваться и плакать и тихо, едва слышно стонать, а я стояла смирно и только просила рассказать мне, что он узнал. А потом он резко дернул рукой, как будто кто-то двигал ею против его воли, и протянул мне эту мерзкую газету, которая называла нашего Фредерика «отъявленным негодяем» и «подлым и неблагодарным предателем». О, чего только они не наговорили! Я разорвала газету на мелкие кусочки… О, поверь, Маргарет, я бы порвала ее зубами. Я не плакала. Я не могла. Мои щеки горели как в огне, и мои глаза жгло огнем. Я заметила, что твой отец серьезно смотрит на меня. Я сказала, что это все ложь, и так оно и было. Месяцы спустя пришло это письмо, и ты видишь, что Фредерик не виновен ни в чем. Все случилось не из-за него, а из-за этого капитана Рейда. И, ты видишь, большинство матросов поддержали Фредерика… И, Маргарет, – продолжала она после паузы слабым, дрожащим, измученным голосом, – я даже рада этому… Я горжусь, что Фредерик воспротивился несправедливости, он был не просто хорошим офицером, он сделал больше…
– Как и я, – ответила Маргарет твердым, решительным голосом. – Верность и покорность прекрасны, когда мы покоряемся мудрости и справедливости. Но достойный человек не станет терпеть деспотичную власть, что действует несправедливо и беспощадно, себе во благо, презирая слабых и беспомощных.
– И все-таки я бы хотела увидеть Фредерика еще раз, только один раз. Он был моим первенцем, Маргарет. – Миссис Хейл говорила тихо и печально, словно извиняясь за свое желание, за то, что она как будто не ценила своего оставшегося ребенка.
