Дневник незнакомца
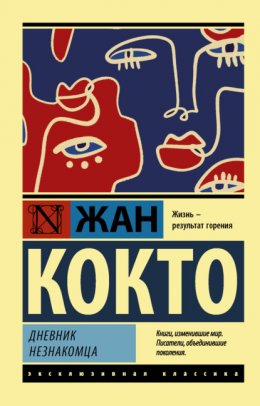
Jean Cocteau
JOURNAL D’UN INCONNUE
Печатается с разрешения Lester Literary Agency.
© Editions Grasset & Fasquelle, 1953
© Перевод. М. Л. Аннинская, наследники, 2019
© Издание на русском языке AST Publishers, 2021
Исключительные права на публикацию книги на русском языке принадлежат издательству AST Publishers.
Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.
Жан Морис Эжен Клеман Кокто (1889–1963) – одна из самых значимых фигур не только французской, но и общеевропейской культуры XX века. Талантам этого человека нет предела: он был в равной степени одарен как поэт, прозаик и драматург, художник, сценарист и кинорежиссер. Он писал либретто для опер и балетов и делал эскизы гениальных витражей. И везде и всегда он оставался собой – причудливым, неуловимым Кокто, воплощавшем в искусстве свои загадочные видения.
Посвящение
Мой дорогой Рене Бертран,
Я вас не знал, как не знают теневой стороны мира, которая и является предметом вашего исследования.
Вы стали мне другом, услышав меня по радио. Я говорил: «Время – это особый вид перспективы». Вот пример, когда бросают семена наугад, а они попадают куда надо. Я писал эти заметки, думая о вас, о пессимизме вашей книги «Единичность и единство вселенной», о пессимизме оптимистическом, потому что вы исследуете наш бренный мир, возделывая свои виноградники.
Позвольте напомнить вам недавнее дело Эйнштейна, о котором писала американская пресса и которое так вам понравилось.
В Филадельфийский университет пришло письмо одного ученого, который обнаружил серьезную ошибку в последних вычислениях Эйнштейна. Письмо передали Эйнштейну. Тот заявил, что ученый – серьезный и что если кто-то может его, Эйнштейна, в чем-нибудь уличить, то пусть сделает это публично. В большом конференц-зале университета собрали профессоров и журналистов. На эстраду водрузили черную доску.
В течение четырех часов ученый испещрял доску непонятными знаками. Наконец он ткнул в один из них и заявил: «Ошибка здесь». Эйнштейн взошел на эстраду, долго смотрел на указанный знак, затем стер его, взял мел и вписал на его место другой.
Тогда обвинитель закрыл лицо руками, хрипло вскрикнул и выбежал из зала.
У Эйнштейна попросили разъяснений, и он ответил, что потребовалось бы несколько лет, чтобы понять, в чем тут дело. Черная доска на эстраде глядела с загадочностью Джоконды. Что я говорю? Она скалилась улыбкой абстрактной картины.
Если бы один из нас должен был уличить другого, то это были бы вы, а я бы убежал без оглядки. Но я не поставлю вас перед необходимостью подвергать меня такому позору.
Как бы там ни было, связь между нами именно такого рода, и я имею не больше надежд на успех моих записок, чем вы – на успех ваших книг. Есть правда, которую тяжело высказать. Она лишает нас комфорта. Она силой поднимает крыло, под которое человек прячет голову. Такая позиция могла бы быть понятной, если бы человек не зашел слишком далеко и не было бы слишком поздно прятать голову после того, как он столько раз повторял: «Испугай меня». Кроме того, у правды переменчивое лицо: человек может смотреть в него без опаски, потому что все равно его не узнает.
Примите это посвящение как знак уважения невидимого человека – своему коллеге.
Жан Кокто. Февраль 1952, Сен-Жан-Кап-Ферра
Преамбула
Я не претендую на то, чтобы построить фабрику невидимого, я хочу действовать по примеру ремесленника в той области, где от меня требуется больше кругозора, чем у меня есть.
Я хочу сесть у собственной двери и постараться понять – почувствовать руками, – на чем основана индустрия мудрости.
Не имея для этого исследования ни инструментов, ни четких указаний, я должен взяться за починку стула, на котором привыкла сидеть душа – душа, а не тело.
Я часто и с таким удовольствием наблюдал за уличными ремесленниками, что, возможно, сумел бы порадовать людей, которые от этого зрелища и от этих кустарных изделий получают то же удовольствие, что и я.
Один ученый сказал мне однажды, что мы гораздо ближе соприкоснулись бы с тайной, если бы не были скованы доктринами, и с удачей, если бы чаще ставили на разные цифры вместо того, чтобы удваивать ставки. Он сказал, что наука не поспевает за веком, потому что постоянно занята пересчетом собственных ног, и что школьные прогулы вернее всего направляют нас по верному пути. Что целые стаи гончих сбивались со следа, в то время как добычу чуяла дворняга. Короче говоря, я приношу тысячу извинений за свое невежество и прошу позволить мне починить стул.
Посредственно играя на скрипке, Энгр дал нам такое удобное выражение, что теперь задаешься вопросом, а как же говорили до него.
«Лук с несколькими тетивами» – т. е. на все руки мастер – не вполне соответствует контексту. Если бы Леонардо родился после Энгра, про него, наверное, сказали бы, что он виртуозно играл одновременно на нескольких скрипках.
У меня нет ни телескопов, ни микроскопов. Я лишь немного умею плести веревки и выбирать гибкий тростник.
Я отстаиваю права духовного ремесленничества. Мелкое производство не в чести в нашу эпоху крупных предприятий. Но оно представляет единичное, над которым нависла гигантская волна множественности.
P. S. Живя за городом, я обнаружил – и Монтень объясняет это лучше меня, – что воображение, если его не направлять на определенный предмет, распоясывается и распыляется на что попало. Этот дневник, каждая его глава, не более чем гимнастика. Для праздного ума, пробующего сконцентрироваться на чем-нибудь из страха потерять себя от безделья.
О невидимости
Способна на все. Порой неожиданно возникает вопрос: не являются ли шедевры всего лишь алиби?
«Попытка непрямой критики»
Невидимость представляется мне необходимой частью изящества. Изящество исчезает, если его видно. Поэзия – воплощенное изящество – не может быть видимой. Тогда для чего, скажете вы, она нужна? Ни для чего. Кто ее увидит? Никто. И все же она – посягательство на целомудрие, хотя эксгибиционизм ее заметен только слепцам. Поэзия выражает определенную мораль. Эта мораль принимает форму произведения. Произведение стремится жить собственной жизнью. Оно порождает тысячу недоразумений, которые называют славой.
Слава абсурдна тем, что является следствием стадного чувства. Толпа, собравшаяся на месте происшествия, пересказывает события, домысливает их, перевирает до тех пор, пока те не изменятся до неузнаваемости.
Красота – всегда результат неожиданного происшествия, внезапного перепада от устоявшихся привычек – к привычкам, еще не устоявшимся. Красота вызывает оторопь, отвращение. Иногда омерзение. Когда новое войдет в привычку, происшествие перестанет быть происшествием. Оно превратится в классику и потеряет шокирующую новизну. Собственно говоря, произведение так и остается непонятым. С ним смиряются. Эжен Делакруа, если не ошибаюсь, заметил: «Нас никогда не понимают, нас „допускают“». Эту фразу часто повторяет Матисс. Те, кто в самом деле видел происшествие, уходят потрясенные, не способные ничего объяснить. Те, кто ничего не видел, выступают в роли свидетелей. Они высказывают свое мнение, используя событие как повод обратить на себя внимание. А происшествие остается на дороге, окровавленное, окаменевшее, ужасающее в своем одиночестве, оболганное пересудами и донесениями полиции.
Неточность этих пересудов и донесений объясняется не только невнимательностью. У нее более глубокие корни. Она сродни мифу. Человек пытается спрятаться в миф от самого себя. Для этого все способы хороши[1]. Наркотики, спиртное, ложь. Будучи не способен уйти в себя, он меняет внешность. Ложь и неточность приносят ему кратковременное облегчение, маленькие радости маскарада. Человек отрешается от того, что чувствует и видит. Он придумывает. Преображает. Мистифицирует. Творит. Он ликует, чувствуя себя художником. Он копирует – в миниатюре – художников, которых сам же обвиняет в безумстве.
Журналисты это чуют и знают. Неточность прессы, усугубляющаяся крупными заголовками, утоляет жажду ирреального. Здесь, увы, нет силы, которая бы способствовала преобразованию объекта-модели в произведение искусства. Но даже это банальное преобразование доказывает потребность в легенде. Точность разочаровывает толпу, жаждущую фантазировать. Разве наша эпоха не породила понятия «бегства», в то время как единственный способ убежать от себя – это дать себя завоевать?
Вот фантазию и ненавидят. Люди путают ее с поэзией, которая только из стыдливости прикрывает свою алгебраическую структуру. Реализм фантазии – это реализм непривычной реальности, неотделимой от поэта, который ее открыл и пытается ее не предать.
Поэзия есть религия без надежды. Поэт отдается ей целиком, прекрасно понимая, что его шедевр в конечном счете всего лишь номер с дрессированной собачкой на шатком помосте.
Разумеется, он тешит себя мыслью, что его творение – часть какой-то большой мистерии. Но эта надежда – результат того, что всякий человек есть тьма (заключает в себе тьму), что труд художника в том и состоит, чтобы свою тьму вывести на свет, а эта вековая тьма дает человеку в его ограниченности беспредельное продолжение, дарующее ему облегчение. И тогда человек становится похож на спящего паралитика, грезящего, будто он ходит.
Поэзия есть мораль. Я называю моралью потаенную линию поведения, своеобразную дисциплину, которая построена и осуществляется в соответствии со склонностями человека, отрицающего категорический императив – императив, сбивающий работу механизма.
Эта особая мораль может даже представляться аморальностью в глазах тех людей, которые лгут себе или живут как придется, в результате чего ложь заменяет им истину, а наша истина видится им ложью.
Я исходил именно из этого принципа, когда писал, что Жене – моралист и что «я ложь, которая всегда говорит правду». Ослы набросились на эту фразу, как на сочную траву. Стали по ней валяться. Эта фраза означала, что с социальной точки зрения человек – ложь. Поэт пытается победить эту социальную ложь, особенно если она ополчилась против его собственной особой правды и обвиняет его самого во лжи.
Нет ничего ожесточенней, чем оборона множественности против единичности. Попугаи из всех клеток горланят: «Он лжет. Он дурачит», а мы во что бы то ни стало стараемся быть честными. Как-то раз одна молодая женщина, спорившая со мной, воскликнула: «У нас с тобой разные правды!» Надеюсь, что так.
Собственно, как бы я мог лгать? Относительно чего? С какой целью? В качестве кого? С одной стороны, я слишком ленив, с другой – слишком чту внутренние приказы, которым подчиняюсь, которые заставляют меня преодолевать лень и не терпят оглядок на чужое мнение.
Иногда я бываю настолько загипнотизирован моей своей моралью, что не слышу упреков (в «Петухе и Арлекине» я написал: «В нас живет ангел. Мы должны быть его хранителями»). Собственную мораль я оттачиваю до такой степени, что собираю вокруг себя друзей, которые не прощают ни малейшей ошибки и следят за мной строгим оком. Друзей, чьи доброта, достоинства и добродетели доведены до такого накала, что выливаются в злобу, несовершенства и пороки.
Произведением я называю пот, выделяемый этой моралью.
Всякое произведение, не являющееся потом морали, всякое произведение, не являющееся упражнением для души, требующим более сильного напряжения воли, чем любое физическое усилие, всякое слишком видимое произведение (потому что личная мораль и вытекающие из нее произведения не могут быть видимы тем, кто живет вообще без какой бы то ни было морали и ограничивается соблюдением свода правил), всякое легко убеждающее произведение декоративно и надуманно. Оно может нравиться постольку, поскольку не требует разрушения личности слушающего и замены ее личностью говорящего. Оно позволит критикам и тем, кто им внемлет, распознать его с первого беглого взгляда и соотнести себя с ним. Меж тем красота не распознается с беглого взгляда.
Эта обретшая форму мораль будет оскорбительной. Она убедит лишь тех, кто сумеет отречься от себя перед мощью, и тех, кто любит сильнее, чем восхищается. Она не потерпит ни избирателей, ни почитателей. Она окружит себя только друзьями.
Если дикарь испытывает страх, он лепит бога страха и молится ему, чтобы бог избавил его от страха. Он боится бога, порожденного страхом. Он исторгает из себя страх, придавая ему форму предмета, который становится произведением именно в силу страха, – и табу, потому что предмет, порожденный слабостью духа, превращается в силу, заставляющую дух измениться. Вот почему произведение, порожденное личной моралью, отделяется от этой морали и черпает в ней напряжение, способное зачастую убедить в обратном и изменить те чувства, которые легли в его основу.
Некоторые философы размышляют над вопросом, человек ли дает своим богам имена или сами боги внушают человеку, как их назвать, – иными словами, сочиняет ли поэт или получает указание свыше и выступает в роли жреца.
Это старая история: вдохновение, являющееся на самом деле выдохом, – ведь поэт действительно получает указания из тьмы веков, сконцентрированной в нем самом, тьмы, в которую он не может спуститься и которая, стремясь к свету, использует поэта в качестве обыкновенного проводникового механизма.
Этот проводниковый механизм поэт обязан беречь, чистить, смазывать, проверять, глаз с него не спускать, чтобы он в любой момент был готов к тому странному назначению, которое ему уготовано. Именно заботу (неусыпную) об этом механизме я и называю личной моралью, требованиям которой необходимо подчиняться, особенно когда все, кажется, доказывает, что это тягостное подчинение вызывает лишь порицание.
Такое повиновение требует смирения, отказаться от него значило бы творить по собственному разумению, подменять неизбывное орнаментом, мнить себя выше собственной тьмы и, стремясь понравиться, подчиняться другим – вместо того, чтобы предъявить всем наших собственных богов и заставить в них поверить.
Случается, что наше смирение вызывает ненависть тех, кто не уверовал, и тогда нас обвиняют в гордыне, в хитрости, в ереси и публично сжигают на площади.
Но это неважно. Мы ни на миллиметр не должны отходить от нашей задачи, тем более трудной, что она неминуема, нам не понятна, и за ней не мелькает даже проблеск надежды.
Только мелочно-тщеславное племя способно рассчитывать на посмертное торжество справедливости, но поэту от этого не легче, он мало верит в земное бессмертие. Все, что он хочет, – удержаться на проволоке, в то время как главная забота его соотечественников – скинуть его оттуда.
Из-за того, что мы балансируем на проволоке над бездной, нас, вероятно, и называют акробатами, а когда вытаскивают на свет наши секреты, то их называют поистине археологическими находками; в результате нас принимают за фокусников.
Я сбежал из Парижа. Там практикуют мексиканскую пытку. Жертву обмазывают медом. Потом отдают на съедение муравьям.
К счастью, муравьи пожирают также друг друга, поэтому успеваешь сбежать.
Я оставил припорошенные серым снегом дороги и перебрался в дивный сад виллы «Санто-Соспир», которую всю, точно живую, разрисовал татуировками. Теперь это надежное убежище: молодая хозяйка старательно оберегает уединение виллы.
Воздух здесь кажется здоровым. В траву падают лимоны. Но, увы, Париж пристал к душе, и я тяну за собой его черную нить. Сколько понадобится терпения, чтобы дождаться, пока клей подсохнет, превратится в корку и отвалится сам. Йод и морская соль сделают свое дело. Тогда с меня сойдет грязь клеветы, которой я измазан с ног до головы.
Начинается курс терапии. Мало-помалу он превращается в орестову баню. Кожа души очищается.
Из поэтов я, наверное, самый неизвестный и самый знаменитый. Порой это вызывает грусть: быть знаменитым неуютно, я предпочитаю, чтобы меня любили. Грустно оттого, наверное, что грязь въедается, и все во мне восстает против нее. Но, поразмыслив, я нахожу мою печаль смешной. Тогда я обнаруживаю, что моя видимая сторона, сотканная из нелепых легенд, оберегает мою невидимую часть, окружает ее толстой броней – сверкающей, способной стойко отражать удары.
Когда люди думают, что больно задевают меня, они на самом деле задевают кого-то другого, кого я и знать не хочу, и если в изображающую меня восковую куклу втыкают булавки, то эта кукла так на меня не похожа, что колдовство отправляется не по адресу и не достигает цели. Я отнюдь не хвалюсь тем, что вот, мол, какой я неуязвимый, – но моя странная судьба нашла способ сделать неуязвимым сидящего во мне проводника.
В прежние времена вокруг художника складывался молчаливый заговор. Вокруг современного художника складывается заговор шумный. Нет ничего, что бы не обсуждалось и не обесценивалось. На Францию напал головокружительный приступ саморазрушения. Она подобна Нерону – убивает самое себя с криком: «Какого художника я предаю смерти!» Убивать себя стало для Франции делом чести, она гордится тем, что попирает собственную гордость. Французская молодежь забилась в подвалы и на презрение, которым ее обливают, реагирует вполне оправданным отпором – кроме того случая, когда ее посылают в бой.
В таком вавилонском хаосе слов и понятий поэту следует радоваться, если он имеет возможность выстроить и применить на деле собственную мораль: он находится в изоляции безвинно осужденного, который глух к затеянному против него процессу и не пытается доказывать собственную невиновность, он забавляется приписываемыми ему преступлениями и даже не возражает против смертного приговора.
Невиновный понимает, что невиновность преступна в силу отсутствия состава преступления и что лучше уж пусть нас обвиняют в действительно содеянном преступлении, которое хотя бы можно опровергнуть, чем в вымышленных злодеяниях, против которых реальность бессильна.
Убийство привычки в искусстве узаконено. Свернуть ей шею – задача артиста.
Наша сумбурная эпоха попалась, кстати сказать, в ловушку художников: она постепенно привыкла сравнивать картины не с моделью, а с другими картинами. Вот и получается, что усилия, затраченные на то, чтобы преобразовать модель в произведение искусства, остаются для нее китайской грамотой. Единственное, что испытывает зритель, это шок от нового сходства: сходства нефигуративных картин между собой (как он считает), основанного лишь на том, что старого сходства теперь стараются избегать. Своей беспредметностью, которую зритель принял, эти картины дают ощущение уверенности, потому что в них ему видится победа над предметностью. Пикассо всегда драматичен, независимо от того, представляет ли он свои модели дивно обезображенными или изображает лица такими, как есть. Пикассо все сходит с рук из-за его широчайшего диапазона и потому еще, что даже передышку в его гонке принимают как должное, но позволить себе такое может только он. В результате приходится слышать замечания вроде того, что высказал мне по телефону один молодой человек, увидев в Валлорисе последние работы Пикассо: «Это невероятные картины, хотя и фигуративные».
Такие молодые люди глухи к смелым экспериментам художника, который завтра буре противопоставит тишь, вернется к фигуративности, исподволь наполнив ее подрывной мощью, бунтом против привычек, утвердившихся настолько, что никакой другой художник не отважится сделать себя жертвой подобного события. А если и отважится, то его сочтут несовременным, какие бы чудеса героизма он ни являл.
Эта будущая жертва должна обладать очень сильной моралью, потому что творения ее будут лишены традиционных атрибутов скандальности, скандальность будет состоять именно в ее отсутствии.
Я сам познал подобное одиночество, когда преодолел препятствие, скрывавшее от меня дорогу. (К этому времени я уже сбился с пути.) Для меня это был прыжок, больше похожий на падение, в результате которого я очутился в кругу коллег, воспринявших это так, будто я перелез через ограду и, не обращая внимания на злых собак, вторгся в чужие владения[2].
Это мое одиночество продолжается, я начал к нему привыкать. То, что я создаю, всякий раз противоречит чему-то важному. Произведение рождается подозрительным[3].
Я берусь за столь разные вещи, что не рискую стать привычным. Эта разбросанность обманывает рассеянных, потому что полярность моих занятий полярной не выглядит. Из-за моей разбросанности возникает впечатление, будто я сам не ведаю, что творю, хотя я совершенно осознанно – в книгах, в пьесах, в фильмах – иду наперекор самому себе на глазах у слепой и глухой элиты. Толпа, даже обезличиваясь, не отвергает индивидуальности и, сидя в зале, позволяет соблазнить себя идеей, которая возмутила бы ее, услышь она это в комнате. Не зараженная снобизмом толпа почти всегда меня чуяла. В области театра и кино, разумеется. Зал, купивший билеты, не судит предвзято, он заражается реакцией соседа, безоглядно распахивается навстречу зрелищу – не то что приглашенный зритель: тот упакован в униформу, непроницаемую для любого благого веянья.
Так я приобрел репутацию слабого человека, распыляющего свой дар, – на самом деле я лишь поворачивал так и эдак свой фонарь, чтобы со всех сторон осветить человеческую разобщенность и одиночество свободы суждения.
Свобода суждения обусловлена сосуществованием бесконечного числа противоположностей, которые соединяются между собой, переплетаются, образуют единое целое. Человек считает себя свободным в выборе, потому что колеблется между вариантами, которые в сущности – одно, но которые он разделяет для удобства. Куда мне повернуть, налево или направо? Все равно. Лево и право только с виду противоположны, а в сущности сводятся к одному. Но человек продолжает терзаться и задавать себе вопрос, прав он или нет. Ни то, ни другое – он просто не свободен, ему лишь кажется, будто он выбирает, какому из исключающих друг друга велений подчиниться, на деле же все завязано в хитроумный узел, задающий жесткую канву, только представляющуюся последовательностью событий.
Я заметил, что моя невидимость на расстоянии рискует стать видимой – например в тех странах, где обо мне судят по моим произведениям, пусть даже плохо переведенным, в то время как в моей собственной стране, напротив, о произведениях моих судят по тому образу, который мне сотворили.
Все это весьма туманно. Честно говоря, мне кажется, что видимая часть меня тоже играет определенную роль в том интересе, который я возбуждаю издалека, а ложное представление обо мне интригует. Это заметно во время путешествий: я настолько отличаюсь от моего «афишного» облика, что люди теряются.
В общем, лучше не пытаться распутать эту неразбериху. Все равно функционирование проводника-человека и проводника-произведения – дело непростое, и творения наши проявляют ту же необузданную жажду свободы, что и всякая молодая поросль, которой не терпится вырваться в мир и там выставить себя на продажу.
Рождающемуся произведению грозит тысяча опасностей как изнутри, так и снаружи. Человеческая личность – это темный небосклон, усеянный клетками, плавающими в магнетическом флюиде. Они движутся подобно другим живым или мертвым клеткам, которые мы называем звездами, и пространство между ними находится внутри нас.
Рак, вероятно, происходит от разлада в магнетическом флюиде (нашего неба) и от крошечной неполадки в астральном механизме, работающем на этом самом флюиде.
Магнит выстраивает железные опилки в безукоризненном порядке, их рисунок напоминает иней или узор на крыльях насекомых и цветочных лепестках. Положите постороннее тело (например, шпильку) между одним из полюсов магнита и железными опилками. Те выстроятся в рисунок, и только в одном месте будет сбой – но не в том, где шпилька: ее наличие вызовет нарушение порядка опилок в мертвой точке, вокруг которой они скучатся как попало.
Как найти попавшую внутрь нас шпильку? Наш внутренний узор, увы, слишком подвижен, слишком многообразен и хрупок. Если бы наш палец не был сделан из межзвездного пространства, он весил бы несколько тысяч тонн. Поэтому исследование – вещь деликатная. Судя по всему (коль скоро универсальный механизм – все же механизм, он должен быть прост и состоять из трех элементов, как калейдоскоп)[4], в нас происходит нечто подобное: какой-нибудь заусенец механизма грозит породить анархию идей, нарушить организацию атомов и законы гравитации – то есть то, чем, судя по всему, и является произведение искусства.
Стоит ничтожнейшему постороннему телу попасть на один из полюсов магнита, как наше произведение перерождается в раковую опухоль.
К счастью, едва разум начинает заблуждаться, организм сразу же встает на дыбы. Он спасает нас от болезни, которая могла бы подточить произведение и разрушить его ткань. В «Опиуме» я рассказывал, как мой роман «Ужасные дети» застопорился только потому, что я решил вмешаться и «захотел его написать».
Иногда случается, что шпилька, которую вначале не замечаешь, вносит элемент анархии практически на клеточном уровне и меняет судьбу текста, порождая прямо-таки болезнь обстоятельств, – тогда книги не оправдывают чаянья автора.
Кроме непредвиденных препятствий, заключенных в нашем флюиде, малейшая наша инициатива рискует навредить оккультным силам, требующим от нас пассивности, хотя одновременно мы должны быть активны, чтобы создать этим силам хотя бы видимость соответствия человеческим масштабам. Можно вообразить, как мы должны контролировать себя, находясь в состоянии полусна между сознанием и подсознанием: если контроль будет слишком пристальным, произведение утратит трансцендентность, если слишком слабым – застрянет на стадии сновидения и не дойдет до людей.
Человек увечен. Я хочу сказать, что он ограничен своими физическими параметрами, определяющими его пределы и мешающими ему осознать бесконечность, в которой никаких параметров не существует.
Не столько благодаря науке, сколько со стыда за свою увечность и из-за горячего желания от нее избавиться человеку удается постичь непостижимое. Или хотя бы смириться с тем, что механизм, в котором ему самому принадлежит скромная роль, был задуман не для него[5].
Человек начинает даже признавать, что вечность не может существовать в прошлом, ни стать вечностью в будущем, что она в некотором роде статична, что она есть и этим довольствуется, что минуты равноценны векам, а века – минутам, что вообще нет ни минут, ни веков, а одна лишь вибрирующая, кишащая, устрашающая неподвижность. Человеческая гордыня восстает против этого, и человек начинает верить, что его пристанище – единственное на свете и что сам он – его царь.
Затем наступает разочарование, но человек отталкивает от себя догадку, что его пристанище – не более чем пыль Млечного Пути. Ему претит также печальное знание, что наши клетки столь же чужды нам и не ведают о нашем существовании, как звезды. Ему неприятно себе признаваться, что он живет, возможно, на еще теплой поверхности какого-нибудь отвалившегося от солнца осколка, что осколок этот очень быстро остывает, и существует весьма иллюзорная вероятность, что период его остывания растянется на несколько миллиардов веков. (К вероятности такого типа я еще вернусь.)
По дороге от рождения к смерти, пытаясь бороться со вполне понятным унынием, человек придумал кое-какие игры.
Если он верующий (награда или возмездие, обещанные ему, все равно не соизмеримы с его делами), то главным его лекарством против уныния является вера в то, что в конце пути его ждут вознаграждение или пытки, которые он так или иначе предпочитает идее небытия.
Чтобы победить в себе смятение осознанной причастности к непонятному, человек старается все сделать понятным и списать, к примеру, на счет патриотизма массовые убийства, за которые он считает себя в ответе, – хотя, в сущности, этим возмутительным способом земля лишь пытается стряхнуть с себя блох и уменьшить мучающий ее зуд.
Все это так, и наука, правой рукой врачующая раны, левой изобретает разрушительное оружие, к чему подталкивает ее природа, требующая не столько спасения жертв, сколько содействия в сотворении новых – и все будет продолжаться до тех пор, пока она не уравновесит поголовье человеческих особей, как она регулирует круговорот воды.
К счастью, короткие периоды между ужимками и гримасами земли, когда она полностью меняет контуры континентов, профиль рельефов, глубину морей и высоту горных вершин, кажутся долгими.
Природа наивна. Морис Метерлинк рассказывает, как одно очень высокое дерево выращивало для своих семян парашютики и продолжает это делать до сих пор, хотя выродилось настолько, что превратилось в карликовое растение. В Кап-Негр я видел дикое апельсиновое деревце, ставшее сначала садовым, а потом снова диким и ощетинившееся длинными колючками в том месте, где на него падала тень от пальмы. Достаточно робкого солнечного лучика, чтобы обмануть соки растения, безоглядно подставляющего себя морозам. И так без конца.
Должно быть, ошибкой является само стремление понять, что же происходит на всех этажах дома.
Доисторическое любопытство лежит в основе прогресса, который не более чем упрямое отстаивание ошибочного выбора вплоть до доведения этого выбора до крайних последствий.
Странно, что на земле, стремящейся к своей погибели, искусство еще живо, и его проявления, которые должны по идее восприниматься как проявления роскоши (поэтому некоторые мистики желают его уничтожить), все еще пользуются прежними привилегиями, интересуют стольких людей и даже стали предметом товарообмена. Когда в финансовых кругах заметили, что мысль можно продавать, то сформировались целые банды для извлечения из нее прибыли. Одни мысль генерируют, другие ее эксплуатируют. В результате деньги становятся абстрактней разума. Но разуму в том мало корысти.
Вот эпоха, когда жулики играют на низменной невидимости, называющейся мошенничеством.
Посредник рассуждает так: «Налоговая система меня обкрадывает. Я буду обкрадывать налоговую систему». Его воображение гораздо смелей воображения артиста, на котором он наживается. Он тоже великий артист – в своем роде. Он восстанавливает равновесие, которое держится исключительно на диспропорции и на обмене. Если бы не его махинации, то кровь, накапливаемая нацией, застыла и перестала бы циркулировать.
Природа повелевает. Люди ее не слушаются. Чтобы поддержать перепад в уровнях, которые грозят сравняться, она принуждает их к подчинению, используя их же собственные хитрости. Она хитра, как дикий зверь. Кажется, равно любя жизнь и убийства, она печется только о собственном животе и о том, чтобы продолжить свое незримое дело, которое во внешних проявлениях демонстрирует ее полнейшее равнодушие к скорбям каждого отдельного человека. Но люди видят все иначе. Они желают быть ответственными и сентиментальными. Например, в том случае, когда под завалами останется старушка, или затонет подводная лодка, или спелеолог в расселину упадет, или самолет затеряется где-нибудь в снегах. Когда катастрофа приобретает человеческое лицо. Когда она похожа на людей. Но если размеры катастрофы измеряются цифрой со множеством нулей, если катастрофа анонимна, безлика, то люди теряют к ней интерес – разве что испугаются, как бы бедствие не перешагнуло границы анонимной зоны, не достигло их пределов и не стало бы угрожать их собственной судьбе.
То же самое происходит с летчиком, сбрасывающим бомбы на мир, уменьшенный до таких масштабов, что требуется усилие воображения, чтобы вернуть ему человеческие размеры. Бесчеловечность бомбардировщиков объясняется тем, что они не воспринимают этот масштаб, им кажется, будто бомбы падают на игрушечный мир, в котором человек не мог бы ни жить, ни двигаться.
Бывает иногда, что человеческое воображение летчиков включается в тот момент, когда они уже готовы приступить к бесчеловечному разрушению. Об этом говорится в книге, написанной пилотами, сбросившими бомбы на Хиросиму и Нагасаки[6]. Но и они исполняли приказ, который в свою очередь был отголоском других приказов, относящихся к области невидимого и обслуживающих механизм, о котором я пишу, – это он путает карты, когда речь идет об ответственности.
Но ответственность, помимо гордости, порождает в человеке сознание собственной ответственности, вынуждает его искать себе оправдания и тем самым опять служить невидимому механизму. Потому что, если человек решит уничтожить атомное оружие, то тем не отвратит войну, а наоборот, сделает ее еще более вероятной. Этот совет нашептывает ему на ухо пожирающая самое себя природа, и будет нашептывать, пока не убедит, что атомное оружие нужно для того, чтобы сократить его страдания.
Если судить по моей линии, то можно представить себе, какую опасность (для нас) таит наложение формальных приказов на приказы скрытые. Сама природа (довольно бестолковая) не в состоянии разобраться, что тут к чему, она раздает направо-налево несуразные указания, все кругом падает, после чего она встает посреди наших трупов и снова несется вперед, как упрямое животное.
Астрологи непременно спишут эти падения на счет влияния звезд, хотя на самом деле причиной всему те звезды, что мы носим в себе, наши туманности, и астрологические расчеты дали бы те же самые результаты, если бы ученые уперли свой телескоп – в микроскоп, направленный в себя; там, возможно, они открыли бы небесные знаки нашего рабства.
Рабства относительного, к которому надо еще вернуться.
Мы уж очень вмешиваемся в самих себя. Было бы слишком просто воспользоваться этим предлогом и слишком легко снять с себя ответственность за поступки, идущие вразрез с тем, чего от нас ждут (и что оскорбляет наш собственный мрак).
Какие ошибки я совершил, что в ушах у меня гудит оркестр хулы? И разве не сам я дал к этому повод?
Настал момент спуститься на бренную землю. Коль скоро я обращаюсь к читающим меня друзьям, может, именно благодаря им я смотрю на себя в упор и из обвинителя превращаюсь в обвиняемого. Может, я виню себя справедливо.
Только в чем? В бесчисленных ошибках, за которые на меня обрушиваются молнии гнева не только снаружи, но и изнутри. Бесчисленное количество мелких ошибок, оказывающихся катастрофическими, если принял решение не совершать их и блюсти свою мораль.
Я частенько соскальзывал по склону видимого и хватался за протянутую мне жердь. Следовало проявлять твердость. Я проявлял слабость. Я считал себя неуязвимым. Я говорил себе: «Моя броня меня защитит», – и не чинил образовавшиеся пробоины. А они превращались в бреши, открывавшие доступ врагу.
Я не сразу понял, что публика – это звери о четырех лапах, просто они хлопают передними лапами одна о другую. Я соблазнился аплодисментами. Я повторял себе, что они – компенсация козней. Я совершал преступление, принимая хулу близко к сердцу, а хвалу как должное.
Когда я был здоров, это казалось мне естественным, и я не щадил сил. Заболевая, я изнывал и роптал на судьбу.
Какая уж тут неколебимая мораль? Отдавая себе в этом отчет, я исполнялся отвращения к самому себе и впадал в мрачное настроение, свидетелями которого становились мои друзья. Я их деморализовал. Я настойчиво убеждал их, что вылечить меня невозможно. В своем малодушии я упорствовал до тех пор, пока не прорывался наружу гнев невидимого и меня не охватывал стыд. Переход от одного состояния к другому бывал мгновенным, и мои друзья задавались вопросом, чего ради я морочу им голову.
Под солнцем побережья, где я сейчас обитаю, я раскинул вокруг себя тень. С тех пор, как я взялся переводить чернила, ко мне почти вернулось спокойствие – главное, не задумываться, из ручки текут эти чернила или из моих вен. Потому что тогда я снова впадаю в уныние. Оптимизм мой идет на убыль. Мне кажется, что уныние возвращается потому, что я пытаюсь быть свободным, садясь за работу. Я заражаю унынием окружающих. Я корю себя, сжимаюсь в комок, вместо того чтобы расслабиться – а ведь это та малость, с которой начинается сердечное наслаждение.
Приходит почта из города. Целая пачка. Она рассыпается на сотню конвертов со штемпелями всех стран мира. Мое отчаяние не знает границ. Теперь придется все это читать и сочинять ответы. Секретаря у меня никогда не было. Я пишу сам и сам выхожу открывать дверь. Посетитель заходит. Что движет мной, пагубное желание нравиться? Или страх, что посетитель уйдет? И во мне начинается борьба между отчаянием, что придется терять время, и угрызениями, что письма будут сиротливо – именно так – лежать нераспечатанными.
Если я отвечу, то на мой ответ снова придет ответ. Если прекращу переписку, то посыплются упреки. Если забуду ответить, останется обида. Я уверен, что во мне победит сердце. Но я ошибаюсь. Побеждает слабость, она берет верх над истинным долгом сердца. Но разве не в долгу я у моих близких? Я украл у них время. Кроме того, я обокрал те силы, прислужником которых являюсь. Они мстят мне за то, что я беру сверхурочную работу помимо основной.
Такая вот незадача. Я корю себя за то, что вмешиваюсь в дела неприступно-темной силы, что говорю опрометчивые слова, что упиваюсь разглагольствованиями и вконец теряюсь в нескончаемых пустословных излияниях.
И сам встаю на свою защиту: этот словесный разгул, не является ли он способом довести себя до головокружения, необходимого, чтобы писать, поскольку настоящего умения у меня нет? Если я не заведу этот механизм, то останусь сидеть, как это случается, в прострации, ни о чем не думая. Эта пустота меня пугает, и я пускаюсь в разглагольствования.
Потом я ложусь. Вместо того, чтобы искать спасения в чтении, я пытаюсь найти его во сне. Сны я вижу до крайности сложные и столь правдоподобные в своей нереальности, что, бывает, путаю их с реальностью.
Все это приводит к тому, что границы ответственности и безответственности, видимого и невидимого стираются.
Порой я задаюсь вопросом: а может, я просто-напросто глупец, и тот хваленый ум, который мне приписывают (и который ставят в укор) на самом деле – мираж?
Я подвластен предчувствиям, иногда послушен, иногда строптив, от приступов отваги перехожу к неожиданным наплывам усталости, то промах сделаю, то ловко вывернусь и совершу акробатический трюк, пытаясь удержать равновесие и не упасть на одной из моих лестниц – и в какой-то момент все же оказываюсь глупцом, невразумительным для других и для самого себя, похожим на тех принцев, что во время торжественных приемов ухитряются спать с открытыми глазами.
Не спутал ли я прямолинейность с безропотным повиновением, соединяющим наше колесо с колесом наших слабостей? Не направил ли я свою мораль по мертвой тропе, не завел ли ее в тупик, куда ум отказался за мной следовать? Не пустил ли я свой челн по течению, утверждая, что надо плохо управлять своим челном? Не оказался ли я на необитаемом острове? И теперь меня никто не замечает и не видит знаков, которые я подаю?
Не то чтобы я совсем впал в детство: почти. Детство мое не кончается. Поэтому про меня думают, что я остаюсь молодым, однако детство и молодость – не одно и то же. Пикассо говорит: «Чтобы стать молодым, нужно много времени». Молодость вытесняет детство. Но с течением времени детство снова вступает в свои права.
Моя мать в детство не впадала. Она вернулась в детство перед смертью. Она была старой девочкой, очень живой. Меня она узнавала, но ее детство возвращало меня в мое детство, притом что оба эти детства между собой не сообщались. Старая девочка восседала в центре событий своего детства и расспрашивала старого мальчика о том, как у него дела в коллеже, советуя впредь вести себя хорошо.
Возможно, я унаследовал от матери, на которую похож, это затянувшееся детство, притворяющееся взрослым возрастом, и в нем причина всех моих несчастий. Возможно даже, что невидимое этим воспользовалось. Вполне вероятно, что именно детскости я обязан некоторыми удачными находками, потому что детям неведомо чувство смешного. Детские высказывания сродни бессвязным афоризмам поэтов, и я с радостью сознаю, что говорил подобные вещи.
Только никто не хочет признавать, что детство и старость в нас перемешаны: такие случаи принято считать слабоумием. Но я слеплен именно из этого теста. Порой меня бранят, пилят, не сознавая, что ведут себя со мной как взрослые родственники по отношению к ребенку.
Я, что называется, путаюсь у них под ногами. Как выясняется, этого достаточно, чтобы обвинить меня в том, что-де капуста, съеденная козой, отравлена, хотя до этого мне вменяли в вину, что коза съела капусту.
Таков человек. Проводниковый механизм, чрезвычайно неудобный в употреблении. Вполне естественно, что этот человек-проводник вызывает раздражение у тьмы, ищущей воплотиться в форму. Я мешаю ей своей глупостью.
Здесь, под солнцем Ниццы, которое временами видится мне черным, в зависимости от того, вправо я клонюсь или влево, – я снова становлюсь пессимистом-оптимистом, каким был всегда.
Спрашивается, смог бы я жить иначе или нет, и моя трудность бытия, все эти ошибки, сбивающие мою поступь, не являются ли они самой поступью, к сожалению, единственно возможной, потому что иначе не умею? Я должен смириться с этой участью, как со своим внешним обликом. Вот я и впадаю то в пессимизм, то в оптимизм, соединение которых является моей отметиной, моей звездой. Пульсирующие движения сердца во вселенском масштабе.
Они заставляют нас грустить из-за чьей-то смерти и радоваться чьему-то рождению, в то время как наше естественное состояние – не быть.
Наш пессимизм происходит от этой пустоты, от этого небытия. А оптимизм диктуется мудростью, подсказывающей воспользоваться отсрочкой, предоставляемой нам пустотою. Воспользоваться, не пытаясь разгадать этот ребус или сказать последнее слово – по той простой причине, что последнего слова не существует и наша небесная система не более долговечна, чем наше внутреннее небо. И долговечность – это сказка, а пустота – не пустота, и вечность водит нас за нос, разматывая перед нами время в его протяженности, в то время как единый блок пространства-времени взрывается, неподвижный, где-то далеко от понятий времени и пространства.
В конечном итоге человек только хорохорится, и никто не смеет предположить, что наш мир сосредоточен, кто знает, на острие какой-нибудь иглы или сидит внутри чьего-нибудь организма. Один только Ренан отважился произнести довольно мрачную фразу: «Не исключено, что истина печальна».
Искусству следует брать пример с преступления. Преступник не привлек бы к себе всеобщего внимания, если бы в один прекрасный момент не стал видимым, если бы однажды не промахнулся. Его слава – следствие проигрыша, если только взломы и убийства не совершаются им как раз во имя славы поражения, если он не может представить себе преступление без апофеоза наказания.
Тайна видимого и невидимого отмечена изысканностью тайны. Ее не разгадать в мире, зачарованном сиюминутностью, не умеющим от нее отрешиться. Эта тайна не терпит компромиссов. Она подчиняется ритму, противоположному ритму общества, потому что ритм общества всегда один, только постоянно маскируется. Никогда еще скорость не была такой медленной. Мадам де Сталь переносилась из одного конца Европы в другой гораздо быстрее, чем мы, а Юлий Цезарь завоевал Галлию в восемь дней.
Трудно писать эту главу. Французский соединяет в себе несколько разных языков, и нам, французам, так же непросто понять друг друга, как если бы мы писали на иностранном. Я знаю людей, которые не любят и не понимают Монтеня, в то время как для меня он говорит на языке, в котором значимо каждое слово. И наоборот, открывая газетную статью, я, случается, перечитываю ее дважды, прежде чем пойму, что к чему. У меня скудный словарный запас. Чтобы добиться хоть какого-нибудь смысла, мне приходится подолгу соединять слова между собой. Но сила, толкающая меня писать, нетерпелива. Она меня подгоняет. От этого совсем не легче. Кроме того, я стараюсь избегать специальных слов, которыми пользуются ученые и философы и которые тоже составляют иностранный язык, непонятный для тех, к кому я обращаюсь. Верно и то, что люди, к которым я обращаюсь, говорят на своем собственном языке, мне чуждом. Тут опять вмешивается невидимое; и пессимизм тоже. Потому что иногда все же хочется смешаться с радостным хороводом, готовым нас принять.
Если эта книга попадет на глаза какому-нибудь внимательному молодому человеку, советую ему сдержать себя, еще раз перечитать слишком быстро проглоченную фразу. Задуматься о том, как я себя мучу, чтобы уловить волны, которым нипочем смешение эпох, – смешение, которое настолько его смущает, что заставляет обратиться в бегство. Я хочу, чтобы этот юноша попытался избежать множественности, которая ему претит, и погрузился в единичность собственной тьмы. Я не говорю ему, как Жид: «Уходи, оставь свою семью и свой дом». Я говорю: «Останься и укройся в собственном мраке. Изучи его. Вытолкни его на свет».
Я не требую, чтобы он проявил интерес к моим волнам, я хочу, чтобы, соприкоснувшись с испускающим их проводником, он сумел изготовить подобный для производства собственных волн. Порывистую юность не интересует механическое устройство проводника. Я вижу это по многочисленным текстам, которые мне присылают.
Не следует путать тьму, о которой я говорю, с той, куда Фрейд призывал спуститься своих пациентов. Фрейд взламывал убогие квартиры. Вытаскивал оттуда плохонькую мебель и эротические снимки. Ненормальность никогда не утверждалась им как трансцендентность. Серьезные расстройства не по его части. То, что он устроил, – исповедальня для зануд.
Одна нью-йоркская дама поведала мне о своей дружбе с Марлен Дитрих. Когда я стал ей хвалить сердечность Марлен, она призналась: «Да нет же, просто она меня слушает». Марлен терпеливо выслушивала эту даму в городе, который не терпит жалоб, не хочет, чтобы его жалели, инстинктивно затыкает уши, будто может заразиться опасной болезнью откровений. Дама прилично экономила на исповеди. Обычно этим занимаются психоаналитики, отдающие себя на растерзание занудам. Я считаю правильным, что они дорого ценят свои услуги.
Фрейдовская разгадка сновидений наивна. Простое в них объявлено сложным. Их назойливая сексуальность не могла не обольстить досужее общество, в котором все замешано на сексе. Опрос американцев показывает, что множественность остается множественностью, даже когда предстает в единичном виде и признается в надуманных пороках. Несуразности в этом столько же, сколько в признании своих грехов и выпячивании добродетелей.
Фрейд доступен. Его ад (его чистилище) рассчитан на множественность. В отличие от нашего исследования, он стремится лишь к тому, чтобы быть видимым.
Занимающая меня тьма – совсем другое. Это пещера, в которой спрятан клад. Она открыта только смелому и тому, кто знает заветное слово. Ни врачу, ни неврастенику там не место. Эта пещера станет опасна, если сокровища заставят нас позабыть волшебное заклинание.
Именно в этой пещере, хранящей остатки былой роскоши, в этой гостиной на дне озера нашли свои сокровища все возвышенные души.
Сексуальность, как мы можем догадаться, тоже играет тут определенную роль. Это доказано да Винчи и Микеланджело, только тайны их ни в коей мере не связаны с теорией Фрейда[7].
Коршун, образованный складками платья Пресвятой Девы на картине Леонардо, равно как и мешок желудей под мышкой молодого человека в Сикстинской капелле, демонстрируют, в какие тайники любит прятаться гений. В эпоху Ренессанса эти тайники скрывали не комплексы, но лукавое стремление обмануть бдительность полицейского диктата Церкви. В некотором роде это просто шалости. В них заключена не столько определенная идея, сколько неизжитая детскость художника. Они адресованы не столько исследователям, сколько друзьям, в них не больше пищи для фрейдовского анализа, чем в подписях учеников, обнаруженных под микроскопом в ушах и ноздрях женских рубенсовских портретов.
Что касается «эдипова комплекса»: если бы Софокл не верил во внешний рок, Фрейд мог бы почти совпасть с нашей линией (человеческая тьма, делая вид, что спасает нас от одной ловушки, толкает нас в другую). Боги, резвясь, разыгрывают злую шутку, жертвой которой оказывается Эдип.
Я еще больше усложнил эту ужасную шутку в «Адской машине», сотворив из победы Эдипа над Сфинксом мнимую победу, плод его гордыни и слабости самого Сфинкса – этого зверя, полубога, полуженщины, подсказавшего Эдипу решение загадки, чтобы спасти его от смерти. Сфинкс ведет себя так же, как будет вести принцесса в моем фильме «Орфей»: она решит, что осуждена за то, что поступила по собственному разумению. Сфинкс оказывается посредником между богами и людьми, боги играют им, притворяясь, будто дают ему свободу, и подсказывают спасти Эдипа с единственной целью его погубить.
Предательством по отношению к Сфинксу я как раз и подчеркиваю, насколько Эдипу чужда эта трагедия в ее греческой концепции, которую я развиваю в «Орфее». По наущению богов смерть Орфея сбивается с пути, оставляя его бессмертным, слепым и разлученным с собственной музой.
Ошибка Фрейда состоит в том, что нашу тьму он превратил в мебельный склад – и тем ее обесценил, он распахнул ее – в то время как она бездонна и ее невозможно даже приоткрыть.
Меня часто упрекают в том, что в моих книгах природа занимает мало места. Дело прежде всего в том, что явления привлекают меня больше, чем их результаты, и в естественном меня в первую очередь изумляет сверхъестественное. Кроме того, другие уже сделали это лучше меня, и было бы величайшим самомнением полагать, что кто-то вообще может тягаться с мадам Колетт. Зайдет ли речь о крылышке или о лепестке, об осе или о тигре – то, что толкает меня писать, это секрет их пятнышек. Прежде меня интригует изнанка, потом уже – лицо. Склонность, заставляющая меня остро наслаждаться вещами и не пытаться при этом передать мое наслаждение.
Каждый из нас должен оставаться при своих привилегиях и не посягать на чужие. Мои заключаются в том, что я не в состоянии почувствовать удовлетворения, пока пустота на моем столе не примет вид наполненности.
Вот и все объяснение этого дневника, в котором ни красота, ни наука, ни философия, ни психология не найдут себе места.
И вот, сидя меж двух стульев, я плету третий – тот призрачный стул, о котором я говорил в преамбуле.
P. S. – Чувство ответственности. Очень остро проявляется у некоторых детей, на которых обрушивается презрение семьи. Эти дети винят себя в проступках, которых не совершали (что надо еще доказать. Ответственность иногда может быть неосознанной).
Нередки случаи, когда дети считают себя повинными в явлениях, смущающих покой домов, в которых водятся привидения. Нередко бывает также, что явления эти происходят от одного желания детей удивить, – в том и состоит ребячество. От таких детей, вероятно, исходит сила, совершающая нечто, что их компрометирует, а затем вынуждает признаваться родным и полиции в том, чего у них и на уме-то не было. Они желают сыграть свою роль как в видимом, так и в невидимом.
Тьма этих детей еще дремлет. Наша – бурлит. Она в состоянии порождать настоящие опухоли, чудовищные беременности. Она может оплодотворить нас такими существами, какие появляются разве что при изгнании бесов, – и об этом следующая глава.
О рождении поэмы
Но ангел, чей удар поверг его ниц, это он сам.
Сартр. Святой Жене
Только что я оказался опытным полем для одного из четвертований а-ля Равальак, когда несколько лошадей рвут человека на части, – этому испытанию подвергают нас противоборствующие силы, для которых мы являемся и Гревской площадью. Решив проанализировать рождение одной из моих поэм, «Ангела Эртебиза», как раз подходящего, как мне кажется, для того, чтобы проследить соотношение сознательного и бессознательного, видимого и невидимого, – я обнаружил, что не могу писать. Слова высыхали, путались, толкались, налезали друг на друга, бунтовали – точно больные клетки. Они принимали под моим пером такие позы, что никак не могли соединиться друг с другом и организовать фразу. Я упорствовал, полагая, что мной движет та самая мнимая прозорливость, которую я противопоставляю внутренней тьме. Я уже начал думать, что никогда не освобожусь от нее, что с годами мой проводник заржавел, – а это было бы хуже всего, потому что независимо от того, свободен я или нет, я уже не смог бы взяться ни за какую работу. Я все стирал, рвал, начинал сначала. И всякий раз оказывался в том же тупике. Всякий раз спотыкался о те же препятствия.
Я уже совсем было решил отказаться, когда нашел на каком-то столе мою книгу «Опиум». Я открыл ее наугад (если позволительно так выразиться) и прочел абзац, объяснивший мне мою беспомощность. Меня подводила память, она путала даты, пережимала пружины, корежила механизм. Глубинная память восстала против этих ошибок, а я этого даже не заметил.
Искаженная перспектива выталкивала одни обстоятельства вперед других, в то время как в действительности они располагались в обратном порядке. Таким образом, наши давние поступки предстают точно в перевернутом телескопе, их неверная оркестровка является результатом одной-единственной фальшивой ноты, одного-единственного лжесвидетельства, произнесенного тем, кто пытается себя обелить.
До поэмы «Ангел Эртебиз» символ «ангела» в моих произведениях никак не был связан с какими бы то ни было религиозными образами, несмотря на то, что грек Эль-Греко их обработал, наделил особым смыслом и тем навлек на себя гнев испанской инквизиции.
Этот образ напоминает, пожалуй, картину, которую экипаж сверхтяжелого бомбардировщика № 42.7353 наблюдал, сбросив на землю первую атомную бомбу. Летчики описывали пурпурное зарево и смерч невероятных оттенков. Им не хватало слов. То, что они увидели, так и осталось внутри них.
Сходство между словами «ангел» (ange) и «угол» (angle), легкое преобразование «ange» в «angle» путем прибавления «l» (или «aile», крыла) – один из курьезов французского языка, если только в подобных вещах могут быть курьезы. В иврите – я знал это – нет никакого курьеза, «ангел» и «угол» в нем – синонимы.
Падение ангелов символизирует в Библии сглаживание углов, то есть вполне нормальное образование классической сферы. Лишенная своей геометрической души, образованной переплетением гипотенуз и прямых углов, сфера уже не покоится на точках, заставлявших ее лучиться.
Я знал также, что нельзя допустить, чтобы в нас изгладилась наша геометрическая сущность, что падение наших ангелов – или наших углов – это опасность, грозящая тем, кто слишком держится за землю.
В Книге Бытия пропущен эпизод, связанный с падением ангелов. Эти фантастические, повергающие в смятение существа уестествили дочерей человеческих, и от их союза родились великаны – «géants». Соответственно, «géants» и «anges», великаны и ангелы, в еврейском сознании смешиваются. Гюстав Доре великолепно изобразил в глубине диких ущелий нагромождение этих опрокинутых навзничь мускулистых тел.
Откуда возник видимый образ ангела? Как это нечеловеческое существо обрело человеческий облик? Вероятно, человек пытался осмыслить загадочные силы, очеловечить некое абстрактное присутствие – чтобы хоть отдаленно узнать в нем себя и перестать его бояться.
Явления природы – молния, затмения, потоп – уже не кажутся роковыми, когда являются частью подвластного Богу видимого войска.
То, что составляет это войско, обретая сходство с человеком, утрачивает непостижимую для сознания беспредметность, эту безымянность, пугающую в темноте детей и заставляющую их холодеть от ужаса, пока не зажжется лампа.
Именно это чувство – безо всякой, даже отдаленной связи с Апокалипсисом – породило греческих богов. Каждый бог узаконивал какой-нибудь порок или возвеличивал добродетель. Боги курсировали между небом и землей, между Олимпом и Афинами, как между этажами здания. Их присутствие успокаивало. Ангелы же, судя по всему, были воплощением тревоги.
Утонченные, жестокие чудовища, в высшей степени самцы и вместе с тем андрогины: летающие углы; так я представлял себе ангелов до того, как убедился, что их невидимая сущность может принимать форму поэмы и становиться зримой без риска быть увиденной.
Моя пьеса «Орфей» изначально была задумана как история Пречистой Девы и Иосифа: явление ангела (подмастерья плотника) порождает сплетни, необъяснимая беременность Марии настраивает против нее назаретян и вынуждает их с Иосифом покинуть деревню.
Интрига заключала в себе такое количество несовпадений, что я отказался от замысла. За основу нового сюжета я взял историю Орфея, в которой необъяснимое рождение стихов заменяло рождение Сына Божьего.
Тут тоже должен был сыграть роль ангел – в обличье стекольщика. Но этот акт я написал значительно позже, в Вильфранше, в отеле «Welcome» – где я почувствовал себя достаточно свободным, чтобы одеть его в синий комбинезон и вместо крыльев приделать ему на спину стекла. А еще несколько лет спустя он и вовсе перестал быть ангелом и в моем фильме превратился уже в какого-то молодого мертвеца, шофера принцессы. (Так что журналисты ошибаются, называя его ангелом.)
Если я забегаю вперед, то лишь с целью объяснить, что ангел как персонаж давно и безучастно жил во мне, не причиняя никаких неудобств, вплоть до рождения поэмы, а когда поэма была окончена, я увидел, что он безобиден. В пьесе и фильме я сохранил только его имя. Воплотившись в поэму, он уже не требовал от меня ни заботы, ни внимания.
Вот отрывок из «Опиума», раскрывший мне глаза на то, почему у меня не получалась эта глава. Написанное относится к 1928 году. Я полагал, что к 1930-му.
«Как-то я отправился к Пикассо на улицу Ла Боэси и, очутившись в лифте, вдруг почувствовал, что становлюсь все выше и выше, одновременно с чем-то ужасным рядом со мной, да к тому же еще и бессмертным. Чей-то голос крикнул мне: „Мое имя написано на табличке“. Лифт вздрогнул, я очнулся и прочел на медной табличке, вделанной в ручку лифта: „Лифт Эртебиза“.
У Пикассо, помнится, мы разговорились о чудесах. Пикассо заявил, что вообще всё чудо, что не раствориться в собственной ванне – тоже чудо».
Сейчас я сознаю, как сильно тогда подействовала на меня эта фраза. В ней мне увиделась целая пьеса, в которой чудеса не иссякают, соединяют в себе комедию и трагедию и завораживают не меньше, чем взрослый мир завораживает ребенка.
Я и думать забыл об эпизоде в лифте. Как вдруг все переменилось. Идея пьесы развалилась. Засыпая вечером, я внезапно просыпался среди ночи и уже не мог уснуть. Днем я тонул в полудреме, барахтался в вязком месиве невнятных снов. Это нарушение ритма сделалось ужасным. Мне и в голову не приходило, что внутри меня живет ангел, и только когда имя Эртебиз стало наваждением, я это осознал.
Я слышал это имя, слышал, не слыша его, слышал его форму, если можно так выразиться, слышал там, где человек не может заткнуть уши, я слышал, как тишина кричит его что есть мочи: это имя преследовало меня – и я наконец вспомнил крик в лифте: «Мое имя написано на табличке» – и я назвал ангела по имени. А он уже изнемогал от моей глупости, ведь он назвал себя, а я все не мог повторить. Назвав его по имени, я надеялся, что он оставит меня в покое. Как бы не так. Фантастическое существо сделалось невыносимым. Оно заполнило меня всего, расположилось во мне, стало вертеться и толкаться, как ребенок в материнской утробе. Я никому не мог о нем рассказать. Я должен был сносить эту пытку. А ангел мучил меня не переставая, и мне даже пришлось употреблять опиум в надежде его перехитрить и утихомирить. Но хитрость моя пришлась ему не по вкусу, и он дорого заставил меня заплатить за нее.
Сегодня, нежась на побережье, я с трудом вспоминаю подробности того времени и омерзительные знаки его присутствия во мне. Мы обладаем спасительным свойством забывать дурное. Не дремлет только наша глубинная память, поэтому нам легче вспомнить эпизоды нашего детства, чем недавно совершенные поступки. Воскрешая эту подспудную память, я прихожу в состояние, не понятное тем, кто не разделяет наше предназначение. И вот, постепенно, я, кичившийся своей свободой и независимостью от этого предназначения, оказываюсь его послушным исполнителем, и перо мое начинает свой бег. Ничто меня больше не сдерживает. Я снова живу на улице Анжу. Моя мать жива. На ее лице я читаю следы моих бед. Она ни о чем не спрашивает. Просто страдает. Я тоже страдаю. А ангелу наплевать. Он беснуется почем зря. Я готов услышать совет: «Обратитесь к экзорцисту, в вас вселился бес». Не бес – ангел. Существо, ищущее воплощения, одно из тех, что принадлежат к другому миру и кому вход в наш мир заказан, – но любопытство влечет их к нам, и они на все готовы, лишь бы остаться здесь.
Ангела нимало не заботило мое возмущение. Я был для него лишь проводником, он использовал меня. Он готовился к выходу. Мои приступы все учащались, пока не превратились в один сплошной приступ, сравнимый с родовыми схватками. Это были чудовищные роды, не смягченные материнским инстинктом и сопровождающим его доверием. Представьте себе партеногенез – два существа в едином теле, разрешающемся от бремени. Наконец, после одной жуткой ночи, когда я уже помышлял о самоубийстве, исторжение состоялось – это было на улице Анжу. Оно продолжалось семь дней, и бесцеремонность моего персонажа перешла все границы: он принуждал меня писать вопреки моей воле.
То, что из меня исторгалось и что я записывал на листках какого-то подобия альбома, не имело ничего общего ни с леденящим холодом Малларме, ни с золотыми молниями Рембо, ни с автоматическим письмом, ни с чем-либо другим, мне знакомым. Фрагменты его перемешались, подобно шахматным фигурам, складывались в особый ритм, будто состоящий из осколков александрийского стиха. Ломая ось храма, ритм диктовал размеры колонн, аркад, карнизов, волют, архитравов, ошибался в расчетах, начинал все сызнова. Матовое стекло покрывалось инеем, сплетались линии, прямоугольные треугольники, диаметры и гипотенузы. Сложение, умножение, деление. Вся эта алгебра, ища человеческого воплощения, питалась моими воспоминаниями. Злодей стискивал мне затылок, заставлял склоняться над листом, подстраиваться под ритм его наступлений и передышек, покорно исполнять то, что он требовал, изливаясь через мои чернила в поэму. Я тешил себя надеждой, что он в конце концов избавит меня от своего назойливого присутствия, переселится вовне, отделится от моего организма. Для чего – меня это не интересовало. Главное было покорно пережить его превращение. Это даже нельзя было назвать помощью с моей стороны, потому что он меня как будто презирал и помощью моей гнушался. Я не мог ни спать, ни жить. Надо было скорее друг от друга избавиться, но мое избавление нимало его не заботило.
На седьмой день (было семь вечера) ангел Эртебиз стал поэмой и освободил меня. В оцепенении я смотрел на то, во что он воплотился. Его лицо казалось мне далеким, надменным, совершенно безразличным ко всему, что им не являлось. Чудовище, упоенное собой. Глыба невидимости.
Эта невидимость, составленная из огнедышащих углов, этот корабль, стиснутый льдами, этот айсберг, окруженный водой, навеки останется невидимым. Так решил ангел Эртебиз. Его земное воплощение по-разному воспринимается им и нами. На эту тему иногда рассуждают или пишут. Тогда он прячется во всевозможные толкования. У него, как говорится, много чего за душой. Он захотел попасть в наш мир. Пусть уж остается.
Теперь я смотрю на него без злобы, но быстро отворачиваюсь. Меня смущают его большие, пристально глядящие, но не видящие меня глаза.
Мне кажется невероятным, что эта чуждая мне поэма (не чуждая только моему естеству) рассказывает обо мне и что ангел заставил меня говорить о нем так, как если бы я давно его знал, – да еще и от первого лица. Значит, без моего участия это существо не обрело бы форму и, подобно джину из восточных сказок, не могло бы жить нигде, кроме как в сосуде моего тела. Для абстрактного существа есть один-единственный способ, оставаясь невидимым, сделаться конкретным: заключить с нами брачный контракт, по которому большую часть видимости получит оно, а меньшую, мизерную – мы. Да еще полную меру порицания в придачу.
Освобожденный, опустошенный, ослабший, я поселился в Вильфранше. Перед тем помирился со Стравинским: мы с ним оказались в одном спальном вагоне. Мы выяснили отношения, сухие и натянутые со времен «Петуха и Арлекина». Он попросил меня написать текст к оратории «Oedipus Rex».
Стравинский латинизировался настолько, что захотел текст к оратории на латыни. В этом деле мне помог преподобный отец Даньелу, что напомнило мне школьные годы.
Вместе с женой и сыновьями Стравинский жил в Мон-Бороне. Помню, мы совершили прелестное путешествие в горы. Стоял февраль, и склоны казались розовыми от цветущих деревьев. Стравинский взял с собой сына Федора. Наш шофер изъяснялся, как оракул, подняв палец к небу. Мы окрестили его Тиресием.
Тогда я как раз написал «Орфея» и прочел его на вилле Мон-Борон в сентябре 1925-го. Стравинский делал новую оркестровку «Весны священной» и сочинял «Oedipus Rex». Он хотел, чтобы музыка вышла курчавая, как борода Зевса.
По мере написания я приносил ему тексты. Я был молод. Радовался солнцу, рыбной ловле, эскадрам. Когда мы заканчивали работать, уже ночью, не чувствуя усталости, я возвращался пешком в Вильфранш. Эртебиз больше не мучил меня. Ангел теперь был только один: ангел театра.
Тем не менее, в «Опиуме» я отметил любопытные совпадения, сопровождавшие «Орфея» в постановке Питоева в июне 1926 года. Эти совпадения выстраивались в единую цепь и в Мексике приобрели угрожающий характер. Еще раз цитирую «Опиум»: «В Мексике давали „Орфея“, по-испански. Во время сцены с вакханками началось землетрясение, театр рухнул, несколько человек пострадали. Потом театр восстановили и снова дали „Орфея“. Неожиданно появился режиссер и объявил, что спектакль продолжаться не может. Актер, исполнявший роль Орфея, не мог выйти из зазеркалья. Он умер за сценой».
Пьеса была написана в 1925-м, а в 1926-м, после моего возвращения в Париж, ее должны были поставить на сцене. Второе чтение происходило на проспекте Ламбаля, у Жана Гюго. После чтения, надевая в прихожей пальто, Поль Моран – я до сих пор слышу его слова – сказал мне: «Веселенькую ты открыл дверь. Но ничего веселого за ней нет. Там совсем не до смеха».
На следующий день я обедал у Пикассо на улице Ла Боэси. Снова оказавшись в лифте, я взглянул на медную табличку. На ней значилось: «Отис-Пифр». Эртебиз исчез.
P. S. Для консультации в случае колдовства и злых козней (как то: битье посуды или каменный дождь), которые в некоторых домах, похоже, являются результатом действия таинственных и глупых сил, существует замечательная книга Эмиля Тизане «По следам незнакомца». Это первое документально подтвержденное исследование подобных явлений, пока еще не объяснимых и родственных тем, которые нас интересуют.
Что делает Пикассо, как не переносит предметы из одного значения в другое и не бьет посуду? Но его заколдованный дом полиция обходит. Изучать его – дело художественной критики.
Впрочем, в 1952 году, на выставке бытовой техники, такого рода явления потеряли значительную долю своей таинственности. Тарелочка с пирожными приподнимается над столом, перемещается и останавливается перед кем-нибудь из сидящих. Надо заметить, что содержимое тарелки занимало зрителей больше, чем летающая тарелка сама по себе. Только один ребенок смотрел на нее с опаской и не решался к ней прикоснуться – ведь могло так оказаться, что летала она по его воле.
Эти явления лежат порой в основе процессов над поэтами. На процессе Жанны д’Арк штаб заручился поддержкой епископа, который, отбросив возможность чуда, выдвинул версию колдовства и потусторонней силы. Жанна в большей степени жертва этого обвинения, чем внешнеполитических интриг.
Редкие явления, о которых пишет Тизане, влекут за собой массу расследований, несправедливых наказаний и загородных убийств. Трудно поймать преступника, который действует окольными путями и творит, что ему взбредет в голову. Все начинают подозревать друг друга и, так как невозможно свалить вину на что-то, ее сваливают на кого-то.
О преступной невинности
Я бы предпочел услышать, что вы признаете себя виновным. За виновного хоть знаешь, как взяться. Невинный ускользает. От него одна только анархия.
1-я версия сцены с Кардиналом и Гансом, акт 2, «Вакх»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Вы обвиняетесь в том, что невиновны. Признаете ли вы себя виновным?
ОБВИНЯЕМЫЙ: Признаю.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Совершили ли вы какое-нибудь преступление, оговоренное законом?
ОБВИНЯЕМЫЙ: Я никогда не творил добра.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Это не облегчит вашей участи. Добро не судят. Оно не относится к области юриспруденции. Правосудию интересно только зло, да и то, повторяю, лишь в определенной форме. Итак, по вашему собственному признанию, вы творили зло, хотя и неявно, но это не умаляет вашей вины. Не ищите оправданий! У нас есть свидетели и доказательства. Повинны ли вы в убийстве, краже, клятвопреступлении?
ОБВИНЯЕМЫЙ: Нет, но…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Вот вы себя и выдали.
«Газет де Трибюно»
В 1940-м, в Эксе, в период эвакуации, я познакомился с одной молодой четой, которая близко знала семью, давшую мне приют. Все они были врачами. Доктор М., в доме которого я устроился, жил в городе. Доктор Ф. с женой – в маленьком домике у дороги, позади которого полоса фруктовых садов и огородов постепенно переходила в поля. Когда-то дом принадлежал родителям молодой женщины, а те унаследовали его от своих родителей и так далее. История уходила так далеко в глубь веков, что дом, учитывая наше ненадежное время, воплощал собой идею непрерывности, которой трудно найти аналог.
Нам часто случалось общаться и ужинать друг у друга в гостях.
Молодая женщина вызывала во мне любопытство. От малейшего дуновения ее красота и веселость меркли. Но, так же быстро, она приходила в себя. Казалось, она издалека следит за тем, как к ней приближается губительная волна, которой она страшится и которую пытается остановить. В эти минуты все ее поведение, движения, взгляд выдавали затравленность существа, которому угрожает вполне определенная опасность. Она переставала слушать, не отвечала на вопросы. В мгновение ока она старела, и тогда муж не спускал с нее глаз, а мы послушно замолкали вместе с ним. Неловкость делалась невыносимой. Нам приходилось ждать, пока губительные волны сгустятся, задушат свою жертву, ослабнут и уберутся восвояси.
Приступ заканчивался, и все происходило в обратном порядке. К молодой женщине возвращалось очарование. Муж снова начинал улыбаться и говорить. Смятение уступало место хорошему настроению, как будто не произошло ничего особенного.
Однажды я заговорил о нашей молодой знакомой с доктором М. и спросил его, была ли она излишне впечатлительной или когда-то пережила потрясение, дававшее теперь такие странные симптомы. Может быть, она стала жертвой насилия или была когда-то очень сильно напугана.
Доктор ответил, что, вероятно, так оно и есть, что он знает лишь одну историю, правда, на его взгляд, давнишнюю и мало что доказывающую. Но, добавил он, все возможно. Нам мало известно о том, что происходит в глубинах человеческого тела. Тут нужен психоаналитик. Однако по причинам, о которых вы сами можете догадываться, мадам Ф. отказывается к нему обращаться. Добавьте к этому, что у нее нет детей, что дважды у нее был выкидыш и мысль о новой беременности повергает ее в ужас, отнюдь не способствующий улучшению ее состояния.
Вот история, которую рассказал мне доктор.
Молодая женщина была в семье единственным ребенком. Отец с матерью исполняли малейшие ее капризы. Когда ей было пять лет, мать снова забеременела. Срок родов приближался и надо было как-то предупредить девочку, что у нее появится братик или сестричка.
Вы знаете, что – увы! – детей обычно обманывают, рассказывая им всякие небылицы про то, как они появились на свет. На мой взгляд, это нелепо. Мои-то знают, что появились на свет из материнской утробы. От этого они только больше любят свою мать, да и в школе не рискуют наслушаться всякого вздора от своих товарищей. Но девочку, о которой мы говорим, окружала ложь, и произошедшая вскоре трагедия была следствием этой лжи.
Отец с матерью ломали голову, как подготовить на редкость ревнивого ребенка к тому, что скоро в доме появится еще одно живое существо, и с этим существом ей придется делить мир, в котором она царит безраздельно. До этого девочка не желала терпеть даже собак и кошек, которых ей дарили, она боялась, что родители к ним привяжутся и станут меньше любить ее.
С тысячью предосторожностей ей сообщили, что небо в скором времени пошлет им в подарок маленького мальчика или маленькую девочку, пока точно не известно, кого именно, что небесный подарок будет доставлен со дня на день и что надо радоваться этому событию.
Родители опасались слез. Они ошиблись. Девочка не проронила ни слезинки. Взгляд ее сделался каменным. Она испугала близких не криками, а немотой взрослого человека, которому сообщили, что он разорен.
Нет ничего более непроницаемого, чем ребенок, упорствующий в своей обиде. Напрасно родители ласкали ее, целовали, говорили нежные слова, пытаясь смягчить неприятную новость. Все их старания выглядели смешными перед этой каменной стеной.
Вплоть до начала родов девочка держалась неприступно. Потом родители занялись хлопотами и оставили ее в покое, – тогда она заперлась в своей комнате, чтобы в одиночестве лелеять обиду.
Молодая женщина произвела на свет мертвого ребенка. Муж пытался ее успокоить, ссылаясь на отчаянье их дочурки: они объявят ей, что отказались от подарка, чтобы ее не огорчать, и она вновь начнет радоваться жизни. Но их хитрость не удалась. Малышка не только не изменила своего поведения, но к тому же еще заболела. Горячка и бред свидетельствовали о том, что у нее воспаление легких. Доктор М. поинтересовался, не могла ли она простудиться, но доктор Ф. затруднялся ответить. Он рассказал своему коллеге о потрясении, которое пережила девочка. Доктор М. заметил, что потрясение могло спровоцировать нервный приступ, но никак не пневмонию, которую надо было лечить подобающим образом. Девочку стали лечить. Ее спасли. Когда за жизнь ее можно было уже не опасаться, все запуталось еще больше. Никакими ласками родителям не удавалось растопить лед ее молчания. Полного выздоровления не наступало. Обычную болезнь сменил таинственный недуг, продолжавший свое разрушительное действие.
Тогда доктор М., вконец отчаявшись, предложил обратиться к психоаналитику. «Специалист в этой области, – объяснил он, – может проникнуть в область, перед которой наша наука бессильна. Профессор Г. – мой племянник. Надо, чтобы он стал вашим племянником, – во всяком случае, чтобы малышка так думала, – и поселился бы в вашем доме. Я достаточно хорошо его знаю, чтобы не сомневаться в его согласии».
Психоаналитик как раз собирался на отдых. Дядя убедил его провести отпуск в Эксе, у него в доме. Каждый день психоаналитик являлся к молодой чете, задавал вопросы и в конце концов сдружился с ними. Малышка первое время дичилась. Но мало-помалу привыкла, ей стало нравиться, что кто-то из взрослых обращается с ней не как с маленькой, а как с равной. Она стала называть Г. своим дядей.
После четырех недель ежедневных встреч девочка наконец разговорилась, и мнимый дядя смог с ней побеседовать.
Однажды они гуляли в дальнем конце сада, вдали от родителей и слуг. Безо всяких предисловий, со спокойствием человека, признающего себя виновным перед лицом судьи, девочка вдруг раскрыла свою тайну, которая, должно быть, душила ее и рвалась наружу.
Сопоставим то, что нам известно, с тем, что она рассказала.
Случилось это в ночь, когда происходили роды. Накануне выпал снег. Малышка не спала. Она прислушивалась. Она знала, что скоро – может быть, на рассвете – подарок прибудет по назначению. Она знала также, что подобные вещи сопровождаются всеобщей суетой и таинственностью. Нельзя было терять ни минуты.
Черпая силы в своем внутреннем знании, она встала, не зажигая лампы, вышла из комнаты, которая находилась на втором этаже, и, приподнимая длинную рубашку, спустилась по деревянным ступеням. Некоторые половицы скрипели: тогда она замирала и слушала, как бьется ее сердце. Где-то открылась дверь. Девочка прижалась к канату, служившему перилами. Она чувствовала на шее его колючее прикосновение.
Незнакомка в платье и белом чепце пересекла прямоугольник света, падавшего из открытой двери на плиты вестибюля. Она прошла в будуар, смежный со спальней родителей, и закрыла за собой дверь. Другая дверь оставалась открытой. Она вела в неудобную ванную комнату. Мать там причесывалась, пудрилась, пришпиливала шляпы и вуалетки.
