Бег на тонких ногах
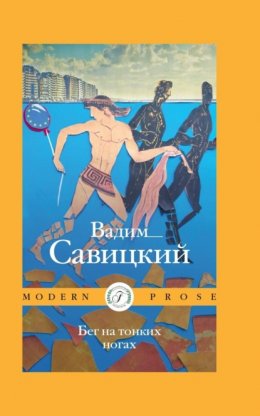
© В. Савицкий, текст, 2022
© Н. Ямщикова, иллюстрация на обложке, 2022
© А. Кудрявцев, дизайн обложки, 2022
© ООО «Флобериум», 2022
© RUGRAM, 2022
Глава первая
Первый день в Брюсселе
Я шёл быстрым шагом, не катил, а нёс чемодан. Утреннее бегство из марокканского отеля, проявленные при этом предприимчивость и решимость придали мне новых сил. Улицы расширялись, изгибались, сменяли одна другую и приобрели наконец благообразный вид европейской столицы. Разномастный людской поток увеличивался, а вместе с ним – моё беспокойство. Я остановился и опустил чемодан на тротуар. Над небольшой дверной аркой нависал матерчатый полукупол изумрудного цвета с тиснением золотыми буквами: «Hôtel des Colonies». Я нащупал в потайном кармане джинсовой куртки бумажник и паспорт.
Сгорбленный старик с пергаментным лицом, в шляпе и с маленькой собачкой на поводке, задержав шаг, принялся открыто и настойчиво разглядывать меня. Я отвернулся. Старик сказал по-французски:
– Писающий мальчик вас непременно разочарует. Он совсем маленький, а внизу не убранное собачье дерьмо.
Мне ничего не оставалось, как ответить на это замечание немой, натянутой улыбкой.
Двери отеля распахнулись и выпустили наружу стройную светловолосую девушку в замшевой куртке. Она стояла у входа, нервно всматриваясь в проезжающие мимо автомобили. Весь её силуэт излучал тёплый янтарный свет: шлейф золотисто-льняных волос, спадающих на ровные плечи, бело-матовая кожа, светлые джинсы. Упорный взгляд голубых глаз, буравящий пространство перед отелем, мимолётно задержался на моём лице. Черный «мерседес» затормозил возле входа. Девушка сделала несколько шагов вперед. Дверца автомобиля распахнулась. Но незнакомка не села в машину, а вела переговоры, опираясь на дверцу. Беседа шла на русском языке, я почти не различал слов, заглушаемых ветром и уличным шумом. Послышался русский мат с грузинским акцентом, и девушка с размаху захлопнула дверцу. Автомобиль рванул с места. Девушка прокричала тонким, визгливым голосом пару грязных ругательств и даже успела наотмашь стукнуть по пыльной крыше «мерседеса». Обернувшись в мою сторону, с видимым смущением улыбнулась и спросила:
– Est-се que tout va bien, mon petit?[1]
Девушка выглядела лишь на несколько лет старше меня. Судя по выражению миловидного лица, её можно было причислить к тем дочкам, которые силой своего обаяния убеждают родителей предоставить им ничем не ограниченную свободу. У нее оказался необычайно тонкий, певучий голос.
– Я ищу отель, не больше пятидесяти евро за ночь, – ответил я на одном дыхании по-русски.
– Турист, что ли? А где маму и папу потерял? – Девушка прищурилась, окинула меня взглядом с головы до ног и задумалась, как бы пытаясь вспомнить что-то важное. Затем подошла ко мне, коснулась пальцами рукава куртки и серьезно сказала: – Ладно, пойдем, устрою тебе проживание. Я знакома с хозяином этого заведения.
В просторном холле небольшого отеля, залитом ярким светом роскошной люстры с изумрудными подвесками, я с облегчением вздохнул и, поставив чемодан, устало опустился в глубокое кресло.
Польский автобус приткнулся носом к тротуару возле центрального вокзала. Я не спал ни минуты в течение суток. Множество путаных мыслей, пустых страхов и мечтаний пронеслись в голове за эти дорожные часы. И вот теперь, коротко подстриженный, с маленьким чемоданом на колёсиках, я смиренно стоял в узком автобусном проходе между двумя поляками. Тот, что был сзади – рыжеволосый, потный, пузатый, – толкал меня в спину легкими ударами наплечной сумки. Во время поездки он сидел рядом со мной, большей частью спал и изредка смотрел в окно. В начале пути поляк пытался заговорить со мной по-русски. Мои короткие ответы успешно убили беседу в самом зародыше. Когда двери автобуса распахнулись, я бросил взгляд на водителя – пожилого мужчину в кепке и рубашке в клетку – и легко спрыгнул на гладкий асфальт с тёмными пятнами от раздавленных жвачек. Мой чемодан был уложен заботливыми руками мамы. Тонкий слой рубашек, джинсы, зубная щётка, электрическая бритва – все эти вещи пахли домом и покоем. Чемодан приобрёл для меня за время пути преувеличенно большое значение. Поверх одежды, придавленная крышкой, лежала тетрадь в мягкой жёлтой обложке. Ведение дневника на родном языке за границей представлялось мне успокоительным и полезным занятием.
Гулкое здание вокзала наполнял разреженный липкий воздух. Опиравшийся на мраморные колонны высокий купол был усеян белыми блюдцами ламп. Босоногий парень с коричневым лицом и волнистыми черными волосами сидел на ступеньке в позе йога. Голова его свисала вниз, и можно было подумать, что он читает газету, на которой сидит. Возле одной из колонн, играя желваками под небритыми щеками, стоял потрепанный мужчина в спортивных штанах. Ни одна жилка на моём лице не дрогнула, когда я проходил мимо него. Выглядел я теперь совсем не так, как прежде: сильно исхудал и был очень коротко подстрижен. Я был горд собой. Собственная дерзость сохранила мне половину платы за визу. Другую половину оплатила моя тётя в одиозном миграционном агентстве.
Выйдя из открытых дверей вокзала «Брюссель Централь», я не мог отыскать нужной улицы и в растерянности ходил по внешнему периметру здания вокзала. Прохладный утренний воздух забирался под джинсовую куртку. На вокзале, очевидно, имелось несколько входов. Я боялся заблудиться в больших чужих городах – это был один из тех необъяснимых страхов, которым нередко подвержены даже молодые и сильные люди. Оставив поиски отеля, рекомендованного родной тётей, я свернул направо на первом перекрёстке. На присмиревшей заброшенной улице заметил вывеску отеля и, не задумываясь, толкнул дверь.
– Добро пожаловать в отель три звезды «Этуаль Д’Ориан», – с воодушевлением произнес по-французски (правда, с ярко выраженным арабским акцентом) низкорослый черноволосый мужчина и, вскинув руки над головой, направился мне навстречу.
Одновременно, кто-то толкнул меня в спину: ватага цыганских детей мал мала меньше шумно вбежала в маленький холл.
– Дверь закройте! – прикрикнул на них мужчина.
Но дети не обратили никакого внимания на его приказ и побежали вверх по лестнице. Я хотел было закрыть дверь, но не успел: в отель уже входили взрослые цыгане, по всей видимости, родители детей.
– Пятьдесят евро за ночь, с завтраком. Четвёртая ночь бесплатно при оплате трёх ночей. Вы поляк?
Цыганское семейство поднималось по узкой лестнице. От топота бегущих уже по второму этажу детей, казалось, вот-вот обвалится потолок.
– Нет, я русский, а вы марокканец?
– Да. Но советую вам никогда больше не спрашивать у смуглых людей об их происхождении. Люди здесь очень обидчивые. Сами иногда не знают, на что обижаются.
Хозяин отеля посмотрел на меня печальными глазами и похлопал по плечу. Я тут же проникся симпатией к этому человеку, в глубине души уже будучи готовым принять его условия.
– В отеле проживает несколько многодетных семей беженцев различного происхождения. Вы без чемодана?
– Чемодан на вокзале в камере хранения. Я не знал, как быстро удастся найти подходящий отель.
Марокканец пригласил меня продолжить разговор в баре. Бар с дюжиной деревянных столиков находился в подвальном помещении, вечером он служил рестораном, а утром – буфетом. Прошло совсем немного времени, и я уже знал, что мой собеседник недавно развёлся со своей бельгийской супругой, редко видится с сыновьями и вынужден сдавать отель беженцам, присылаемым федеральным агентством. Совсем другое дело, такой постоялец, как я. Марокканец снова похлопал меня по плечу и отрывисто рассмеялся.
Моя подруга без труда договорилась о бесплатном проживании в двухместном номере. Когда мы поднимались по ступенькам, она обернулась и сказала:
– Меня зовут Алла.
– Андрей, – ответил я.
Мне понравилась широкая лестница, облитая белыми пятнами света, номер с высоким окном и множеством больших и маленьких светильников. Мне безоговорочно понравилась Алла. Её тонкие алые губы на бледном лице, распахнутые неподвижные глаза, их холодно-искристое свечение – всё это показалось давно знакомым и таким желанным. Все объекты моих влюбленностей, начиная с молодых воспитательниц в детском саду, у которых я обожал сидеть на коленях, имели такие же глаза и губы.
Когда я захлопнул за собой дверь номера, Алла внимательно посмотрела на меня и сказала с усмешкой:
– Ну, что же ты, малыш, решаешься пригласить меня к себе в номер, а сам краснеешь и немеешь. Или, может, я ошиблась и не нравлюсь тебе?
– Нет, не ошиблась. – Я посмотрел ей прямо в лицо. Томное, прелестное лицо. Немного бледное и ничего, кроме лёгкой усталости, не выражающее.
– Ты просто на удивление робок, – произнесла Алла и прижалась ко мне, укладывая поудобнее свое гибкое, упругое тело в мои терпеливые объятия.
Я вдыхал цитрусово-горький запах колких льняных волос. Её ладони нежно и настойчиво гладили мой затылок. Она не произнесла больше ни слова. Я не слышал больше её певуче вульгарного голоса, только вздохи, при помощи которых она то приближала, то отдаляла наши последние содрогания.
Проснувшись на следующее утро, я ощутил упоительную, звенящую радость, разлитую по всему телу. Алла бесшумно встала с кровати и босиком засеменила по паркету в ванную. Узкие лодыжки, тонкая талия, белые ягодицы, ровные лопатки, широкие, соразмерные плечи и бёдра.
Через шторы в комнату пробивался яркий солнечный лучик. Алла щелкнула замком розового чемодана (внесенного в номер, очевидно, до моего пробуждения) и принялась доставать и развешивать свою одежду в стенном шкафу. Сама она была только в белом пуловере и черных капроновых колготках. Алла, скорее всего, сознательно не спешила надеть юбку или брюки. Я принял это за знак простодушного дружелюбия. И непроизвольно снова провалился в сон, словно пытаясь зачерпнуть последнюю его сладость, оставшуюся на самом донышке.
Инструкцию об использовании багажной камеры на вокзале я прочел, присев на корточки, сначала на английском, потом на французском и, наконец, на немецком языке. Четвертый язык был, по видимости, голландским. Мое лицо вдруг вспыхнуло от сомнения, правильно ли я понял инструкцию. Невдалеке послышался стук женских каблуков. Я увидел круглые колени светловолосой красавицы в костюме стюардессы. В ответ на мой смятенный взгляд ее строгое лицо озарила улыбка. Благосклонность и доброжелательность – именно к этим утонченным проявлениям человеческого духа я был особенно чувствителен с раннего детства. Женщина подтвердила правильность моих манипуляций с багажной ячейкой. Я осторожно прикрыл толстую дверцу до мягкого электронного щелчка. Это было мое самое осмысленное действие за последние два дня.
Мы с Аллой опоздали на завтрак. Как раз в тот момент, когда мы вышли из лифта, кельнер в красном жилете и белой рубашке выставлял бронзовые столбики с провисшей между ними крученой веревкой у входа в зал ресторана. Заметив нас, он грустно улыбнулся, развёл руками и пошёл помогать другому кельнеру в уборке зала. На верёвке покачивалась табличка “Fermé”. Алла рассмеялась, обнажив верхний ряд крупных зубов, и поцеловала меня в ухо:
– Вот увидишь, я заставлю их накормить нас завтраком.
Затем она придвинула один столбик к другому и, не выпуская моей руки, перешла через порог зала.
– Эй, месье! – громко позвала Алла.
Кельнер обернулся и быстрым шагом пошёл нам навстречу.
– Comment puis-je vous aider, mademoiselle, monsieur?[2] – Теперь лицо кельнера изображало еще более жалкую и грустную улыбку.
Алла быстро стёрла эту улыбку с его лица. Она негодовала, угрожала, забывая о носовых гласных и даже не пытаясь грассировать раскатистый русский звук «р». Моя подруга требовала рандеву с директором. Обескураженный таким напором, кельнер повернулся и хотел просто сбежать, он уже сделал несколько шагов в сторону, но был остановлен двумя мужчинами в темных шелковых рубашках и тесно облегающих брюках. Как оказалось, это были директор отеля и его интимный друг. Алла принялась истерично хохотать, изгибаясь чуть ли не вдвое на моей руке.
– Ой, держите меня, счастливая пара влюбленных. Они снова вместе! – Она несколько раз подряд прыснула от смеха. – Я знаю этих двоих.
Последние слова были произнесены по-русски и предназначались мне.
Директор отеля – вблизи выглядевший намного старше своего друга – рассеянно поцеловал Аллу четыре раза в щёки и похлопал ладонью по ее ягодицам. Затем на одно летучее мгновение внимательно посмотрел мне в глаза и мягко пожал мою руку. То же самое проделал и его друг.
После короткой любезной беседы с директором мы отправились в номер, куда вскоре подали завтрак, а вечером нас ждал обед в ресторане. За завтраком Алла опять сбросила с себя юбку. Усевшись на кровати, она принялась наматывать на вилку ломтики розовой ветчины и обертывать их полосками жёлтого сыра. Так у неё выходил аппетитный рулет, который она разрезала на кусочки и клала в мою тарелку, а иногда прямо мне в рот. Это мешало нашей беседе. Но мне совсем не хотелось останавливать Аллу.
Как выяснилось, она была знакома не только с директором отеля Патриком – сорокалетним гомосексуалистом, страдающим от непрочности своих любовных связей, но и с хозяином отеля – богатым молодым казахом Барлыбаем. Патрик долго сомневался перед тем, как продать отель Барлыбаю. Но предложенная сумма и условия контракта (одним из которых являлось пожизненное назначение Патрика директором) оказались настолько привлекательными, что Патрик не устоял перед соблазном. Алла была в курсе всех этих дел, потому как неоднократно принимала участие в переговорах в качестве переводчицы. Ей удалось войти в личный контакт с Барлыбаем, познакомившись с одной из его жён. Как-то раз в торговом центре Алла прогуливалась с двумя грузинами и услышала даму, громко говорившую с франкоязычными продавщицами. На очень слабом английском вперемешку с русским матом. Переводческие услуги Аллы подоспели в нужный момент и пришлись по вкусу как самой даме, так и казахскому олигарху. К несчастью для моей подруги, вскоре после покупки отеля это большое богатое семейство покинуло Брюссель и отправилось на постоянное проживание в Лондон. Алле осталось на память совместное фото, которое она носила у себя в сумочке и использовала во время моего вселения в отель для получения скидки.
В баре марокканского отеля в этот утренний час сидели только трое за одним столиком. Грузный мужчина в мятом костюме доставал из лежащего на коленях портфеля папки с документами, раскладывал их перед собой и вновь убирал обратно. Напротив него сидела молодая пара: девушка в голубом мусульманском платке и длинном темном пальто и парень с плоской темно-русой бородой, полностью закрывающей шею. Мужчина с портфелем что-то долго разъяснял собеседникам, часто вздыхал и поднимал в недоумении брови.
В баре прислуживал высокий, беспрестанно улыбающийся африканец. Я слушал рассказ хозяина отеля об истории марокканской миграции в Бельгию.
– Завидую молодости. Я тоже приехал в Европу в твоём возрасте, – сказал хозяин отеля и провёл ладонью по серебристо-черной шевелюре. – Тогда мигранты приезжали и работали в поте лица, молодые люди не отращивали бород, как вон тот чеченец за столиком с адвокатом.
– Так это адвокат и его клиенты, чеченские беженцы! – воскликнул я и тут же признался хозяину отеля, что я тоже приехал в Бельгию в надежде использовать в своих целях беженскую процедуру.
На что я надеялся, разбалтывая то, что так старательно скрывал от посторонних? В автобусе, по дороге в Брюссель, когда сидящий рядом поляк допытывался о моих планах, я упорно отрицал, что еду в Бельгию за статусом беженца, врал что-то про своего дядю – потомка белой иммиграции. Неужели я в первый день пребывания за границей настолько потерял контроль над собой, что готов выложить все свои секреты первому встречному, дружески хлопнувшему меня по плечу?
– Нет, оставь эту идею, – сказал хозяин отеля.
– Почему же? – не выдержав, спросил я. – Вы много знаете о беженской процедуре? Но вы ведь не адвокат?
– Посмотри, какая широкая задница у этого адвоката. Как медленно и тяжело он ступает. У меня тоже есть свой адвокат. Нет, лучше не говори мне об адвокатах.
– Но что вы тогда посоветуете?
– Женись. Такому видному парню сделать это – сущий пустяк. Только не связывайся с бельгийкой. Найди себе восточную девушку с густыми черными волосами и большими горящими глазами – вавилонскую красавицу, родившуюся в Бельгии…
В университете я учился в одной группе с двумя красивыми девушками, которые всегда и везде были вместе. Я выбрал себе в подруги ту, которая первой согласилась пойти со мной в кино. Озорной взгляд карих глаз на скуластом лице не давал мне покоя днём, темно-русые волосы душили во сне. Но сила этого взгляда значительно уступала притяжению красоты ее более строгой светловолосой подруги. Почему же я не осмелился выбрать ту, что мне нравилась гораздо больше? Впоследствии моя темно-русая избранница глубоко переживала лёгкость, с которой я отдал ей предпочтение, и заподозрила меня в малодушии. Вскоре она изменила мне, и мы расстались. Прошёл год: игривый наклон головы и взгляд исподлобья изменницы потеряли фотографическую четкость, а вот тонкое лицо и прямые светлые волосы её подруги сохранились в памяти в неприкосновенности. В автобусе, по дороге в Брюссель, прижавшись лбом к холодному окну, я думал о том, как вернусь из-за границы домой и попытаюсь исправить свою ошибку.
Хозяин отеля услышал дверной звонок, поднялся и быстрым шагом пошел к выходу. Скрывшись из виду, он крикнул африканцу:
– Жак, проводи молодого человека в комнату номер шестнадцать, когда ему будет угодно.
Адвокат сидел на прежнем месте. Коротко подстриженная голова и выдающиеся вперед челюсти придавали его профилю хищническое выражение. Это впечатление, впрочем, смягчалось странной детскостью маленького лица. Его тело имело грушевидную форму. Очевидно, он нарушал все предписания своей профессии, ведя деловую беседу в баре, а клиенты особенно ценили его за это. Адвокат говорил, чуть наклонившись вперед, упираясь локтями в стол.
– Вам нужно составить простое описание событий по схеме «что, где, когда и почему». – Он принялся чертить что-то на бумаге, с трудом подбирая нужные слова. Его обремененный тяжелым акцентом, лишенный привычного голландского жаргона английский спотыкался. – Вот такая таблица из четырех колонок.
Девушка в голубом платке перевела сказанное бородачу. Они говорили между собой на чеченском языке. Согласные «х» и «ч» хрипели и взрывались на фоне долгих «а» и «я». Девушка с дрожью в голосе на неуверенном английском возразила адвокату:
– Как? Вы разве не прочитали четыре страницы нашей истории, которые мы вручили вам на прошлой неделе?
Дело, должно быть, принимало нешуточный оборот, но я не спешил уходить. Мне очень хотелось проникнуть в мысли беседующих, ощутить себя на их месте.
– Перевод нашей истории стоил большой суммы, – сказала девушка и многозначительно посмотрела на адвоката.
– Ваше дело примут на пересмотр, только если апелляция будет составлена по моей схеме. – Адвокат покраснел и заёрзал на стуле.
– А свидетельство о рождении, из которого ясно, что мы оба настоящие чеченцы?
– Сам по себе факт чеченской национальности не даёт права на статус беженца, – произнёс адвокат писклявым, почти обиженным голосом.
– Почему же тогда тысячи чеченцев и других кавказцев, самозваных чеченцев, получили этот статус? – Девушка в голубом платке с трудом и, похоже, случайно сложила слова в одну фразу и теперь не сводила глаз с адвоката.
Он, ничего не ответив, просто пожал плечами.
Проходящий мимо африканец с бокалом пива на подносе вмешался в разговор:
– Господин адвокат, вон тот молодой русский превосходно говорит по-французски и, наверно, согласится вам помочь в беседе с этими татарами.
Африканец указал рукой с подносом в мою сторону, я поспешно встал и подошёл к столику. Жак придвинул для меня стул. На его коричнево-розовом пальце сверкал алмазный перстень. Мне трудно было определить возраст Жака, но вблизи он выглядел значительно старше тридцати лет.
– Я готов помочь при условии, что ваши клиенты говорят по-русски, – взволнованно сказал я, забыв представиться. Меня немного лихорадило от энтузиазма: я собирался на деле применить свои знания и умения.
Чеченцы владели русским языком как родным. Мне даже показалось, что я их уже где-то видел. Эффект дежавю остаётся чаще всего необъяснимым. Так было и в этом случае.
Чеченец стукнул себя по груди ладонью и протянул её мне для рукопожатия.
– Объясни, пожалуйста, друг, этому балбесу, что я чистокровный чеченец из тейпа «Сливовая долина», – сказал бородач и хлопнул с размаху по папке с документами, лежащей перед адвокатом. – Там у него все бумаги.
Я перевёл сказанное, заменив слово «тейп» на слово «клан».
– Ну, это никуда не годится! – крикнул адвокат. – Они снова за своё! Я устал им объяснять, что, согласно закону, беженцам нужно предоставить факты преследований. Задача государственной инстанции – подвергнуть сомнению и разоблачить истинность этих фактов. Моя задача – указать на ложность разоблачений. При этом государственная инстанция никогда не берёт на себя инициативу поиска доказательств. Доказательства должны быть предоставлены самими беженцами. Для этого необходимо по крайней мере перечислить в хронологическом порядке события, предшествующие их бегству из страны проживания.
Я перевёл речь адвоката и с любопытством ждал ответа чеченских беженцев.
– Когда наш адвокат начал рисовать таблицу, мы подумали, что он издевается, – бородач повернулся всем туловищем ко мне, – потом подумали, что нам нарочно дали ненормального адвоката. Ведь мы неоднократно заполняли такую таблицу, а он, очевидно, каждый раз её терял. – Чеченец сделал паузу, а девушка в платке добавила скороговоркой:
– Завтра последний день, когда можно подать апелляцию, пожалуйста, уговорите его как-нибудь это сделать. Скажите, что мы дополнительно заплатим.
Я перевёл слова девушки и предложил адвокату сейчас же заполнить таблицу событий вместе с чеченцами. Тот прокашлялся и придвинулся к столику:
– Да-да, конечно, приступайте. И заметьте, молодой человек, мои услуги оплачивает государство. Я, конечно, не могу отказать в принятии дополнительной платы просто из уважения к вашей культуре и вашему народу. Но это никак не повлияет на ведение и результат дела. Апелляция будет подана вовремя, прошу не беспокоиться.
Я тут же приступил к заполнению таблицы. Важных событий, кроме отъезда и приезда, оказалось немного, в графе «почему» пришлось многократно написать: кровное родство по отцу с первым президентом Чеченской Республики. Таблица была заполнена за пятнадцать минут. Адвокат пробежал по бумаге красными выпученными глазами, неудовлетворённо крякнул:
– Не густо, – и сунул листок в середину пухлой папки с документами.
– Это папка не с нашими документами. Фамилия моего мужа, а имя другое. Его зовут Ислам-паша, а не Иманпаша, – сказала девушка в голубом платке и в недоумении посмотрела сначала на адвоката, потом на бородача.
– Намекаете на мою ошибку и рассеянность? Вы глубоко заблуждаетесь. В этой папке дела всех двадцати пяти чеченцев, срок подачи апелляции для которых истекает послезавтра. Вам очень повезло: я из тех немногих адвокатов, которые не забывают подать апелляцию. Неподача апелляции в срок приводит к автоматическому закрытию дела и полному отказу в статусе беженца.
Я донёс смысл слов адвоката до чеченцев, но они даже не дослушали меня до конца. Пользуясь моим присутствием, они спешили наперебой задать самые наболевшие вопросы:
– Сколько времени мы будем сидеть в гостинице? Как долго может длиться беженская процедура? Если у нас родится двойня, нас поселят во флигеле, рядом с королевским дворцом? Когда выйдет новый закон о беженцах?
– Сколько раз нужно повторять вам одно и то же? Наберитесь терпения. Никакого закона о беженцах не существует. Каждое правительство принимает новые декреты и постановления, отменяющие предыдущие, но ничего по существу не меняющие. Скажу вам больше, в настоящее время новое правительство никак не удаётся сформировать, и вот уже больше года действует старое, временное правительство, которое ограничено в принятии декретов.
Адвокат попросил прощения и направился к стойке бара. Девушка в голубом платке разволновалась и начала высказывать свои мысли вслух:
– Не может быть, чтобы не было закона. Столько беженцев на наших глазах получили право на постоянное, безоговорочное проживание и социальное обеспечение! Закон есть, и он на нашей стороне. Нам надо что-то срочно предпринять. Может быть, взять другого, платного, адвоката?
Чеченец молчал. Ему, как и мне, было очевидно, что этот женский порыв ни к чему хорошему привести не мог. Адвокат вернулся, сел и направил испытующий взгляд поверх пивного бокала в пространство между мной и чеченцами, сделал глоток, облизнулся, улыбнулся и сказал:
– За сим я вынужден раскланяться, дамы и господа, желаю вам приятного завершения дня.
Он допил пиво, захлопнул папку и, избегая пожатия рук, скрылся на лестнице: сначала голова, потом толстое туловище и, наконец, ботинки на толстой подошве. Я решил сразу пойти к себе в номер. Последние полчаса я только и думал об этом. Мне почему-то казалось, что только сон может избавить меня от хаоса в мыслях. Я отказался от чая, предложенного бородачом. Чеченец обнял меня и снова стукнул себя кулаком в грудь на прощание.
Глава вторая
Рассказ Аллы
После позднего завтрака Алла повела меня на прогулку по городу. Мы шли по шумному проспекту, берущему начало от вокзала. Воздух был наполнен гортанным многоголосием мультикультурной толпы пешеходов. В плоских лужах плавали плевки, окурки и пакеты. Мы свернули на тихую широкую улицу. Мощные раскидистые деревья возвышались над подстриженными кустарниками и ухоженными клумбами разделительной зеленой полосы. По обе стороны стояли виллы посольств с флагами на крышах. Поперечные улицы не разделяли эту улицу на сегменты, а каждый раз огибали её полукругом уютных скверов со скамейками.
На одной из таких скамеек – я сидел и обнимал присмиревшую подругу за плечи – Алла рассказала мне о смерти своего младшего брата. Они выросли в обычной счастливой семье: отец работал инженером, мать – учительницей математики в школе. Семейные несчастья начались с того времени, как в их небольшом городе закрылся завод. Отец потерял работу. Только ранняя смерть – он утонул на рыбалке – помешала ему превратиться в горького пьяницу. Так говорила мать. Вскоре один за другим умерли дедушка и две бабушки. Зарплаты мамы не хватало на жизнь. Во время школьных каникул она вместе с учителями физики и физкультуры летала на самолёте в Турцию. Учитель физкультуры помогал с чемоданами, плотно набитыми дешёвой одеждой. Ее продавали на воскресном рынке. У мамы был слишком тихий голос для торговли на рынке. Она вздыхала от смущения и слишком часто протирала очки. Семья неумолимо скатывалась к черте крайней бедности. Когда брат принес домой газету с объявлением о легальной иммиграции в Европу, мать сопротивлялась недолго. Она продала обручальные кольца трёх семейных поколений и дала детям денег на дорогу. На вокзале плакали все трое. Когда польский автобус привёз Аллу и её брата в Брюссель, ей было восемнадцать, а брату шестнадцать лет. Их поселили в центре по приёму беженцев – бывшей казарме с разбитыми санузлами, где находились еще десять человек. В первую же ночь ребята выпрыгнули из окна и отправились блуждать по городу. Они шли бездумно и бесцельно, следуя указателям. Иммигрантские кварталы – грязные, глухие, заброшенные – сменились центральными улицами. (Алла всхлипнула; она была убеждена, что, если бы они тогда ночевали в казарме, её брат остался бы жив.) Они зашли в первое попавшееся открытое кафе. Там сидели три немолодых грузина, которые пригласили ребят к столику, накормили и предложили ночлег на втором этаже дома, по их словам, населённого мигрантами. Алла смутно помнила фосфоресцирующий блеск черных глаз, плотоядные губы и заверения в отцовской любви одного из грузин. Брат умолял её не соглашаться на ночлег. Но они уже едва переставляли ноги от усталости, и Алла, как старшая, решила принять предложение. Они поднялись вместе с грузинами на второй этаж и зашли в пустую комнату. На полу лежали грязные матрасы. Один из грузин позвал брата в коридор, двое других набросились на Аллу. Она рванулась испуганной ланью, освободилась на несколько секунд от тяжёлых, вяжущих и закрывающих рот рук и истошно закричала. Брат оттолкнул своего пьяного конвоира от двери, вбежал в комнату и разбросал обидчиков по углам хлесткими ударами кулаков и локтей. Те, пьяно огрызаясь и кряхтя, выползли один за другим из комнаты. Дом затих. Алла с братом провели остаток ночи здесь: идти им больше было некуда. Алла во сне тесно прижималась к брату, его тепло согревало её и унимало дрожь – могла ли она подумать, что на следующий день будет рыдать, держа в руках это же, но уже холодное тело?
Алла несколько раз повторила свой вопрос, как бы пытаясь полностью донести до меня весь его непостижимый ужасный смысл. Я крепче обнял её и поцеловал в мокрое от слёз лицо.
Следующим утром грузины пришли звать юных беженцев на завтрак. На столике в кафе дымилась огромная яичница. Из двадцати свежих яиц, уточнил с доброй усатой улыбкой вчерашний насильник. Грузины сдвинули столики, разломали на толстые куски каравай белого хлеба и сели за стол вместе с ними. Алле на минуту стало плохо, на смену острому чувству голода к горлу подступила рвотная судорога – ей показалось странным, что они снова сидят за столом в том же кафе, как будто ничего не изменилось после страшной ночи. Во время еды грузины предложили брату работу на стройке. Алла вместо ответа пристально и озабоченно посмотрела на брата. Почему она тогда не удивилась крайней бледности его лица, спрашивала она себя. Брат переспросил адрес и, не притронувшись к еде, встал из-за стола. Они вместе вышли из кафе, брат поцеловал Аллу в щёку, но то был не простой лёгкий поцелуй; Алла до сих пор уверена, что прикосновение упругих дрожащих губ к её щеке было последней попыткой младшего брата задержаться на этой земле. В тот день она ничего не чувствовала, не замечала прохожих и как в забытьи заходила в агентства по недвижимости, причем, скорее всего, в одни и те же, потому что ответы становились всё более грубыми и короткими. Под конец рабочего дня Алла потащилась, еле волоча ноги, пешком на стройку. Брат не ждал её у ворот, как они условились. Она несколько раз прошлась вокруг строительного забора. Каркас многоэтажного здания окружала пугающая тишина: из черных глазниц окон не раздавалось ни звука. «Ждать или идти в казарму?» – спрашивала себя Алла, вспоминая, как брат клялся со слезами на глазах, что никогда не вернётся туда. Она перелезла через забор. Свет падал с улицы через чёрную пустоту окон и дверей. Преодолевая тяжелую тоску и страх, она долго блуждала по кирпичным проходам. На втором этаже в боковой комнате с черной глазницей окна, выходящей на запад, Алла обнаружила брата. Повешенного за шею на стальном пруте, выступающем из стены. Холодные руки, мокрые штаны, мёртвое тело. Она перерезала острым куском кирпича то, на чём висел брат. Это были её капроновые колготки. Потом села на пол рядом с лежащим телом и, задыхаясь от боли, которую невозможно было вынести и не с кем разделить, отдалась вырывающимся из груди спастическим рыданиям. Ночью она то падала в бездну короткого сна, то в ужасе просыпалась в обнимку с холодным телом. Самая страшная мысль пришла к ней перед рассветом: сейчас дома с кровати встаёт мама, обувает тапочки и идёт чистить зубы.
Слезы залили лицо Аллы. Не зная, как её успокоить, я принялся рассказывать о своих планах: вернуться домой, открыть переводческую фирму, жить в самом центре большого города. Алла слушала меня внимательно, но часто перебивала и качала красивой головой, не соглашаясь. Наконец, мы как-то одновременно и резко замолчали. Я почувствовал себя надломленным, но старался всеми силами скрыть это и надеялся на перемену в её настроении.
Послеобеденное солнце скрылось за непроницаемой пеленой тумана. Назад к отелю мы шли по короткому пути – извилистой улице, зажатой между обшарпанными фасадами двухэтажных домов. На узких тротуарах валялись мусорные мешки, сломанные стулья, старые матрасы. Даже днём идти здесь, вероятно, было не совсем безопасно. Впрочем, я легко отогнал эти мысли, а неприглядная улица довольно скоро вывела нас на чистый плиточный тротуар торгового квартала. Алла повеселела и призналась, что очень голодна, что ей не терпится шикарно пообедать за счёт отеля.
– До вечернего обеда ещё два часа, – сказал я.
– Эти часы пролетят очень быстро. Я знаю, чем их занять в номере, – сказала Алла, простовато улыбаясь.
Лифт отеля был занят. Мы поднимались по лестнице. Кудрявая старушка медленно прошла наверх, белые штаны и голубая блузка безжизненно висели на тощем туловище. Алла останавливалась почти на каждой ступеньке. Я жадно и всё же сдержанно прижимался губами к её открытому рту, успевая упереться взглядом в перила и стены. Я был горд своим самообладанием и своей подругой.
Во время обеда в ресторане мысли о счастливом будущем, связанном с Аллой, не давали мне покоя. В её глазах я выглядел загадочным и задумчивым – и поэтому, наверное, ещё больше нравился ей. Она придвинула свой стул и склонила голову на моё плечо. Её ушная раковина покраснела, а волосы на виске чуть растрепались. На губах густым слоем лежала светлая помада, высокую шею закрывал отворот свитера. На гладкой коже чуть удлиненного лица розовел нежный румянец. На мои расспросы о жизни на чужбине Алла отвечала ухмылкой. Я буквально не сводил с неё глаз. Между тем зал ресторана был уже до отказа заполнен обедающей публикой. За соседним столиком сидел знакомый мне адвокат с немолодой красивой женщиной. Мне показалось, что он похудел и стал как-то стройнее.
– Этого адвоката я видел вчера в дешёвой гостинице с чеченскими беженцами. Не пойму, откуда он набрал столько важности, – заметил я, указывая поворотом головы на недавнего знакомца.
– Это брат адвоката – врач-психиатр, – поправила меня Алла.
– Всего лишь врач, а пыжится как индюк.
– Этот врач помог многим получить право на проживание. С ним можно без труда общаться. Он внимательно смотрит в глаза собеседника и только кивает. Это может длиться часами, если не прерывать свой рассказ. На четвертом приеме он выписывает справку, подтверждающую посттравматический синдром беженца.
Я молчал, смотрел ей в глаза и внимательно слушал. – Ты зря пытаешься меня соблазнить возвращением домой, – сказала Алла, прижимаясь ко мне бедром. – У меня пятилетняя карточка на проживание в Бельгии и бессрочное пособие.
– Ты была на приёме у психиатра? – спросил я с недоверием. – Он может помочь и мне получить документы?
– Если ты будешь меня слушаться. И смотреть на всё проще. Главное, чтобы я тебе нравилась бесконечно. Но я иногда думаю, что нравлюсь тебе недостаточно.
– Вполне достаточно, чтобы тебя слушаться, – ответил я.
Алла зарычала сквозь зубы от удовольствия.
Я перевёл взгляд на психиатра. Он был суетлив и разговорчив. Красивая женщина в коротком платье слушала его, положив ногу на ногу, и почти всё время молчала. Вряд ли она была женой этого человека. Психиатр поймал мой любопытный взгляд, и его лицо приняло злобное выражение, казалось, он вот-вот бросится с кулаками на меня, нахального мальчишку, нагло рассматривающего его полуголую женщину.
– Сейчас разразится скандал, – усмехнулся я.
– Да, такие любят затевать скандалы в ресторанах, – ответила Алла, пренебрежительно посмотрев на психиатра. – Я беру этого типа на себя после десерта. Тебе он может пригодиться.
Алла погладила меня раскрытой ладонью по затылку.
– Неужели эти выдумки насчёт бесплатных психиатров, адвокатов, переводчиков, регуляризаций, запросов и апелляций – всё это правда?
– Ты должен отбросить свои комплексы и сомнения. Ты думаешь, что перед тобой железный занавес. А на самом деле это трухлявая стена.
– Я вообще стараюсь ни о чём не думать – я глупею от приятных ощущений и цепенею от неприятных.
– Какой же ты глупый мальчишка. – Алла пересела ко мне на колени, обвила руками мою шею и прижалась грудью к лицу. Потом встала, поправила юбку и, стуча каблуками, направилась к столику психиатра.
Глава третья
Африканский консультант
На следующее утро Алла отправилась на курсы социальной ориентации, я же сидел в зале ожидания возле психиатрического кабинета. Узкий коридор походил на полупрозрачный длинный футляр для авторучки. За моей спиной смутно белело огромное матовое окно, заменяющее стену. Противоположная стена была на всём протяжении, от пола до потолка, заставлена серыми алюминиевыми шкафами со стеклянными раздвижными дверцами. На бамбуковом столике лежала растрепанная стопка худых глянцевых журналов. Среди них я откопал рекламный буклет корпорации «Жак Солей Нуар э Компани».
Жак вёл меня на второй этаж марокканского отеля. Мы поднимались по узкой, тускло освещённой лестнице, зажатой между двумя обшарпанными стенами. В затхлом лестничном пространстве стоял пряно-мускусный запах. На втором этаже я невольно замедлил шаг, так как лестница становилась всё уже. Тут же вспомнились цыганские дети – эта лестница отлично подходила для их нехитрой ребячьей забавы. Возле двери одного из номеров Жак передал мне ключ и сказал:
– Знаешь, парень, а я ведь такой же хозяин отеля, как и марокканец. Тебя это удивляет?
– Удивляет и не удивляет одновременно. – Я вежливо улыбнулся и попробовал вставить ключ в замочную скважину. – Не подходит. Или я что-то неправильно делаю?
– Это, наверно, не тот ключ. – Жак без усилий открыл дверь другим ключом и толкнул ее ногой. Фанерная дверь с легкостью мотылька отлетела и ударилась о шкаф.
В номере был включен свет. Наверно, только что закончили убирать. Приоткрытая дверь в туалет поскрипывала на сквозняке – там было распахнуто окно. Широкая кровать с тумбочками по бокам занимала почти всю комнату, оставляя два совсем узких прохода возле окна и шкафа. Я был так занят осмотром номера, что вздрогнул, когда услышал голос Жака, продолжавшего стоять в дверном проёме:
– Многие наши постояльцы вообще не закрывают двери и не пользуются ключами.
– Как долго живут беженцы в отеле? – спросил я Жака. Раз уж он не уходил, мне хотелось использовать его присутствие, чтобы узнать о том, что меня ждет, как можно подробнее.
– Обычно от шести месяцев до года. Я живу здесь уже пятнадцать лет. У меня в настоящий момент активировано одиннадцать беженских процедур.
Я вскинул глаза на Жака.
– Хочешь выслушать мой рассказ? – спросил он. – В таком случае опусти задницу на край кровати и прикрой дверь. Тебе не мешает побольше узнать о беженской процедуре. Ни чеченцы и ни один адвокат не расскажут об этом больше, чем я.
Я достал из бокового кармана несколько скрепленных листов и бросил их на середину кровати.
– Разве недостаточно вот этой информации?
– Ты ведь хочешь остаться жить в Бельгии?
Мне было до крайности неприятно делать подобного рода признания, поэтому я сказал:
– Да, но не любой ценой.
– Даже так? Отлично понимаю, но должен заметить, это совсем не просто, – произнёс Жак и тут же продолжил: – Не замечал, что африканцы в глазах белых бывают похожи друг на друга, все на одно лицо, ну, как, допустим, апельсины?
– Мне трудно об этом судить: за свою жизнь я видел не так много африканцев, – сказал я.
Жак громко засмеялся, шлепнув меня по плечу.
– После разговора адвоката с чеченцами мне стало казаться, что я быстро проиграю беженский процесс. У меня даже возникают сомнения, в ту ли страну я приехал.
– Да, процедура имеет свойство длиться, а долгое ожидание ответа парализует волю. Главное, вовремя обратиться к специалисту, чтобы тот просчитал варианты. Итак, первая возможность – тебя признают беженцем после второго интервью. Но с тобой это уж точно не случится. Не из той ты части света, парень. К тому же у признанных беженцев ужасные характеры. Эти люди недоверчивы, заносчивы, до крайности самолюбивы и чуть что непременно становятся в позу оскорблённой жертвы.
Горящие глаза Жака смотрели на меня в упор. Я подумал, что он делится со мной отнюдь не отвлечёнными мыслями, похоже, он сам пережил многое из того, о чём рассказывает. Если его целью было привести меня в смятение, то ему это удалось.
Внезапно у Жака зазвонил мобильный телефон. И он быстро, рискуя подавиться отрывистыми фразами, заговорил на африканском языке. Телефонный разговор был прерван на самой высокой ноте. Откровения Жака меня совсем не интересовали. Но что-то настораживало в этом говорливом африканце и в то же время подсказывало, что лучше слушать его, чем убегать от погони вниз по узкой лестнице.
– Ты, конечно, слышал, что во время беженской процедуры в этой стране беженцы находятся на свободе, а не в закрытом лагере, похожем на тюрьму. Ты не голоден, случайно? – спросил Жак и протянул мне завёрнутый в бумагу блин-шаурму.
Сам тут же впился зубами в другой блин. Я держал незнакомое кулинарное изделие в руках и не сводил глаз с огромной, не помещающейся в дверном проеме фигуры африканца, принесшего яство. Никогда я не видел таких великанов вблизи. Распущенные жесткие волосы спускались широкими смоляными локонами на кожаную куртку, готовую разорваться от ширины крутых плеч. Вошедший без стука гость стоял, пригнув голову, на пороге и переминался с ноги на ногу. На шее и запястьях великана тренькали золотые цепи и серебряные браслеты. Жак сунул ему в руки банкноту, махнул рукой и сказал задумчиво, когда гость исчез:
– Вот такой конголезский колосс, обаятельный, улыбчивый, сильный и уверенный в себе, а не нашлось ему другого применения в этой стране, как быть моим телохранителем.
Мне очень хотелось развернуть блин, залитый сверху густым желтым соусом, но это было не только неприлично, но и практически невозможно. Ничего не оставалось, как, не вставая с кровати, приступить к трапезе. От непривычного пряного запаха горячего мяса, маринованных овощей и острого соуса у меня помутнело в глазах. Желудок отказывался принимать незнакомое угощение, и только усилием воли я сдержал рвотный рефлекс. Моя рука потянулась за лежащей посередине кровати баночкой кока-колы. Я нетерпеливо дёрнул за кольцо на крышке, запрокинул голову и жадно прижался ртом к шипящему отверстию. Глоток холодной сладкой пены вернул меня в прежнее сознательно-рассудительное состояние. Мой первый вопрос был:
– Не могли бы вы поподробнее рассказать о том, как беженцам удаётся растягивать время и удлинять срок процедуры?
– Никаких особых усилий для этого не требуется, – с ноткой детской обиды ответил Жак. – Беженец просит убежище в службе по делам иностранцев. Через несколько месяцев после первого интервью его вызывают на второе, решающее интервью. Он получает бесплатного адвоката, но задержать процедуру на этой стадии довольно трудно. Правда, бывает так, что даже эта начальная стадия сама по себе растягивается на годы. Вызов на второе интервью для слушания дела, по существу, является кульминацией всей процедуры. Только после отрицательного ответа после второго интервью в работу по-настоящему может включиться адвокат. Он занимается подачей нескончаемых апелляций: на отмену решения, на пересмотр дела, на отказ в пересмотре дела, на отказ в последней апелляции. Подавать апелляции адвокату совсем не трудно. В заготовленных документах заменяется имя просителя, и вся стопка бумаг отправляется заказной почтой. Если адвокат не ошибается в имени просителя и не забывает подать прошение в срок, то процедура рассмотрения апелляционного дела затягивается на несколько лет.
Я попросил у Жака разрешения использовать по малой нужде расположенный в полуметре от нас крошечный туалет.
Когда я снова сел на кровать, мой собеседник продолжил:
– Тысячам сирийцев, иракцев и сомалийцев в любом случае дают статус. Но не все могут выдать себя за сирийца или сомалийца. Многие тысячи других униженных, слепых и беззащитных идут по петляющему процедурному пути без всякой надежды на успех. Они никогда не узнают, кто решает их судьбу, кто заставляет усталых чиновников принимать решения по их делу. Потом, собирая поручительства для прошения об амнистии, они не знают, достаточное ли количество подписей им удалось собрать. Они находятся на свободе, но это бездеятельная, выжидательная и мнимая свобода, которая может в любой момент обернуться арестом и высылкой из страны. Я предлагаю тебе пойти другим путём.
Жак очень быстро проговорил последнюю фразу с особым ударением на слове «другим» и пристально посмотрел на меня. От одной мысли, что я всегда могу вернуться на родину, я почувствовал ту особую бездумную лёгкость, которую испытываешь, проснувшись рано утром после тяжёлого сна. Мне надо дослушать Жака и выйти из этой комнаты, чтобы никогда сюда не возвращаться.
– Прибывающие просители убежища настолько подавлены многолетней беженской процедурой, что напрочь забывают, зачем они изначально приехали, – сказал Жак. – А тебя я приглашаю за скромную сумму воспользоваться услугами легальных консультантов «Жак Солей Нуар э Компани».
– В чём заключается деятельность компании? – спросил я.
– Очень хороший вопрос. Я его давно ждал. Деятельность корпорации основана на одном общеизвестном феномене. Я тебе уже на него намекнул. Но ты, конечно, ни о чём не догадался. Это и неудивительно. Ведь бывает даже так, что всё объяснишь заинтересованным людям, а они ничего не понимают, не верят. Знаешь, на меня ведь много раз доносили властям. Но те не поверили доносам, списали всё на африканское шаманство.
Жак сделал паузу и допил кока-колу.
– Всем известно, что чернокожие пользуются тем, что в глазах белых они выглядят похожими друг на друга. Откажут им один день в статусе беженца, а они снова стоят на следующий день у ворот беженской службы, скрываясь под другой фамилией. Именно в ответ на эти злоупотребления власти стали несколько лет назад брать у всех просителей убежища отпечатки пальцев. Безвыходная ситуация, правда? Но меня не оставляла мысль, что феномен безликой похожести рано списывать со счетов. Никто не берёт отпечатков пальцев на каждом шагу в обыденной жизни, а что такое обыденная жизнь, как не своего рода длящаяся процедура?
Один из моих друзей уезжал из Бельгии, чтобы жениться на своей конголезской подруге детства, которую угораздило получить статус беженца в Норвегии. Замечательная страна, говорят, со сказочными снежными пейзажами и социальными пособиями. Этот мой друг продал мне свою легальную бельгийскую личность. Я поселился в его социальной квартире, где в то время жили только белые пенсионеры, познакомился с его социальной ассистенткой и до сих пор посылаю ему ежемесячно одну десятую часть прожиточного пособия. Чуть не забыл, мой друг получил статус беженца в Норвегии под другой фамилией и передумал жениться. Он заведует скандинавским филиалом моей корпорации.
Жак прервал свою речь – в дверь задом входил великан с водопадом смоляных кудрей. Он принес кофе с пирожными и поставил поднос посередине кровати. Я отказался от десерта, а Жак с энтузиазмом одним махом проглотил несколько мини-эклеров и, не обращая внимания на мое состояние, продолжил рассказ, шумно втягивая толстыми бледными губами горячий кофе.
– Беженцы охотно продают свои затянувшиеся процедуры на разных стадиях рассмотрения. Я покупаю их за чисто символические цены и довожу разными способами до логического завершения. Я заметил, что люди легче расстаются со своей процедурой, если она начата под чужим именем. Проситель убежища должен назвать фамилию и имя, но у него никто не станет требовать паспорта, так как его отсутствие можно объяснить множеством уважительных причин.
А самое безнадёжное беженское досье может обернуться удачной сделкой. Обычно это случается после амнистии отказников и нелегалов, дату проведения которой предугадать сложно. После амнистии из каждого наличного досье рождается новая личность с правом на прожиточное пособие. Это, конечно, ещё не чистая прибыль. У корпорации есть много расходов, нужно постоянно перемещаться по стране, распределять и прописывать фиктивные личности. Чтобы не попасть под надзор социальных служб, иногда приходится переводить клиентов на пособия по инвалидности. Посттравматический синдром, маниакальная депрессия и раздвоение личности – вот только некоторые психические заболевания, которые мне и моим подопечным удаётся без особого труда симулировать.
– Не понимаю, зачем вы мне рассказываете все эти детали, ведь принцип похожести не применим к белым людям? – тихим голосом спросил я. Непреодолимое желание выйти из номера всё больше овладевало мной. Слушать подобный бред в век биометрических технологий становилось невыносимо.
– Ты очень проницателен, – улыбнулся Жак. – Принцип действительно не работает в полной мере, если касается белых беженцев. Добавлю только – в одной стране. Идея двойных личностей применима в случае, когда личности создаются в разных странах. Допустим, тебя амнистировали под вымышленным именем, которое ты использовал при запросе статуса беженца. Но ведь у тебя остался паспорт на настоящее имя? И потом, у моей корпорации есть планы отчасти легализовать свою деятельность и открыть адвокатскую контору. Учти, за такими чёрными, предприимчивыми, как я, людьми будущее. Прими это будущее, приблизься к нему, я протягиваю тебе руку.
Но я уже не слушал, а довольно неуклюже перелезал через скрипучую кровать к двери.
– Куда же ты? – удивлённо вскрикнул Жак.
В дверном проёме тут же показалась огромная фигура длинноволосого великана.
– Мне надо на вокзал, в камеру хранения, за чемоданом. Там у меня есть пара непритязательных сувениров для вас, мсье Жак, и вашего друга, – сказал я.
Великан отступил от двери, и я, перескакивая через две-три ступеньки и пугая цыганских детей, сбежал по лестнице. В это мгновение я боялся только одного: не найти сразу выход из отеля. Я ведь и раньше замечал за собой, что плохо ориентируюсь в незнакомых местах.
Глава четвёртая
С доктором Гретой
Справа от двери кабинета доктора стоял детский алюминиевый самокат. Ждать мне пришлось долго. Через полчаса я начал нервно ёрзать на голубом пластмассовом стуле. Мысли постоянно возвращались к Алле, адвокатам, беженской процедуре. Вернуться домой и потерять подругу или остаться и привязать себя к ней и её – к себе? Так я просидел три часа, подавленный своими путаными мыслями и нерешительностью. В полдень стеклянная дверь кабинета психиатра широко распахнулась. Мимо меня быстрым шагом на коротких, не сгибающихся ногах прошёл квадратный чеченец в кепке. Вслед за ним показалась женщина в модном брючном костюме, похожая на узбечку или казашку. Прошло ещё несколько минут, хлопнули дверцы автомобиля, кавказский клиент и его среднеазиатская переводчица выехали за ворота. И только после этого щуплая женщина со стертым лицом и копной подстриженных седых волос махнула сухой рукой, зазывая меня в кабинет.
Она представилась компаньоном психиатра и была готова меня выслушать. Я попросил разрешения говорить по-английски, считая этот язык более доходчивым, логичным и менее лицемерным, чем французский. Она кивнула с глупым старушечьим энтузиазмом, приглашая меня тут же приступить к делу.
– Решившись иммигрировать – а для меня это был безумно храбрый поступок, – я зашёл по грудь в обжигающе холодную воду и теперь стою перед выбором: поддаться нестерпимому желанию выбежать из воды или же попытаться согреться резкими, размашистыми движениями неопытного пловца, – сказал я. Это была моя попытка расположить к себе старушенцию своей искренностью. Преимущества такого подхода казались мне несомненными. Но я ошибался.
– Стоп! – грубо оборвала меня маленькая седовласая дама. – Я не терплю прилагательных. Пожалуйста, употребляйте их как можно реже. А теперь продолжим. Вы, несомненно, страдаете синдромом отчуждения, расстройством личности и психопатией. Женщины на велосипедах, исторические памятники раннего и позднего Средневековья, собаки на поводках, аптеки и скопления магазинов с чистыми витринами вызвали у вас культурный шок. Преимущества здешней жизни кажутся вам несомненными. Но вы не можете чувствовать себя в безопасности до тех пор, пока не получите статус постоянного жителя. Вы вздрагиваете от почтальона в фуражке, путая его с полицейским. Ажурные ворота прячущихся за зеленью вилл напоминают вам тюремную решетку, а шум газонокосилки – пулеметную стрельбу. Всё вокруг раздражает вас и противоречит вашей строгой исконной культуре. Верно?
Я растерялся. Вблизи лицо старушки больше не казалось мне таким уж по-черепашьи вялым, как представилось вначале. Упорные глаза излучали тусклый, но ровный свет. Эта неказистая пожилая женщина имела неистощимый запас энергии, не исключено, что она могла без устали ходить по горам и пережить своих детей и внуков, если таковые у неё имелись.
– Не пугайтесь, я не буду задавать много вопросов. Но вы получите домашнее задание. Вам надо будет перечислить по пунктам и записать с пояснениями все события вашей короткой сексуальной жизни. Затем я разработаю профиль вашей сексуальной ориентации. Тут нас могут ждать неожиданности. Но вы должны быть уверены, что данная информация абсолютно необходима. Иногда простой, правильно составленный очерк сексуальной ориентации является достаточным для получения права на проживание. Радуйтесь, что вы имеете дело с доктором со стажем – мадам Гретой. В моём архиве несчетное количество успешно завершенных дел иностранцев. На прошлой неделе мне пришло позитивное решение для многодетной афганской семьи. Знаете, на чём был основан мой запрос о медицинской амнистии? Семилетний сын мочился в кровать от страха депортации.
Грета бодро подмигнула мне, но я молчал. Она придвинула стул и положила на стол ноги в коротких белых штанах и босоножках. Этот жест должен был символизировать раскрепощенность и демократичность её мышления. Но я остро почувствовал бесполезность встречи. Грета подпёрла дряблую щёку двумя пальцами и пристально посмотрела на меня. Она не понимала причину моего молчания и снова попыталась меня подбодрить:
– После нашей четвёртой встречи я должна буду заполнить с вашей помощью бланк для запроса медицинской амнистии, который вы сможете отнести адвокату. C этим стоит поспешить – сейчас чрезвычайно благоприятное время для подачи запроса. Все запросы признаются приемлемыми к рассмотрению одним армейским врачом, который как военнослужащий не имеет права выносить негативные решения по делам другого министерства.
Преувеличенное подчеркивание Гретой некомпетентности государственных служащих показалось мне подозрительным. Не является ли это отвлекающим маневром, дымовой завесой для доверчивых и убогих? И с какой целью это делается? Не совпадают ли интересы чиновников – гарантия места или продвижение по службе – с интересами адвокатов и психиатров? Не предлагается ли мне стать игрушкой в руках психиатров-маразматиков и ненадёжных апатичных чиновников?
– Разбирательство дела может длиться несколько лет, и всё это время просителю выплачивается полное прожиточное пособие. – Грета продолжала активно завлекать меня в свои сети. – Собственно говоря, настоящая работа психиатра и адвоката начинается после первого отказа в медицинской амнистии, когда становятся известны его обоснования. Чем мотивированнее отказ, тем легче добиться отмены решения. Мотивированный отказ не только даёт ключи к успешной апелляции, но и сам по себе является хорошим знаком: запрос был по меньшей мере внимательно прочитан и рассмотрен по существу. Вы, может, спрашиваете себя (я сужу по неизбывной тоске в ваших пустых глазах): откуда берётся этот мой энтузиазм? Может, мне просто нравится говорить по-английски? Или я рада воспользоваться такой редкой возможностью пообщаться на этом интеллектуально гибком языке?
Грета разразилась хохотом, который тут же перешёл в отрывистый, астматический кашель. Если я не хочу потерять Аллу, то должен решиться и вступить в сделку или, для начала, хотя бы в беседу с этой азартной больной дамой. Я не могу расстаться с Аллой. Меня всегда выручали девушки и женщины. Я был безумно любим мамой и бабушкой. Потом к ним добавились молодые воспитательницы в мини-юбках в детском саду – они постоянно брали меня к себе на круглые колени, нежно обтянутые тончайшими капроновыми чулками. Чопорные преподавательницы химии и физики в школе обожали меня и внушили мне, что я самый способный ученик школы за последние двадцать лет. И вот теперь Алла, моя случайная, несчастная и нежная подруга, моя немного глупая, немного вульгарная, неброско красивая, не в меру стройная и гибкая кукла с чуть писклявым голосом, опекала меня в трудной ситуации. Она устроила для меня встречу с психиатром, попасть к которому можно было, только записавшись за два месяца заранее. Мне надо взять себя в руки и хоть как-то поддержать разговор. Но я размяк и от ужасной усталости не мог выдавить из себя ни слова. Я мало спал в последние дни, и мне приходилось из последних сил сдерживаться, чтобы не закрыть глаза. Тогда бы я сразу погрузился в сон, и неизвестно, где бы проснулся. Я ущипнул себя за ногу, достал из бокового кармана свой диплом и протянул его психиатру. Грета раскрыла твердую красную корочку документа, с изумлением и неприязнью покосилась сначала на перевернутый русский текст, затем на меня.
– Господин Эндрю, я не смогу заполнить требуемый бланк без вашего участия.
Я исторгнул громкое мелодичное мычание, а Грета, облизав сухие губы кончиком языка, заговорила с серьёзным и сосредоточенным выражением лица:
– Я понимаю трудности, с которыми вы сталкиваетесь, пытаясь передать мне отчёт о своём маниакально депрессивном состоянии. В ответ на вашу преувеличенную тревогу скажу следующее: психиатрии времён позднего СССР больше не существует. Наша психиатрия – пусть не самая точная, но самая гуманная наука, которая извиняет всё, что понимает, а иногда даже и то, что не совсем понимает. Суть этой науки – терпимость к человеческим слабостям, и в этом смысле мы, психиатры, пошли дальше, чем любая религия. Психиатрия встаёт на защиту обездоленных, осуждённых и забытых современным миром. Подумать только, мы до сих пор сталкиваемся с презрением, унижением всего нашего сословия психиатров, психологов, психоаналитиков.
Моя собеседница говорила долго, предложения плавно закруглялись, перетекали одно в другое; она говорила так искусно, что слабые и рискованные места её рассуждений неизменно обращались в сильные, речь лилась без запинки и без видимых усилий. Похоже, Грета решила в полной мере использовать моё молчаливое присутствие в этом кабинете. Но с какой целью? Потренировать своё красноречие? Мне было непонятно, почему она говорила с такой странной степенью самоотдачи об отвлеченных и бесполезных вещах с одним из многочисленных клиентов. Я тихонько вздыхал, думал о чём-то глупом, но своём, почти перестал слушать Грету и вздрогнул, когда она напрямую обратилась ко мне, произнеся имя Аллы.
– Вот вы, молодой человек, делаете вид, что не нуждаетесь в моих услугах. Время от времени вы скрещиваете руки на груди. Типичный жест непризнанного беженца. Но вы отнюдь не случайно находитесь в моём кабинете. Я помогла в своё время получить Алле статус нуждающейся в защите жертвы проституции, что позволяет ей получать хорошую субсидию. Только не подумайте, что ваша очаровательная подруга занималась проституцией. Совсем наоборот, сам факт, что она разрабатывала со мной подобный метод своей защиты, значительно уменьшает шансы предполагать, что она когда-либо занималась проституцией. Эта странная закономерность описана в моей научной работе «Рефлекс втягивания лап у черепахи и поиск истины в рассказах беженцев». Алла стоит на правильном пути, проходит курс социальной интеграции, отлично говорит по-французски и учит голландский. Вы не первый беженец, которому она отдаёт свое доброе сердце. Это тоже своеобразный синдром. Она, бедняжка, так много пережила, что может любить только новоприбывших беженцев. Другие мужчины и женщины её не интересуют. А к беженцам она привязывается и не отпускает их от себя. К сожалению, ничего, кроме разочарований, на этом пути её не ждёт. Беженцы – люди непостоянные, ненадёжные и чрезвычайно легкомысленные. Итак, вот вам контракт, внимательно почитайте его, там же вы найдёте условия оплаты. Я ожидаю вас на этой неделе в среду, четверг и пятницу. За одну неделю мы сможем пройти все требуемые четыре сеанса психотерапии.
Грета пожала мне руку. Мы вместе вышли за дверь. Не сказав больше ни слова, Грета встала на самокат и покатила, оттолкнувшись босоножкой от пола, в другой конец коридора.
– Извините, мне надо срочно сделать пи-пи! – выкрикнула божья старушка, игриво оглянувшись.
Я медленно направился к выходу.
Аллу я нашёл в ресторане отеля. Она сидела за столиком вместе с двумя грузинами, похожими друг на друга черными блестящими глазами и черными же, гладко зачёсанными назад волосами. Увидев меня, оба вскочили, замахали руками и усадили меня за стол. Они говорили взахлеб, со странно певучей интонацией, заводя глаза к небу, хлопая меня по плечам с двух сторон и заверяя в своей дружбе.
– Ты давно с ними знакома? – спросил я, резко встав.
– Ты меня уже ревнуешь? – Алла сначала строго посмотрела на меня, а потом улыбнулась и кивнула изумлённым грузинам.
Те тут же поднялись из-за стола и удалились.
Когда мы остались вдвоём, я принялся рассказывать Алле о встрече с психиатром, больше ни словом не упоминая о грузинах, на корню пресекая в себе проявления ревности, упрямства или нетерпения.
– Малыш, ты странно вёл себя с Гретой, единственным человеком, который может помочь тебе получить право на легальную жизнь в Бельгии. – Алла положила руки на колени скрещенных, безукоризненно стройных ног и спокойно взглянула мне в лицо. – Ты хоть понимаешь, что наделал? Объясни, что с тобой происходит? Твои мысли заняты чем угодно, но только не мной. Ты не любишь меня.
– Конечно, люблю, и мысли мои заняты тобой одной.
– Ты хоть понимаешь, что наделал?! – повторила Алла, теряя терпение. – Какой диагноз может тебе поставить врач, если ты молчишь, губишь всё своим идиотизмом и делаешь это за сто евро в час, не имея больничного страхования?
– Алла, прости меня, послушай, я ничего не погубил. Грета назначила мне ещё три встречи. Дело в том, что она сама заткнула мне рот в самом начале, – пытался защищаться я. – Я физически не могу сносить унижений от учёных тупиц, претендующих на интеллектуальное превосходство. Каждая жилка во мне напрягается, и из меня готова выстрелить какая-то пружина. Я едва сдержался.
– Мне остаётся только заплакать от радости и кинуться на шею настоящему мужчине? – Алла не скрывала больше своего раздражения и оттого раздражалась ещё больше.
– Эта Грета вцепилась в меня, как паук, и не отпускала целых два часа. Мне стало тошно от её старушечьего кривлянья и какого-то ведьмовского азарта, – сказал я и сразу почувствовал, что мне не стоило так говорить.
Алла принялась защищать Грету и делала это в агрессивной манере, оправдывая свою грубость тем, что желает меня спасти.
Я взял её за плечи и резко встряхнул:
– Алла, я панически боюсь таких яростных ссор. Они ведут к расставанию, которое я пытаюсь всеми силами предотвратить. И чем больше сил я к этому прилагаю, тем больше вероятности, что всё разрушится само собой.
– Зануда, какой же ты глупый зануда, – сказала Алла и мило сложила губы для поцелуя.
Следующим утром мне не пришлось долго сидеть в приёмной. Похоже, в стране отмечался какой-то праздник. В приёмной царила гнетущая тишина. Возле двери кабинета поблескивал хромированными колёсиками самокат Греты. На этот раз приёмная поразила меня своим жалким видом. Длинный, слишком узкий коридор, белые обои с черными следами обуви внизу за стульями. Стенные шкафы, которые я вчера принял за алюминиевые, на самом деле были сделаны из опилок и покрыты каким-то пластиком. Опилки со всей своей очевидностью проступали в местах оторванного пластика. Пластмассовые стулья эпатировали нищенским примитивизмом. Если даже частная практика и разрасталась, замахнувшись на многое, вкладывать средства в офисный интерьер, приняв в учет неприхотливость клиентуры заведения, здесь посчитали излишним.
Из полуоткрытой двери кабинета выглянуло круглое лицо адвоката в докторской шапочке и вместе с ним – половина объёмистого туловища в белом халате. На эмблеме, вышитой на нагрудном кармане халата, я прочитал: «Центр заботы о психическом здоровье». Адвокат позвал меня в кабинет.
– Брат просит меня иногда подменять его на рабочем месте. Но сегодня я подменяю Грету. У неё заболел любимый ослик, которого она держит в качестве домашнего животного у себя в саду. Она ждёт прихода ветеринара. Если вы не против, то мы сразу и начнём. У нас не так много времени. Итак, я включаю устройство. Вы можете говорить по-английски. Эта машинка всё переведёт на голландский. Иногда нам, адвокатам, приходится жонглировать языками. Если нам удаётся запутать служащих комиссариата с выбором языка (французский на первом интервью, голландский на втором), то верховный суд принимает позитивное решение по техническим причинам. Но не будем отвлекаться. Сегодня должны говорить вы. Такое поручение я получил от Греты. Старайтесь как можно чётче выражать свои мысли и использовать только полные, законченные предложения. Эта машинка начинает пищать, если она что-то не разобрала.
«Имею дело с хорошо отлаженной системой психиатрической помощи, – подумалось мне. – Эффективность этой системы не следует недооценивать…»
Но адвокат не дал мне возможности закончить мысль.
– Начинайте с Богом и не прерывайтесь как можно дольше.
Глава пятая
«Великий мастер»
Странно, но всё время, пока я говорил в диктофон, у меня не возникло ни малейшего чувства неловкости, разве что усталость под конец. Напротив меня за столом сидела не Грета, а круглолицый адвокат в белом халате. Он внимательно, не перебивая без необходимости, слушал меня, по-детски наивно почёсывая голову. Я начал издалека:
– Я знаю, что вы намереваетесь записать мой рассказ и поставить мне соответствующий диагноз. И готов всеми силами в этом помочь, но учтите: я никогда не запоминаю голые факты. Мне даже иногда кажется, что я делаю всё, чтобы их тут же забыть. В редкие минуты, когда мне удавалось заняться интерпретацией фактов своей юной жизни, я находился в особом настроении: созерцательном, похожем на медленное погружение в самого себя, с привкусом горькой радости, сладкой печали на растянутых в гримасе губах, ощущающих веяние морского бриза.
На приборе загорелась красная лампочка, послышался электронный писк. Адвокат выхватил диктофон у меня из рук и принялся что-то списывать с маленького экрана.
– Извините, тут требуется уточнение. Привкус морской соли на каких частях тела?
Мой взгляд, должно быть, отчетливо выразил избыток презрения.
– Хорошо, я попробую отключить функцию контроля речи.
– Итак, настроение должно быть задумчивое – такое определение моего состояния вам должно понравиться больше всего. Задумываюсь я, как правило, в пути (в поезде, самолёте, на велосипеде) или во сне, но даже в этих, благоприятных для размышлений ситуациях мне приходят на ум лишь несвязные мысли и расплывчатые образы. Вот я совсем маленький мальчик. Мне два или три года. Я сижу на очень большой кровати и держу в ладошках свои ступни. Мама лежит справа от меня, папа – слева. Мы провели весь день на пляже. Через открытое окно на кровать падает прозрачный куб закатного солнца. Мои ладошки пахнут арбузным соком и морем. Я сижу на кровати так тихо, что в один момент встречаю озабоченный взгляд папы. Испытываю мгновенно возникшее и тут же готовое исчезнуть чувство счастья. И за ним – смутный страх, сковывающий меня так сильно, что я даже не в состоянии заплакать. Папа пододвигается ближе ко мне и достает закатившую в щель между матрасами машинку. Я выкрикиваю только мне понятные слоги «та-ля, та-ля» и изображаю чрезмерную детскую радость.
Я был настолько послушным, нешумным и смышлёным ребенком, что моим родителям многие завидовали. Мама говорила, что даже её сестра, которая добилась в жизни всего, чего хотела, тоже испытывала зависть. Моя тётя была высокой, довольно стройной, всегда носившей короткую стрижку женщиной. Улыбаясь, она зачем-то постоянно поправляла дужки очков. Улыбка у нее выходила холодная, желатиновая, полуслепая. В раннем детстве я не мог, конечно, в полной мере оценить степень коварства этой улыбки. С годами тётина немилость ко мне стала очевидной и временами переходила в открытое раздражение и крайнюю злобу. Когда мне было шесть лет, тётя привезла из поездки в Индию книжку типа «сделай сам», с помощью которой вырезала и склеила фигурки слона, верблюда, жирафа и других зверей. Уже в начале моей игры у наполненных воздухом бумажных животных подкосились лапы и поникли головы; я заплакал. Тётя, смахнув фигурки со стола в мусорное ведро, посоветовала родителям почаще наказывать своего избалованного ребёнка.
Привычка тёти дарить маленькие подарки с годами переросла в странную манию. К этому времени она уже обзавелась полезными связями, добилась головокружительного продвижения по службе, но по привычке продолжала носить зубным врачам шоколадки, а чиновникам и другим нужным людям – коробки с конфетами. Подарки (она называла их презентами) для меня и моих родителей были особые. Маме она как-то привезла из поездки за границу кусок гостиничного мыла, а отцу подарила на день рождения пластмассовый рожок для обуви. На моё пятнадцатилетие тётя вручила мне слегка потрепанный томик «Легенды и мифы Древней Греции» с печатью городской библиотеки. Откуда у этой всеми уважаемой родственницы могло взяться такое пренебрежение и нелюбовь к нашей семье? Тётя упрекала мою мать в том, что мне позволено слишком много, что я всё время занят учёбой и расту эгоистом. Казалось, даже её юбка в складку, скрывающая широкие бёдра и тяжёлый зад, укоряла меня в слишком легком взгляде на окружающий мир, в самонадеянности и надежде на счастливое «авось». Все мои попытки уменьшить тётину враждебность встречались с упорным сопротивлением. Вы как врач-психиатр… извините, как адвокат, должно быть, часто сталкиваетесь с пациентами, похожими на мою тётю.
Я прервал рассказ и замолчал. Адвокат махнул рукой в сторону записывающего устройства и подал мне знак продолжать.
– Болезненное состояние, которое я вызывал в своей тёте, можно было бы назвать родственным отторжением. Именно по праву родства она решила раз и навсегда, что я являюсь недостойным, жалким и непутёвым существом. Мои успехи в учёбе она преуменьшала и приписывала их усидчивости и хорошей памяти. Тут же добавляя, что в стране и без меня хватает деревенских философов и лингвистов. Мне казалось, что, если бы у неё была возможность стереть всё начисто из моей головы, как из компьютерной памяти, она бы сделала это незамедлительно одним или двумя настойчивыми щелчками. Это принесло бы ей ощутимое, но недолговременное облегчение. Ведь ненавидела она меня целиком, уничтожение моего внутреннего мира не удовлетворило бы её: до тех пор, пока я находился поблизости, о прекращении её гневных припадков не могло быть и речи.
Записывающее устройство вновь зашипело и замигало. Адвокат встряхнул головой. Но шипение прекратилось так же неожиданно, как началось. Раздался хлюпающий звук удовлетворения, и лампочка погасла.
– Вот, пожалуй, и всё. Осталось только рассказать о том, что послужило последним толчком для моего отъезда за границу. Решение было принято в один день, как часто в таких случаях происходит, окончательно и бесповоротно. Что явилось главной причиной, догадаться несложно. Трудно было исчерпать всю глубину исходившей от моей уважаемой тёти нелюбви, непосредственным объектом которой стал я. Трудно было испытывать неудачи при бесчисленных попытках примирения и думать о том, как счастливо я мог бы жить, если бы всё сложилось иначе. Легче оказалось просто свыкнуться со своим уделом и надеяться на лучшее. Когда мне исполнилось двадцать два года, огромную страну, где я родился, разбил старческий паралич. Главный коммунист, недалекий деревенский парень, только и делал, что болтал часами по телевизору. Какую мысль хотел он донести до нас, своих верных и безропотных поданных, ценящих больше всего на свете своё неведение? Оратор-самородок говорил самозабвенно, растягивал гласные звуки и не спотыкался на согласных, как его предшественник. Он поднимал по утрам гантели и всегда прислушивался к мнению жены. Простые люди предполагали, что добром это не кончится, но никто не думал, что всё произойдет так быстро. Наступил декабрь тысяча девятьсот ** года, главный коммунист объявил по центральному телевидению о своём отречении от власти. Народ сохранял непоколебимое спокойствие и продолжал как ни в чём не бывало праздновать Новый год. Первого января я и мои родители по традиции были приглашены к тёте. Мы как самые близкие родственники имели честь доедать кушанья, оставшиеся после новогодней ночи. Я вошёл в тётину квартиру со смущением школьника, первый раз участвующего в любительском спектакле. К этому времени я уже получил университетский диплом и, по словам тёти, убегал от действительности, утешая себя планами написания диссертации по психолингвистике. С развалом страны эти планы становились нереальными и, как считала тётя, даже вредными, жалкой отговоркой для ничегонеделания. Тётя содержала нашу семью. Квартира моих родителей была фактически заложена у неё за деньги, которые она давала матери в долг. В первый день того Нового года тётя находилась в возбужденном состоянии и отчасти даже в смятении: с одной стороны, она испытывала безграничное презрение к моим родителям, впавшим в нищету, с другой – боялась, что те могут всё же не согласиться с её планом спровадить меня за границу. Добиться моего согласия, как она и рассчитывала, не представило особого труда. В конце новогоднего застолья тётя намекнула, что у меня никогда не хватит духа применить свои лингвистические знания на деле и уехать за границу. Я пообещал ей доказать обратное, и она тут же вызвалась взять на себя все расходы, связанные с моим отъездом. Мама несколько раз дёрнула меня за рукав. Отец сидел с понуро опущенной головой. Через пару месяцев пассивное сопротивление родителей было сломлено. Помню яркий солнечный день, людный вокзал, блестевший вымытым каменным полом, легкую тошноту от прикосновений к перилам, подоконникам и скамейкам. После долгого ожидания наступил момент расставания, горестно беспокойные лица моих родителей перекосились, мама зарыдала. Мы крепко обнялись. Когда автобус тронулся с места, отец держал маму под руку. Оба синхронно махали мне на прощание.
Я закашлялся. Адвокат поднялся со стула, подтянул штаны и принялся вслух считывать информацию с панели прибора:
– Недостаточно запахов, красок и ритмических заклинаний для постановки диагноза. Ответьте, пожалуйста, на дополнительные вопросы. Что вам напоминает запах свежих шампиньонов? Какой цвет ассоциируется у вас с чрезмерным наслаждением?
Я чувствовал себя слишком измотанным, чтобы отвечать на подобные вопросы. Но адвокат сообщил, что устройство, называемое «Великий мастер», не прощает уклонения от ответов, что в моём случае любой вздор и сущая нелепица лучше молчания. Мне не сразу удалось пересилить себя и продолжить рассказ. Чтобы хоть как-то подстегнуть свой усталый мозг, я обратился напрямую к адвокату:
– Хотите услышать, чем умный человек отличается от глупого? Первый готов отвечать только на те вопросы, которые задает себе сам, глупый берётся отвечать на чужие, доносимые до него к тому же часто в провокационной форме. Ваш прибор хочет и дальше исследовать мое сознание. У меня нет выхода. Но я устал и по своей воле не стал бы больше говорить.
– Расскажите о самом ужасном событии в вашей жизни, – раздался сочный мужской баритон. Я не сразу понял, что голос доносится из записывающего устройства, поэтому, только выдержав короткую паузу, начал:
– Однажды я проснулся от того, что чуть не задохнулся во сне. Мне было восемнадцать лет, возраст, когда почти не думаешь о смерти. Среди ночи я оказался буквально раздавлен немой, удушающей болью. Она нарастала во сне и разрешилась в одной необычайно сильной вспышке, похожей на глухой взрыв. Отблеск боли исчез при пробуждении, но на смену пришёл животный страх. Секундами раньше я вдруг увидел, что на моей кровати, прислушиваясь к чему-то в темноте, сидит бродячая облезлая кошка, которую я видел накануне слизывающей с сухого асфальта капли тающего мороженого. Она, должно быть, пролезла в комнату через открытое окно. Я резко сбросил с себя одеяло вместе с кошкой и содрогнулся от отвращения, когда услышал сухой стук кошачьих лап по подоконнику. Животное исчезло в темном проёме окна. Я жил с родителями на восьмом этаже. Но, уверен, летящая с тридцатиметровой высоты лапами вниз кошка вряд ли была причиной охватившего меня ужаса. Так же, как не мог быть его причиной и страх смерти – он возник уже позже. Можно, конечно, сослаться на присущее мне преувеличенное чувство вины. Но такого рода объяснение вряд ли может считаться верным в моём случае. Ужас был непривычно сильный, а к чувству вины я привык, так как испытывал его с пятилетнего возраста.
Устройство издало звук механического удовлетворения, затем раздался глухой, едва различимый щелчок, и все отключилось. Спустя несколько секунд прекратил свою работу и вентилятор в углу комнаты, шум которого я не замечал до этой минуты. Адвокат приподнялся со стула, пожал мне руку и сказал:
– Второй сеанс психоаналитического сопровождения успешно завершён. Благодарю вас за проявленное усердие.
Произнесено это было развязным голосом, с оттенком нарочитой небрежности.
Глава шестая
Предательство
Я вышел на узкую, ползущую вверх улицу и пружинистым шагом зашагал по направлению к отелю. На вершине холма, перед тем как потерять из виду здание психиатрической помощи, оглянулся. Плоская тёмно-коричневая крыша, бежевые стены и плотно занавешенные окна. Не так давно построенное здание было похоже на коробку для обуви. Странное заведение, где утешают и дарят надежду на избавление даже самым бестолковым и косноязычным бедолагам. Надо только найти это здание и обратиться за помощью. Главное, принять такое решение – всё остальное происходит как по накатанной дорожке. Правда, с каждым новым посвящённым надежда получить право на проживание делается всё более призрачной. Опоздавшие будут вынуждены пенять только на себя.
Я дышал полной грудью, думая, что нахожусь на верном, пусть отчасти и кривом, пути. Это не мешало мне испытывать немую радость и наслаждаться простыми движениями своего послушного тела. Возле магазина, куда я повадился ходить за конфетами для Аллы, ко мне обратился пожилой господин. Блеснули очки, бледные губы растянулись в напряженной улыбке. Через несколько минут непрерывной, мягко приглушенной речи на непонятном мне фламандском диалекте он замолчал. Узкое лицо говорившего выражало едва сдерживаемую озабоченность, лоб был покрыт мелкими морщинками. Растерянный взгляд витал где-то поверх моей головы.
– Вы не здешний? Вы говорите по-французски?
Я приветливо кивнул, больше из нежелания затрачивать усилия на отказ, чем из любопытства. Мой собеседник необычайно вдохновился и заговорил на прекрасном французском:
– Мы, фламандцы, хоть и не любим французский язык (поверьте, у нас есть на это веские причины), но отлично владеем им. Заранее прошу простить меня, молодой человек, что обращаюсь к вам с такой странной просьбой. Не могли бы вы выслушать меня? Вы видите перед собой большого политического деятеля, исполнявшего в недавнем прошлом важные государственные функции.
Я мысленно сравнил случайного собеседника со своим прадедушкой и подумал, что фламандец проигрывает в этом сравнении и выглядит очень старым и больным. Когда он говорил, в глазах его играли безумные огоньки. Я стоял перед ним и не двигался с места, только иногда поощрительно вопрошая: “Et alors?”[3] или поддакивая: “La situation est vraiment très grave”[4].
– Я говорю на восьми языках и был министром, а потом бургомистром этого города, часто обедал с дипломатами. Но ещё большего достиг в жизни мой сын. В двадцать девять лет он прошёл по конкурсу и стал председателем комитета по отбору и назначению судей самого высокого ранга. Вы понимаете, что это значит? Это значит – держать руку на никому не доступном, скрытом от посторонних нервном узле существующей власти. Мой сын живёт в замке на берегу моря, ездит по Брюсселю на машине с сиреной. У него есть всё, только с женой не повезло. Она изменяет ему, когда он уезжает по делам. Я много раз пытался его спасти, приносил доказательства измен. Но беда в том, что он никого не слушает, эта лягушка с расставленными ногами затуманила парню мозг и подчинила его своей воле. Мой сын – мазохист, меня же он считает выжившим из ума. Видит Бог, он дорого заплатит за свои заблуждения.
Как только мужчина произнёс последнюю фразу, его тяжелые веки опустились и на покрытые седой щетиной щеки ручейками потекли слёзы. Я лихорадочно искал слова поддержки, но ничего не мог придумать.
Плачущий старик продолжал стоять рядом, загораживая мне путь. Ни друзья, ни родственники не хотели, вероятно, больше слушать больного человека. Он открыл красные от слёз глаза и протянул мне руку. Собравшись пожать ее, я увидел зажатую между пальцами визитную карточку. Я взял ее и попрощался со стариком, который, горестно понурив голову, так и не сдвинулся с места. На негнущейся визитной карточке, кроме фамилии и имени, было вытеснено крупными буквами: «Экс-сенатор».
До отеля оставалось пять минут ходьбы, слева от меня располагался небольшой, тихий и безлюдный парк. Я перешел дорогу и сел на скамейку за зелёной оградой. Усталость, неудовлетворенность и беспомощность после сеанса психоанализа, странный разговор с отставным бургомистром – всё это раздражало до предела мои расшатанные нервы. Подростки в таком состоянии обычно затевают беспричинную драку. Я же ссутулился и прислушался к стуку своего сердца. Алла уже, наверное, ждала меня в номере. Обычно, когда я входил, она выбегала навстречу и произносила умильным голосом маленького ребенка: «А-а-а, Андрей!», а я обнимал её за плечи. В те дни я часто притягивал её к себе для поцелуев. Алла отвечала с неизменной готовностью. Наши поцелуи выходили трогательно беспомощными и безыскусными, моя нежная подруга гладила меня по голове и переминалась с ноги на ногу. Она носила свитер, который я особенно любил, и собирала волосы в хвост, как я её просил. Я встал со скамейки и быстрым шагом направился в отель.
В номере на кровати лежал мой чемодан, раскрытый и наполовину выпотрошенный. Аллы в номере не было. Её вещей я не обнаружил ни в гардеробном шкафу, ни в ванной комнате. С подушки на моей стороне кровати я поднял записку. Алла считала, что сделала всё, что могла, чтобы меня выручить. Ей даже одно время казалось, что она меня любит, несмотря на мою неприспособленность к жизни и упрямство. Но вчера к ней вернулся тот человек, которого она любила давно и по-настоящему. Этот человек очень опасен, поэтому я не должен делать никаких попыток найти её. Она желала мне удачи и просила её забыть. Конверт с деньгами исчез. Я подошёл к висящей в шкафу куртке и дрожащими руками попытался нащупать во внутреннем кармане паспорт: его тоже не было. Неумолимая, давящая на виски тяжесть вытолкнула меня из глубин отеля. Так торжественная похоронная музыка на улице заставляет бежать к балкону или открытому окну. Возле входа в отель я пристально осмотрел место на асфальте, где пять дней назад стояла Алла в ожидании черного «мерседеса». Я хмыкнул себе под нос и посмотрел вверх. Но это никак не помогло, удушающий комок поднялся только выше: из прилипшего к ребрам живота к горлу. Я шёл в парк с опущенной головой, изучая по пути очертания луж и неровности на нечистом тротуаре, потом сел на скамейку. Начало смеркаться, трава утратила свой молодой зелёный цвет, хрустнула ветка, куст неподалеку от соседней скамейки приобрёл человеческую форму. Будь это отпетый бандит, сексуальный маньяк или несовершеннолетний хулиган, я непременно обратил бы его в бегство своим спокойным бесстрашием. Твёрдая решимость раненого зверя выжить (так я себя чувствовал) – это как раз то, что необходимо для долгой и унизительной беженской процедуры, которой мне теперь не миновать. Я поднялся с места и направился обратно в отель.
Я не мог, конечно, тогда знать, что через энное количество лет интерес к иммиграции повсеместно упадёт. Если раньше многие, даже высокообразованные люди (что говорить о простых работягах) видели в этом способ решения своих денежных проблем, то в последующие годы выяснилось, что возможность много заработать в короткий срок существует именно в наших ещё недостаточно благоустроенных краях, а не за границей. Но в моё время выпускники лингвистического университета ни о чём другом, кроме зарубежья, и не говорили. Наибольшей популярностью пользовались Америка, Германия и Канада. Благодаря тётиным хлопотам я отличился в выборе страны. Обо мне с крайним удивлением и, вероятно, с оттенком неподдельной зависти говорили: он уехал в Бельгию. Проводы иммигранта в то время собирали не только близких родственников, но и многочисленных, часто довольно сомнительных друзей. Все пытались заглянуть в глаза иммигранту, упорно направляющему свой взгляд мимо провожающих. Перед самым отъездом наиболее чувствительные бросались его обнимать, хлопали по плечам, пожимали руки. Особое настроение создавалось при проводах поздним вечером. Зыбкая туманная полудрёма окутывала сумрачную платформу, резкий свет прибывающего поезда слепил глаза. На вокзал приезжали за несколько часов, и будущий путешественник с натянутой улыбкой отвечал на бесконечный поток вопросов. Самыми навязчивыми оказывались те товарищи, которые в ближайшем будущем тоже собирались иммигрировать. Они экзальтированно хихикали, требовали внимания и буквально засыпали приятеля преувеличенными пожеланиями. И вот наступал момент окончательного прощания. Иммигранту становилось не по себе, словно почва уплывала у него из-под ног. Так он и стоял, потерянный, с бледным, испуганным лицом, на перроне и трясущимися губами обещал писать и звонить, обращаясь в первую очередь конечно, к родителям. Как ни странно, именно они выглядели наиболее спокойными, можно было даже подумать, что они чему-то тихо радуются. Их дети уезжали в дальние страны, но никаких душераздирающих сцен расставания не наблюдалось, родители даже слегка улыбались и казались посвящёнными в какое-то особое, недоступное другим знание. Иногда, правда, некоторые не выдерживали и заливались слезами, задаваясь вопросом: за что же они так жестоко наказаны покидающими их детьми?
Вскоре они утешались тем, что расстояния в наше время легко преодолеваются, а границы пересекаются. Поведение и этих слишком быстро утешившихся родителей с их едва скрываемой гордостью за своих детей, и самих иммигрантов, глухих и равнодушных ко всему окружающему, заставляло усомниться в строгой необходимости иммиграции молодых людей. Много книг написано об успехах иммигрантов в благосклонных к иммиграции западных странах, в том числе самими мигрантами. Но никто не может утверждать, что раскрыл секрет этих успехов, – все только сходятся во мнении, что молодые способные иммигранты движимы какой-то неведомой силой, что их воодушевление не подчиняется законам и их честь не допускает возможности неудачи. Однако мало кто знает, какую цену они заплатили за свой общепризнанный успех.
Был ли я по природе своей более честолюбив, чем другие? Был ли чем-то воодушевлён в тот вечер, когда бессильно прижимался к спинке скамейки в темноте городского парка? Я знаю одно: молодой иммигрант не должен сравнивать себя с другими, делать какие-либо поспешные заключения и выводы. Он не должен оглядываться назад, пытаться что-то вернуть или исправить, как не должен думать о возвращении. Иначе он может очень легко впасть в депрессию, не столько от тоски по родине, сколько от того, что никто не может понять его печаль, или прийти в ярость и вне себя захотеть иммигрировать во второй раз, теперь уже в другую страну, например, из Бельгии в Америку.
Допускать этого нельзя, так как на самом деле иммигрант никогда и нигде не сможет испытать удовлетворение от своих малых или больших иммиграционных успехов.
Мне не удалось уснуть в ту мартовскую ночь 2002 года. Утром я вышел из отеля и остановился под навесом. Набрал полный рот сероватого ватного воздуха и, приободренный уютным натяжением джинсов, отправился в путь. Перед тем как свернуть на узкую боковую улицу, бросил взгляд на выступающий навес отеля. Мне никак не удавалось избавиться от нервной дрожи в плечах.
Я шёл в направлении северного вокзала и издалека увидел растянувшуюся на полквартала колонну стоящих в очереди людей. Темнокожие мужчины (женщин было мало) казались придавленными к тротуару стеклянным фасадом многоэтажного дома. Жёлтый свет окон и фонарей лужами разливался на асфальте, черные силуэты наступали на световые пятна и застывали в неподвижности. В очереди я стоял между пожилым африканцем и двумя низкорослыми жёлто-чёрными тамилами.
Глава седьмая
Первая попытка трудоустройства
С жильём мне откровенно повезло: меня направили в маленький приморский городок и выделили отдельную комнату в общежитии для беженцев. В первые дни я выходил из трехэтажного здания, как выходят в свет, бродил по улицам до первой усталости и радовался всему вокруг себя: изгибу тихой улицы, благообразию пожилого пешехода, самоуверенной походке молодой женщины, причудливости фасадов и подстриженной изгороди городского парка. Моим любимым местом отдыха была детская площадка на набережной. Я сидел там на скамейке, читал книгу или просто щурился от солнца. Дети были в школе, их родители – на работе. Ближе к полудню на площадку приходили поодиночке мои знакомые из общежития: тунисец, армянин, албанец, болгарин и румын. Мы неустанно обсуждали перипетии с получением документов. Это были рассказы с навязчивыми подробностями и неожиданными поворотами сюжетов.
Государственная служба общественного благосостояния располагалась неподалеку, в отреставрированном средневековом замке. Моя социальная ассистентка Катлин – сорокалетняя фламандка в застиранных джинсах, висящих на нижней складке живота, – во время нашей первой беседы сосредоточенно смотрела на исторический холст в массивной раме, висящий на стене за моей спиной.
– Скажите для начала, не противоречит ли уборка санузлов и душевых кабин вашему культурному воспитанию? – спросила она, сморкаясь одной ноздрёй в листок туалетной бумаги.
– Противоречит, – последовал незамедлительный ответ. – Я вырос в заповедных белорусских лесах. Мои родители-зоотехники разводили зубров.
Катлин высморкалась второй ноздрёй и уже было открыла рот, чтобы перенести нашу встречу на следующий месяц. В этот момент я её перебил:
– Я бы хотел работать на свежем воздухе, в поле, собирать… клубнику…
Моя «клубника», «клубника» в списке сезонных работ Катлин и «клубника», созревшая на близлежащей ферме, выстроились в один ряд, небесный аппарат фортуны вздрогнул и беззвучно заиграл всеми цветами радуги.
– Имеется вакансия по сбору клубники, – сказала Катлин, отрываясь от монитора и косо посматривая на меня, – добраться до места работы можно на первом утреннем автобусе. Перед тем как получить бесплатный проездной, полагается пройти трехдневный курс по развитию навыков чтения расписания общественного транспорта. Согласен?
– О’кей-докей.
– После подписания контракта ты не можешь оставить работу без уважительной причины, иначе к тебе могут быть применены финансовые санкции, – предупредила Катлин.
– Простите меня за всё заранее, – пошутил я и подписал рабочий контракт.
Хозяин клубничной фермы Патрик – сутулый косоглазый мужлан с хищным, крючковатым носом и узким лбом – хмуро взглянул на меня одним глазом (второй смотрел в сторону кукурузного поля), пожал мне руку, забрался в трактор и уехал. Я остался стоять в облаке выхлопных газов рядом с женой фермера, по-сестрински похожей на мужа. Она назвалась Хильдой, криво улыбнулась и провела меня в сарай – место моего ночлега. Там, следуя её указаниям, я должен был оставить рюкзак и немедленно выйти на работу в поле.
Поле начиналось от сарая и ровными рядами зрелой клубники уходило к горизонту, где едва виднелись две согнутые фигурки. Я оглянулся. Хильда исчезла. Должно быть, пошла в свой добротный кирпичный дом с широкими окнами готовить наваристый обед. Патрик отчаянно махал мне, привстав на тракторе. Легкий ветерок поигрывал одной из моих упругих прядей. Я выдержал долгую паузу перед тем, как приступить к работе. Неуступчивость – незаменимый здоровый рефлекс всего живого на земле.
