Побег в Тоскану
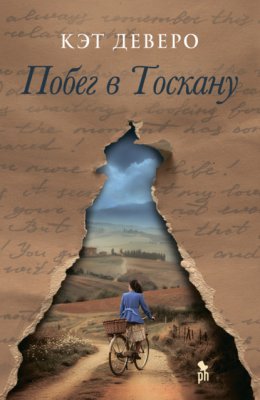
Kat Devereaux
Escape to Tuscany
Copyright © 2023 by Kat Devereaux
Книга издана при содействии P. & R. Permissions & Rights Limited
© Елена Тепляшина, перевод, 2024
© «Фантом Пресс», издание, 2024
1
Тори
Церковь Святой Гиты,
Кэнонфорд, Соединенное Королевство
Февраль 2019 года
– Ибо я верю: ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начала, ни власти, ни настоящее, ни грядущее, ни могущество, ни высота, ни глубина и ни прочие твари не в силах отлучить нас от любви Божией, которая есть Господь наш Иисус Христос.
Голос викария звонко отдается под сводами почти пустой церкви. Викарий – приятная женщина средних лет с розовыми, как сахарная вата, волосами, акцент выдает в ней уроженку одного из юго-западных графств. Она сразу представилась нам как Энджи. Она мне страшно нравится.
– Маргарет приехала в нашу деревню двадцать пять лет назад, после смерти своего любимого мужа Хьюго, – продолжает викарий. – Ее достоинство, ее сострадание, ее христианская вера и острое чувство справедливости внушали любовь всем, кто был с ней знаком. Сегодня мы вместе с ближайшими родственниками Маргарет собрались на частную службу, чтобы воздать должное ее жизни и вверить ее душу Господу. Давайте помолимся.
Мать – она сидит рядом со мной – складывает руки в черных перчатках на обтянутых черным коленях. Прямая как палка, она излучает неприязнь ко всему, что ее окружает: к каменным стенам приземистой церкви, к разноцветным викторианским витражам, к хоругвям с нашитыми на них белыми пухлыми голубями и кривыми крестами. Могу вообразить себе, что она думает про волосы Энджи. В который уже раз я поражаюсь, как бабушка с дедушкой, чье зыбкое и нежное присутствие я сейчас ощущаю (замахрившаяся шерсть, трубочный табак…), умудрились вырастить такую поразительную конформистку.
За спиной у меня раздаются приглушенные голоса, я оборачиваюсь и вижу кучку женщин, притулившихся в дальнем конце церкви у доски объявлений. Я узнаю кое-кого из бабушкиных подруг по местному Женскому клубу. Улыбаюсь им, киваю, жестами приглашаю присесть, но мама пинает меня в лодыжку. Я, видите ли, нарушаю правила. На этой службе могут присутствовать лишь члены семьи, хотя папа умер, когда я была маленькой, дети Чарли, моей сестры, болеют чем-то очень заразным, а мой муж Дункан слишком занят, чтобы приехать, поэтому в церкви только мы с мамой. Получается, мы похороним мою замечательную, щедрую, любящую бабушку по-тихому, без пафоса. Это неправильно. Нечестно.
Энджи читает псалом – тот, где «Господь – пастырь мой». Я оглядываюсь через плечо и вижу, что старушки из Женского клуба сгрудились на задних скамьях, молитвенно склонив головы в шелковых платочках. В горле у меня встает ком, я зажимаю рот ладонью, но плач все же прорывается безобразным полузадушенным иканием.
Мать напрягается. На секунду ее рука в перчатке задерживается на моем локте, после чего она снова складывает руки на коленях и устремляет взгляд перед собой, прямая как палка.
Пока мама в раздражении шествует по церковной парковке к своему престарелому «ягуару», ко мне подходит Энджи.
– Тори, вы не спешите? Я успею вам кое-что сказать? Это недолго.
– Да, конечно, – отвечаю я. – Поезда мне еще ждать да ждать.
Она улыбается мне.
– Вот и хорошо. Тогда, если хотите, выпьем чаю и поговорим как следует. Я расскажу вам про бдение. Такая красивая была служба! Жаль, что вы не смогли приехать, но я не сомневаюсь – душой вы были с нами.
Я хлопаю глазами. О бдении я слышу впервые и не могу представить себе, чтобы мама это допустила. Что это, как не пафос?
– Бдение?
– Ночное бдение, последняя ночь, в часовне при похоронной конторе. Очень хорошие люди собрались. В основном, конечно, местные, но слухами земля полнится – друзья вашей бабушки приехали и из Лондона, и еще много откуда. Двое даже из Италии прилетели – у нее ведь и там были друзья, да? Она мне рассказывала, как вы с ней летали в Италию.
– Были, – говорю я. – Летали.
– Чудесные, наверное, были поездки. В любом случае, я понимаю, вам было слишком тяжело присутствовать на бдении. Просто подумала – вдруг вы захотите послушать. – Теперь она сама выглядит озадаченно. – Вы не в курсе, о чем я, да?
– Не в курсе, – отвечаю я.
– Хорошо, – говорит Энджи. – Хорошо. Да, правда, давайте лучше чаю выпьем. Я живу прямо через дорогу. Идемте.
Она берет меня под руку и ведет через крытые ворота кладбища, через узенькую улочку к симпатичному невысокому домику из серого известняка. Если честно, мне становится плоховато – я сама не своя. Мне кажется, что я сейчас по-настоящему расплачусь – впервые с того дня, как я узнала от Чарли, что бабушку отвезли в больницу. А потом Чарли позвонила еще раз – сказать, что бабушка умерла.
– Заходите. – Энджи открывает боковую дверь и ведет меня в уютную кухню, нежно-голубую с зеленым; на подоконнике выстроились кактусы, а перед большой чугунной печкой дремлет старая кошка.
Я сажусь за чисто выскобленный сосновый стол, передо мной тарелка печенья и глиняная кружка с пацифистским символом, а Энджи со своей кружкой садится напротив меня.
– Во-первых, – начинает она, – все, о чем мы здесь будем говорить, останется только между нами. Во-вторых, если вам надо поплакать – плачьте, не стесняйтесь. Я вам не судья. – Она кивает на коробку бумажных платков возле моего локтя. – И ругаться можете сколько хотите, меня это не смутит. Меня ничто не смутит. Договорились?
Какой у нее серьезный вид. Серьезный и даже обеспокоенный. У меня появляется предчувствие – поганое, тревожное предчувствие, я нутром чую, что она собирается сказать.
– Договорились.
– Хорошо. Итак, бдение. Вам действительно о нем не сказали?
– Не сказали. И я, если честно, не знаю толком, что это такое.
– Понимаю. В англиканской церкви эта практика не слишком распространена, но в нашем приходе есть обычай устраивать ночное бдение над телом умершего накануне похорон – это вроде поминок в католической традиции. Мы устраиваем его в честь тех, кто много значил для нашей церковной общины. Предполагалось, что на похоронах будут только члены семьи, так что… для нас это была возможность проститься с Маргарет, тем более что она умерла так неожиданно. Мы спросили у вашей матери, можем ли мы устроить бдение над телом Маргарет, и она дала согласие.
– Как так?
Мама считает англиканскую церковь недостойной. Не понимаю, как она могла дать добро на что-то, что хоть немного отдает католицизмом.
– Ну, не сразу, – признается Энджи. – По-моему, она беспокоилась, что такая служба – это лишний труд и нервы, а вам сейчас и так тяжело. Конечно, я ее полностью понимаю, но мы собирались все организовать сами, ей не пришлось бы ничем заниматься, даже присутствовать было необязательно. И когда я ей все это объяснила, она согласилась. Естественно, мы хотели первым делом пригласить вас. Для меня не секрет, что вы нечасто бываете в церкви…
– Увы.
– Да нет, все нормально. Но я знаю, что у вас с Маргарет были особые отношения. Ваша бабушка постоянно говорила о вас. Моя мама умерла от инсульта, и мне известно, какое это страшное потрясение, как больно, когда даже проститься не можешь. Поэтому я позвонила вам.
Я ставлю кружку на стол.
– Позвонили?
– Да. На мобильный не дозвонилась, даже гудка не было. Наверное, связь там, в горах, неважная.
– Ага, – говорю я, – у нас в доме сигнал плохо ловится.
– Понятно. – Энджи кивает. – В общем, я позвонила на домашний телефон, и трубку снял ваш муж. Дункан, правильно? Я рассказала ему о бдении. Он ответил, что уверен – вы захотите приехать. Сказал, что спросит у вас и перезвонит мне. И перезвонил, через полчаса. По его словам, он все вам передал, но у вас нет сил ехать. Утрата бабушки для вас ужасное потрясение, от которого вы еще не оправились. Ваш муж говорил очень убедительно. – Энджи кривит губы. – Говорил так, что я и на похоронах не ожидала вас увидеть.
Поначалу я не знаю, как отвечать. Я думаю только о том, как ругалась с Дунканом, чтобы он вообще отпустил меня на похороны. Дункан говорил, что похороны устраивают для живых, что мое присутствие бабушку не вернет. Говорил, что цены на железнодорожные билеты грабительские, что самолет – это для лохов, что номер в гостинице – это роскошь, которой мы не можем себе позволить. Говорил, что в хозяйстве без меня никак и что рваться на похороны – чистый эгоизм с моей стороны. Говорил, что я только разозлюсь на свою мать, а злость буду вымещать на нем, когда вернусь. Говорил, что я не вывезу. Не вывезу.
– Тори? – напоминает о себе Энджи.
Уставившись на нее, я говорю:
– Какой же мудак. Полнейший мудак.
Энджи не говорит мне, что делать. И не говорит, как поступил бы Христос. Она просто слушает, как я матерюсь, плачу и пытаюсь собраться с мыслями, подавая мне еще чаю, печенья и, наконец, солидную порцию виски из бутылки, которую она держит у себя в кабинете. И только когда Энджи уже везет меня на станцию на своем дряхлом «рендж-ровере», она наконец говорит:
– Тори, если вам когда-нибудь понадобится угол, то у меня в доме есть комната, в которой вы можете оставаться сколько вам нужно. Хорошо?
– Хорошо, – киваю я. – Спасибо вам за доброту.
– Не за что. Ну вот, мы на месте. – Она тормозит у станции. Здание живописно, как и все в этой деревушке, идеально побеленное, с фиолетовыми цикламенами в горшках. – И еще, пока вы не ушли… Я собиралась отдать вам это раньше, но мы отвлеклись на более насущные темы.
Порывшись в сумочке, Энджи протягивает мне конверт из плотной кремовой бумаги. На конверте бабушкиным безупречным каллиграфическим почерком написано: «Виктории».
Какое-то время я держу конверт в руках и просто смотрю на него. Последняя весточка от бабушки.
– Это… – Мне надо откашляться. – Она написала это в больнице?
– Нет. Маргарет отдала мне этот конверт в прошлом году, когда переписывала завещание. Она сказала… – Энджи издает придушенный смешок. – Знаете, я тогда не очень ее поняла. Ваша бабушка беспокоилась, что если заболеет, то перед смертью не успеет проститься с вами. Не с вашей сестрой, не с вашей матерью – именно с вами. Помню, я тогда решила, что она суетится, как люди суетятся, когда думают о смерти. Им надо сосредоточиться на чем-то, чтобы избавиться от настоящего страха. – Энджи качает головой. – Но теперь… Понимаете, Маргарет никогда не говорила о вашем муже, то есть не говорила о нем ничего плохого. Но я вот думаю, не раскусила ли она его.
Теперь смеюсь я – икая, сквозь слезы.
– Не исключено, – соглашаюсь я, вытирая глаза. – Меня бы это не удивило. Бабушкин дерьмометр всегда был лучше моего. Сколько раз она видела Дункана? По пальцам одной руки пересчитать. Но не исключено…
Я осекаюсь. Мне вдруг приходит в голову, что бабушка с Дунканом встречались очень редко, мне то и дело приходилось разрываться между ними. Сколько поездок на юг мне пришлось отменить, потому что на ферме в последний момент что-то стряслось? Сколько раз мне приходилось прерывать телефонный разговор с бабушкой, потому что Дункану что-то понадобилось?
– Наверное, вам нужно многое обдумать, – мягко произносит Энджи. – Если хотите о чем-то поговорить…
Слышится отчужденный, жестяной голос диктора; подняв глаза, я вижу, что поезд – мой поезд – уже подтягивается к перрону.
– Боже мой, – спохватываюсь я, – мне пора. Еще раз большое спасибо.
Я испытываю смешанные чувства – паники и облегчения. Подавшись к Энджи, я быстро обнимаю ее, после чего выбираюсь из машины и хватаю с заднего сиденья свою сумку.
– Не за что! – кричит она, когда я бросаюсь ко входу. – Приезжайте в любое время!
В вагон я вбегаю вовремя. Плюхаюсь на сиденье, пристраиваю сумку в ногах и смотрю на конверт, не зная, как поступить. Страшно хочется узнать, что там внутри. Но стоит мне распечатать конверт, стоит прочитать все, что бабушка хотела мне передать, – и я не смогу пережить этот момент откровения снова. Все слова будут уже сказаны.
Когда поезд приближается к бристольскому вокзалу Темпл Мидз, любопытство побеждает. Я разрываю конверт. Внутри один-единственный листок.
Милая Тори,
Возможно, мы с тобой больше не увидимся, поэтому хочу сказать, что я оставила вам с сестрой по 30 000 фунтов. Можешь использовать их на любые цели, как тебе угодно. Мое единственное условие – не тратить их больше ни на кого. Это деньги для тебя и только для тебя. Как ты ими распорядишься – не мне решать.
Но будь это в моей воле, моя дорогая Тори, я сказала бы тебе: поезжай во Флоренцию. У меня остались о ней такие дивные воспоминания! Мои флорентийские воспоминания прекрасны. Конечно, они о тебе, но я помню и себя – молодую женщину, свободную, имевшую средства, чтобы жить так, как хочется. Я не могу дать тебе этой свободы, хотя я часто жалею, что ты не взяла ее сама. Возможно, я смогу дать тебе средства.
С любовью, Nonna[1]
2
Стелла
Ромитуццо,
Тоскана, Италия
Февраль 1944 года
Моя подруга Берта Галлури была героиней Сопротивления. Если бы она осталась в живых, то наверняка вошла бы в число великих женщин двадцатого столетия, интеллектуалок и борцов вроде Лидии Менапаче, Ады Гобетти, Тины Ансельми, Карлы Каппони, Россаны Россанды[2]. Если бы только она осталась в живых.
В сентябре 1943 года, когда пришли нацисты, Берте было девятнадцать. Одаренная девушка из семьи антифашистов, дочь нашего местного аптекаря, она изучала литературу во Флорентийском университете. В тот день, когда, открыв ставни, она увидела, как по виа Романа марширует колонна немецких солдат, она тут же решила уехать домой в Ромитуццо. Не как связная вроде меня, не как боец вроде ее брата Давиде – хотя женщины тоже сражались с оружием в руках, и их было больше, чем вы думаете, – а как организатор.
Берта была прирожденным организатором. Через несколько недель после ее возвращения в нашем городке уже работала и ширилась сеть из девушек и женщин, которые передавали сообщения, тайком проносили нелегальную литературу и фальшивые документы, доставляли все необходимое партизанским отрядам, собиравшимся в горах к югу от Флоренции. Среди наших партизан были старые и молодые, коммунисты и социалисты, монархисты и либералы, католики, троцкисты и анархисты. Одни впервые взяли в руки оружие, другие уже успели послужить в армии или полиции. И если все эти столь разные люди готовы были сплотиться для борьбы, следовало помогать им во всем.
Берта отлично это понимала. Женщины из ее сети не принадлежали ни к какой партии, не поддерживали никакой лагерь. Мы просто в нужное время отправлялись туда, где нас ждали, мы работали для всех, кто в нас нуждался, и никогда не увиливали. Это и было мое Сопротивление: повседневная рутина, состоявшая из записок на папиросной бумаге и пистолетов в хозяйственных сумках, из вылазок вокруг школы, церкви и дома. И если я не могу рассказать вам ничего примечательного, то лишь потому, что мое Сопротивление было неприметным, тихим, необходимым. Но оно тоже было опасным.
Вечером пятнадцатого февраля сорок четвертого года Берта Галлури возвращалась из Флоренции – она ездила туда за экземплярами подпольного бюллетеня «Рабочая борьба»[3], которые собиралась распространить в Ромитуццо. Бюллетень она, как обычно, зашила в подкладку сумочки. Когда она сошла с поезда, ее остановил немецкий солдат, проверил у нее документы и заглянул в сумку. Обычная проверка, Берте не раз случалось проходить такие, но на этот раз солдат попался остроглазый. Может, расползлась старая изношенная подкладка, много раз распоротая и снова зашитая, а может, черная типографская краска мелькнула через прореху в шелке. Солдат забрал у Берты сумочку, разодрал подкладку и нашел спрятанное.
Сладить с Бертой оказалось непросто – так рассказывают те, кто там был. Когда немцы запихивали ее в грузовик, она дралась, как кошка, визжала и царапалась. На рассвете следующего дня ее изуродованное, поруганное тело подкинули к дверям отцовской аптеки на пьяцца Гарибальди, в центре города, в назидание тем, кто отважится сопротивляться.
Моя подруга Берта Галлури была сильной женщиной – вы и представить себе не можете, насколько сильной. Она умерла, не выдав ни единого имени. Я знаю об этом, потому что наша небольшая сеть продолжила существовать. Я знаю это, потому что немцы не пришли за мной.
Тем утром я, слава богу, не видела тела несчастной Берты. Я даже не знала, что ее схватили. Я собралась в школу, но когда спустилась, чтобы приготовить себе завтрак, то увидела, что отец сидит за кухонным столом, закрыв лицо руками, и поняла: что-то стряслось.
– Папа, что случилось? – спросила я. – Почему ты не в гараже?
Отец поднял голову. Он был крупный, импозантный мужчина, чем-то похожий на Пеппоне из «Дона Камилло», но в тот день он казался изможденным и старым.
– Акилле ушел открывать гараж, – сказал он каким-то не своим голосом. – Мама дома, она прилегла.
Если мать все еще в постели, значит, наверняка стряслось что-то серьезное. Я села рядом с отцом и стала смотреть, как он трет ладонью лицо. Я, честно сказать, не знала, что делать, да и отец вряд ли знал. Наконец я положила руку ему на запястье, и он ненадолго стиснул мою ладонь своими грубыми пальцами. А потом вынул из кармана чистую тряпку и прижал к глазам.
– Стелла, обещай, что не станешь связываться с партизанами. Мы и так тревожимся за твоего брата, хватит с нас. Дай честное слово.
– Даю тебе честное слово, что не стану связываться с партизанами, – сказала я. И формально даже не соврала, потому что я уже с ними связалась. К тому времени я состояла в сети Берты уже несколько месяцев.
– Хорошо. – Несколько минут мне казалось, что отец хочет что-то прибавить и как будто ищет слова, но он откашлялся и повторил: – Хорошо.
Отец встал и подошел к печи – слегка прихрамывая, как всегда по утрам. Мать рассказывала, что он как-то отказался ремонтировать машину вожака местных фашистов, дело было еще в двадцатые. Фашист и его прихвостни раздробили ему обе коленные чашечки. Отец никогда об этом не вспоминал – во всяком случае, при мне.
– Я сварю кофе, – предложила я. – До школы еще есть время.
Но он уже насыпал в кофейник гадость – порошок цикория.
– Я сам сварю. А в школу ты не пойдешь.
Вот теперь я встревожилась по-настоящему. Отец никогда ничего для меня не готовил, а школу он мне разрешал пропускать, только если я тяжело болела. Сегодня мне надо было в школу позарез – предполагалось, что по дороге я кое-кому кое-что передам. Я часто выполняла задания именно таким манером. Я была способная, хотела стать учительницей, и родители разрешили мне учиться дальше, хотя ближайшая школа, где имелись старшие классы, находилась в Кастельмедичи, а это двадцать минут езды на флорентийском поезде. А так как я была маленькая, не особо красивая, выглядела моложе своих четырнадцати лет и ездила одним и тем же поездом в одно и то же время шесть дней в неделю, то я могла тайком доставлять всякие нужные вещи, не возбуждая подозрений ни у фашистов, ни у немцев. Или у родителей, если уж на то пошло.
– Папа, в чем дело? Скажи! Пожалуйста, скажи. Мама заболела? Да?
Отец покачал головой, не отрывая взгляда от кофейника, который уже начал шипеть и булькать. Теперь-то я знаю: он боролся с собой, не зная, рассказать ли мне то, что он слышал, – а может быть, и видел – или утаить от меня правду, оставив меня в блаженном неведении. Наконец отец сказал:
– На станции немцы. Больше, чем всегда. Они проверяют всех.
– Ну и что? – сказала я, хотя сердце у меня отчаянно заколотилось. – Мне прятать нечего.
– И все-таки мне это не нравится, – мрачно ответил отец. – Я тебя туда одну не отпущу.
– Пусть Акилле меня проводит. Или Энцо. Ну, папа! Мне надо сдать сочинение по латыни, очень важное. Я столько над ним просидела! Ну пожалуйста.
Отец проворчал что-то себе под нос, налил чашку цикория и поставил ее передо мной, положив рядом кусок хлеба.
– Если тебе так уж надо, пусть Энцо тебя проводит, – согласился он. – Он сегодня в гараже.
Я постаралась скрыть облегчение. Энцо, друг моего брата Акилле, помогал в гараже, когда там требовались лишние руки. Оба были убежденными коммунистами, хотя Энцо, в отличие от Акилле, хватало ума не распространяться моему отцу о своей подпольной работе. Папа считал, что Энцо оказывает на нас положительное влияние. Я считала, что он просто замечательный, а главное – я знала, что ему известно о задании, которое мне поручили. Насколько проще, насколько легче ему будет передать мне все, что я должна доставить по адресу, когда мы окажемся в каком-нибудь тихом месте подальше от гаража, подальше от недреманного ока моего отца.
– Он посадит меня на поезд, а когда я вернусь, то встретит, вот и волноваться не о чем, – продолжала я. – Ну правда, папа, ничего со мной не случится. Вот увидишь.
Я понимала, что веду себя на грани наглости. Я и так нажала на отца куда сильнее, чем он обычно позволял, но он, кажется, этого не заметил.
– Ну пожалуйста, – повторила я.
Отец надолго задумался, а потом кивнул – всего один раз.
– Ладно. Доедай, а я схожу через дорогу, скажу Энцо, чтобы приготовился.
Он вышел, прежде чем я успела его поблагодарить, – сунув руки в карманы брюк, подавленный.
Утро было холодное и мглистое, Энцо ждал меня у ворот. Он выглядел серьезным, но я не придала этому значения, потому что Энцо всегда выглядел серьезным. Его отец погиб в аварии еще до войны, а недавно Энцо потерял и мать – случайная бомба угодила в завод возле Кастельмедичи, на котором она работала. Родители Энцо перебрались в Ромитуццо вскоре после свадьбы, и родственников у них здесь не было. Поэтому его приютили Фрати, жившие на соседней улице, на самой окраине города. Для него было вполне естественно поселиться у них, он и так уже, считай, был членом семьи. Сандро Фрати, Акилле и Энцо сбились в компанию в первый же школьный день, и вот им уже по пятнадцать – а они все еще лучшие друзья.
– Ciao, Стеллина. – Энцо поцеловал меня в обе щеки. Поцелуя невиннее и представить себе нельзя, но я до сих пор помню, как он меня взбудоражил. – Пошли, доставим тебя на станцию.
– И убедись, что она села на поезд, – раздался голос Акилле. Брат стоял во дворе перед гаражом: замасленный комбинезон, кепка на черных кудрях, шея обмотана толстым шерстяным шарфом. – А то оставишь ее там, а сам сдриснешь.
– Ma dai![4] – Энцо закатил глаза.
Мы зашагали по дороге, ведущей на станцию. Убедившись, что из гаража нас больше не видно, Энцо, по-прежнему серьезный, потащил меня в узкий переулок и обнял за плечи. На мгновение мне показалось, что он сейчас поцелует меня по-настоящему.
– Как ты, Стеллина? – тихо спросил он. – Если ты думаешь, что сегодня не справишься, я как-нибудь отпрошусь у твоего отца и съезжу за тебя.
– Конечно, справлюсь! – воскликнула я, обиженная и не на шутку разочарованная. – Думаешь, я сдрейфила из-за каких-то немцев?
– Нет-нет. Просто после того, что случилось… – Он нахмурился. – Ты что, не знаешь?
– Что? Что я должна знать? Сегодня все какие-то странные! Не понимаю, в чем дело.
И Энцо, взяв мои ладони в свои, простыми и страшными словами рассказал мне, что случилось с Бертой. Потом я плакала, а он обнимал меня.
На вокзальной площади – тогда она называлась пьяцца Буррези – народу было больше, чем обычно. Знал папа про немцев или нет, но он, вольно или невольно, сказал правду. Площадь была оцеплена бронированными машинами, солдаты останавливали всех, кто шел на станцию, и проверяли документы. Я поняла, какой опасности Энцо подвергается из-за меня – молодой рабочий в глазах немцев всегда подозрительнее, чем девочка в школьной форме. Они могли подумать, что он партизан, и не ошиблись бы, или что он уклонист, хотя он им не был, потому что еще не достиг призывного возраста.
– Тебе необязательно идти со мной, – сказала я по возможности беззаботно. Везде немцы, и лучше, чтобы страха в голосе не было. – Дальше я могу сама.
– Не говори ерунды. Я хочу тебя проводить. – Голос Энцо тоже звучал беспечно, но рука, обнимавшая меня за плечи, напряглась.
Мы, однако, не вызвали у солдат особого интереса. Они вскользь взглянули на пропуск Энцо, а от моего и вовсе отмахнулись. Энцо вместе со мной дождался поезда и легонько поцеловал меня в губы.
– Удачи, Стеллина. Возвращайся, я тебя встречу.
С пылающими щеками я вошла в вагон, протолкалась через толпу пассажиров и исхитрилась наконец втиснуться в угол, зажав ранец между бедром и стеной. В ранце лежали учебники, тетради и комедия Макиавелли «Мандрагора» в бумажной обложке, которую дал мне Энцо. Она могла содержать шифрованное сообщение, написанное, например, уксусом или еще какими-нибудь невидимыми чернилами. А может, в страницах книги было прорезано углубление. Я не открывала книжку и уж тем более не спрашивала о подробностях. Чем больше я знала, тем большей опасности подвергла бы товарищей, если бы меня схватили. Знать как можно меньше было моей обязанностью.
В Кастельмедичи меня ждала обычная дорога в школу, но сегодня мне следовало задержаться у ворот городского сада и перебросить ранец с правого плеча на левое. По этому знаку меня должен был узнать связной. Я уже привыкла к таким заданиям, но мне все же больше нравилось просто шагать в школу, не твердя про себя очередной пароль в надежде, что ко мне подойдет нужный человек.
Поезд сегодня шел еще медленнее обычного, то и дело останавливаясь и трогаясь снова. Мне было жарко и неуютно – не только из-за духоты в вагоне, но и от страха, что я не узнаю своего связного и не сумею передать книгу.
– Наверняка коммунисты опять подорвали рельсы, – довольно громко произнесла дама в шубе и огляделась, словно ища поддержки. – А результат один: нам, всем остальным, просто жить станет еще труднее. – Однако в ответ последовало отрадное молчание, а кое-кто из пассажиров покачал головой.
Наконец поезд дернулся и снова остановился. Вот и Кастельмедичи. Теперь надо протолкаться к дверям – вряд ли еще кто-нибудь здесь выходит. С этой задачей я справилась, а когда вышла на утренний холод, то обнаружила, что уже опоздала в школу на десять минут. Хотелось припустить бегом, но я заставила себя идти медленно, уверенно глядя вперед, словно день сегодня самый обычный. Немцев в Кастельмедичи оказалось меньше, чем в Ромитуццо, – я никогда не могла разобраться в этих закономерностях – и мне удалось пройти мимо кучки солдат, усердно изучавших документы какого-то старичка, и выйти на площадь. Я ускорила шаг и, обдумывая задание, едва не прошла мимо ворот сада. Однако вовремя спохватилась и, притворившись, что мне неудобно, остановилась на мгновение – ровно настолько, чтобы успеть перекинуть тяжелый ранец с плеча на плечо. Потом я пошла дальше, потому что главным в этих «свиданиях на бегу», как мы их называли, было не выглядеть так, будто ты кого-то ждешь.
– Мимма! – окликнул меня женский голос, веселый и беспечный. «Мимма» – моя конспиративная кличка. – Мимма, подожди!
Я немного замедлила шаг, и меня нагнала какая-то женщина, катившая велосипед, в корзинке которого сидел довольный малыш. Одета она была в поношенное пальто, на голове платок. На вид обычная молодая мать, которая выскочила по делам.
– Хорошо, что я тебя увидела. – Женщина улыбалась мне, как давней подруге. Ребенок, послушный, тоже улыбнулся. – Ты, наверное, в школу? Мы с Тонино составим тебе компанию, если ты не против. Поболтать хочется.
Ее взгляд был сосредоточен на мне, она держалась уверенно и весело. Я взглянула через ее плечо: за нами, на углу, что-то увлеченно обсуждали двое жандармов в черных фуражках, до них было не так уж далеко. Фашисты, члены Национальной республиканской гвардии Муссолини, чья задача – выискивать и уничтожать тех, кто помогает партизанам.
– Конечно, – согласилась я. – Давай пройдемся.
И мы пошли дальше. Женщина щебетала о людях и местах, о которых я не имела ни малейшего понятия. Кажется, она просто сочиняла на ходу. Вместе мы прошли пару кварталов – фашисты, слава богу, не двинулись с места, нас никто не преследовал. Наконец женщина изобразила сожаление, быстро обняла меня и сказала, что ей нужно идти.
– Вот хорошо, что удалось перекинуться словечком, – сказала я. – Да, чуть не забыла! Спасибо, что дала почитать.
Я достала из ранца «Мандрагору» и вручила женщине; та сунула книгу в корзинку, к Тонино, сказала «Чао, Мимма!», села на велосипед и, помахав мне, укатила. Я помахала ей в ответ и заторопилась в школу.
Когда я вернулась в Ромитуццо, Энцо ждал меня на платформе, как и обещал. Все время, пока я сидела на уроках, известие о смерти Берты не шло у меня из головы, и мне захотелось рухнуть Энцо на грудь, но я сдержалась. Мы прошли мимо немцев, которые в этот раз на нас даже не взглянули, и зашагали к дому.
– Как в школе? – спросил Энцо, когда мы благополучно покинули пьяцца Буррези.
– А ты как думаешь?
Энцо рассмеялся. Конечно, он все понимал. Знал, как мне тошно целыми днями притворяться послушной девочкой и правильной фашисткой.
– Ты же могла покончить со школой еще прошлым летом[5], – напомнил он.
Я вздохнула:
– Знаю. Но тогда я не смогла бы поступить учиться на учительницу, так что…
Энцо взял меня за руку.
– Просто представь себе, Стеллина, – тихо сказал он. – Просто представь себе, как в один прекрасный день ты будешь вести урок.
Удивительное дело. Мне было страшно и грустно, повсюду опасность, и все же как это чудесно – коснуться его кожи! Наверное, это и есть молодость.
– Акилле на работе, – сказал Энцо. – Его позвали чинить сломанный велосипед.
– Где? В Санта-Марте?
Санта-Мартой мы на нашем тайном языке называли старый хутор высоко в горах, там обосновалась независимая коммунистическая бригада, к которой принадлежали Энцо и Акилле. Оба были связными, но Акилле заодно исполнял и обязанности механика, ремонтируя велосипеды и мотоциклы и добывая где мог бензин и запчасти.
Энцо покачал головой:
– Нет. В Сант-Аппиано.
Сант-Аппиано, горная деревушка к северу от Ромитуццо, располагалась по дороге во Флоренцию. Я знала, что там действует небольшая партизанская ячейка – но не коммунисты, а монархисты.
– Значит, новые клиенты, – сказала я, стараясь говорить беспечно. – Как они узнали об Акилле?
Энцо состроил рожу.
– Слухами земля полнится.
Мы повернули на нашу улицу, и я вынула свою ладонь из ладони Энцо. Отец ждал во дворе, скрестив руки на груди. При нашем появлении он кивнул.
– Пока, – тихо сказал Энцо и поспешил через дорогу к гаражу.
Мать была там, где я и ожидала, – в задней комнате, служившей нам прачечной и кладовой. В этой комнатушке всегда стоял холод, но только оттуда матери была видна дорога, которая начиналась за нашими домами и уходила в горы. Акилле, чтобы не наткнуться на патруль, предпочитал возвращаться именно этой дорогой. Мать сидела у окна, закутанная в старое одеяло, которое почти не грело, и перебирала в корзине носки для штопки. Она казалась такой маленькой и хрупкой, что мне тотчас стало ее жалко.
– Мама, ты не хочешь к печке? Я посторожу.
Мать подняла на меня тусклые рассеянные глаза:
– Что? Нет. Он скоро вернется.
– Давай я хотя бы кофе тебе принесу?
Мать затрясла головой:
– Нет.
Другой ответ меня даже удивил бы. Мать ничего не ела и не пила, пока Акилле на задании – таков был ее уговор с Господом.
– Нет, спасибо. В буфете остался суп, – прибавила она.
Желудок у меня скрутило изжогой. Мысль о супе, этом безвкусном супе, на котором мы выживали всю войну, была отвратительна.
– Спасибо, мама, – сказала я и пошла на кухню греться.
Я сидела на большом стуле у печки, пытаясь читать отрывок из Мандзони[6], который нам задали по литературе, – а если вы прочитали «Обрученных» от начала до конца, то вы учились лучше меня, – когда послышался шум мотора, а секундой позже – радостный возглас матери:
– Акилле! Акилле, tesoro[7], вот и ты! Я так беспокоилась!
Дверь кухни открылась, потянуло ледяным сквозняком, и вошел Акилле. Его комбинезон был вымазан грязью, он растирал руки, но глаза сияли. Он всегда приходил с задания счастливый, будто победил в гонках, – да, думаю, так оно и было.
Мать суетливо вбежала следом.
– Стелла, лентяйка, поднимайся, дай брату присесть. Акилле, хочешь супа? Налей ему суп, – распорядилась она, не дожидаясь ответа сына. – А я скажу отцу, что ты вернулся. – И она вновь поспешила наружу, хлопнув дверью.
– Бога ради, не вставай, – сказал Акилле, когда я собралась подняться. – Тебе посидеть в тепле нужнее. Выглядишь – краше в гроб кладут.
– Хочешь супа? – спросила я, хотя уже знала ответ.
– Вот уж нет. – Акилле скривился. – За обедом я еле влил в себя миску этой жижи.
Брат подтащил к себе один из кухонных стульев, уселся верхом, сложив руки на спинке, опустил подбородок на руки и широко улыбнулся мне.
– Энцо говорит, ты ходил помочь монархистам, – сказала я. – С чего вдруг ты им понадобился?
– Я же лучший механик в Вальдане. А они своего лишились из-за немцев.
Я закрыла книгу, лежавшую у меня на коленях, и вцепилась в нее.
– А что случилось? Его арестовали?
– Застрелили. Они планировали налет на колонну грузовиков, которая шла во Флоренцию. Депортация пленных. – Акилле рассказывал так, словно такие вещи были обычным делом, но ведь тогда они и вправду были обычным делом. – Ребята залегли на обочине – и тут у парня сдали нервы. Он выскочил из укрытия на дорогу, как раз когда немцы уже подъезжали. – И Акилле сделал вид, что стреляет из винтовки.
– Значит, пленных они не освободили.
– Нет. И все из-за этого coglione[8]. Да еще и без механика остались. Хорошо, что я сумел помочь.
– И ты, конечно, явился туда в красном платке на шее?
– Конечно. – Акилле вытащил из кармана платок и помахал им у меня перед носом. – Думаешь, я дал им забыть, что им помог коммунист-безбожник?
Дверь кухни распахнулась. Акилле сунул платок в карман.
– Стелла! – недовольно сказала мать. – Заняла место у печки? И где суп для брата?
– Все нормально, мама. – Акилле подошел к матери и обнял ее за плечи. – Мне и так хорошо. Я не хочу есть. А Стелле нужно посидеть в тепле. Посмотри на нее. Она вся дрожит.
Я и правда дрожала, но не от холода, хотя и замерзла. Голову переполняли мысли обо всем, что произошло в этот день. Я словно собственными глазами видела, как грузовики, полные перепуганных людей, которых везут на смерть, беспрепятственно едут дальше.
Мать взглянула на меня с отрешенным пренебрежением. По ее лицу мне стало ясно, как мало я значу для нее в эту минуту, – не в том смысле, что она меня презирает, хотя, может быть, и презирала, – нет, я поняла, что едва ли что-то значу в ее мире. Мать повернулась к Акилле:
– Тогда помойся, пока отец не пришел. Я согрею воду. Стелла, сходи за корытом и начинай чистить картошку к ужину.
Акилле открыл было рот, чтобы возразить, но это было бы бесполезно. Я встала и отправилась выполнять указания.
3
Тори
Квартира прекрасна. Поистине прекрасна. Белые стены и зеленые жалюзи, пол – зелено-коричнево-кремовая плитка, которая в любом другом месте смотрелась бы уродливо, но это же Флоренция. Квартира совсем маленькая – наверное, кто-то поделил надвое старую гостиную, выкроив спальню, куда едва помещаются двуспальная кровать и комод.
Агент, Кьяра, распахивает окно и кивком подзывает меня. Высунувшись из окна, она указывает вверх и направо: над неровным рядом черепичных крыш царит громадный рыжий купол собора.
– Видите? – Обернувшись, Кьяра широко улыбается мне, и я знаю: она ждет, что я улыбнусь в ответ. Хочет, чтобы я пришла в восхищение.
Все открывшееся моим глазам и правда восхитительно, и рано или поздно я обязательно смогу восхититься. Мне бы только отдохнуть.
– Чудесно.
Я отступаю от окна. В этой гостиной-кухне-прихожей, укрытой от яростного полуденного солнца, поливающего жаром здание напротив, прохладно. Вот это хорошо.
– Триста пятьдесят евро в неделю, – объявляет Кьяра – субтильная, безукоризненно одетая женщина, наверное, моя ровесница, то есть тридцать с небольшим, в ее безупречном английском угадывается легкий американский акцент.
Кьяра – первый агент, которому я позвонила, потому что ее имя оказалось первым в списке, когда я загуглила «флоренция снять квартиру агент по недвижимости», и эта квартира – первая, которую Кьяра мне показала. Триста пятьдесят евро в неделю. Я пытаюсь произвести подсчеты в уме, но в голове туман.
– А в месяц?
– Вот это дело. – Кьяра снова улыбается. – Если вы хотите снять квартиру на весь месяц, то вам могут сдать ее за тысячу триста. Само собой, включая все коммунальные счета.
Квартира милая, улица милая, а мне хочется прилечь. В голове сквозь туман звучит голос – голос Дункана: «Тысяча триста евро в месяц за две комнатушки? Ты понимаешь, что тебя за дуру держат?»
– А если подольше? – спрашиваю я.
– Подольше? Месяца на два?
– Пока не знаю. Скажем, на год?
– Ладно, – говорит Кьяра. – Я поняла. Значит, вы в Италию надолго?
– Не знаю. Может быть. Я подумала, что надо попытаться, пока еще можно. Ну, знаете – вот будет Брекзит, и все. Мне кажется, лучше не тянуть.
– Чем собираетесь здесь заниматься? У вас уже есть работа во Флоренции?
– Я фрилансер, – объясняю я. – Писательница. Могу работать где хочу.
Кьяра изучает меня. Я вижу себя ее глазами: старая хлопчатобумажная рубашка, джинсы, длинные светлые волосы давно пора привести в порядок. Сероватая кожа – я недавно с самолета. Ботинки – ботинки хорошие, но явно деревенские и, не исключено, пахнут сыростью, потому что после пяти лет на ферме в Уэст-Хайленде все мои вещи пропахли сыростью. Но вот взгляд Кьяры переходит на сумочку – настоящую старую «Фенди», бабушкин подарок.
– Вы писательница, – говорит Кьяра, отчетливо подразумевая «Правда?».
– Да. Ну, занимаюсь всем понемножку. Немножко журналистикой, немножко пишу рекламу, немножко редактирую. В общем, разным.
Вопреки надежде, мои слова не убеждают Кьяру. Она выглядит явно встревоженной.
– И вы собираетесь быть фрилансером в Италии? Тогда должна вас предупредить: финансовое…
– Нет-нет. У меня в Соединенном Королевстве осталось довольно много клиентов. Честно сказать, я сейчас занимаюсь своим собственным проектом – заканчиваю книгу для «Суитин и Сыновья». Нон-фикшн. Разумеется, у меня с ними договор, – прибавляю я со всей уверенностью, какую мне отпустила природа.
Улыбка Кьяры включается снова. Ну слава богу.
– Это хорошо. Тогда все можно отлично устроить. Насколько мне известно, женщина, которая сдает квартиру, ищет съемщика надолго – во всяком случае, искала, когда мы разговаривали в последний раз. Это сильно облегчит дело. Сейчас я ей позвоню.
Выхватив из огромной сумки телефон, Кьяра удаляется в крошечную спальню, в телефон льется стремительный поток итальянской речи. Итальянский у меня довольно сносный, я поддерживала его на плаву – читала, слушала песни и смотрела итальянский «Нетфликс», пока Дункан в кровати, но сейчас мозг не в состоянии переключаться. Сегодня – не в состоянии. Я пялюсь в окно на ярко-желтые дома напротив. Наконец Кьяра возвращается.
– Хозяйка с удовольствием сдаст вам квартиру на долгий срок, – объявляет она, все еще прижимая телефон к уху. – Стоить будет тысячу сто в месяц, все счета на ваше имя. Придется повозиться с документами, но я вам помогу. Подходит?
– Отлично.
– Четыре плюс четыре или три плюс два?
Боже мой, опять считать. Только не это.
– Не поняла?
– Договор. – На лице Кьяры читается сомнение, наводила ли я хоть какие-то справки, прежде чем явиться во Флоренцию. Я и вправду их не наводила. – В Италии для случаев, когда жилье снимают надолго, есть договоры двух видов. Договор на четыре года с продлением еще на четыре года и договор на три года с продлением еще на два года. Есть договоры и на более короткие сроки, transitorio, но я не знаю, сможете ли вы с таким договором получить вид на жительство.
– Как угодно, лишь бы получилось.
– Когда хотите въехать?
– Как только смогу. Пока я живу в гостинице, но хотелось бы…
– Ладно, – кивает она и продолжает говорить в телефон по-итальянски.
А я снова гляжу в окно и жду, когда она переключится на меня.
– Окей, – говорит наконец Кьяра. – Если вы решите, что готовы, я набросаю план договора, и можно назначать встречу с Федерикой – это хозяйка. Встретимся здесь через несколько дней и подпишем договор. У вас есть юридический консультант?
– Нет. А он мне нужен?
– Я могу объяснить вам пункты договора, но вам понадобится человек, который его просмотрит. Ну и вся эта возня с видом на жительство, банком и так далее… – Кьяра делает неопределенный жест. – Скажем так, бумажек будет много.
– Честно говоря, мне не хочется делать больше, чем я обязана, – признаюсь я.
– Тогда вам точно нужен юрист. Я могу прислать вам несколько имен.
– Спасибо.
– Не за что. Хотите еще что-нибудь узнать про квартиру?
Я снова озираюсь. Квартира чистая, без всякого следа прежних обитателей; мебель белая, шиферно-серая и сливового цвета, совсем как в квартирах «для отпуска», да она и есть квартира для отпуска. На плите гейзерная кофеварка, на низеньком стеклянном столике веером разложены глянцевые туристические журналы. Я не могу ни вспомнить, ни заставить себя сходить и проверить, но в ногах кровати почти наверняка лежат свернутые мохнатые полотенца, перевязанные лентами. Мне вспоминается дом, который я покинула: огромное, вечно сырое чудище, его обстановка – побитые молью оленьи головы, зеленый ковер и портреты представителей рода Макнайр, ряды суровых укоризненных лиц.
– Нет, – говорю я. – Все отлично.
Кьяра колеблется. Взяв ключи со столика, на который она не глядя бросила их, когда мы вошли, она крутит связку на пальце.
– Точно? Вы уверены, что хотите снять эту квартиру?
– Уверена, – отвечаю я. Где-то глубоко внутри, под слоями горя и боли, под ватной усталостью я знаю, что не обманываю себя.
Помахав мне на прощанье, Кьяра выбегает на улицу, на ее дизайнерских кроссовках сверкают блестки. Я направляюсь в противоположную сторону, к пьяцца Дуомо, огромному неправильному четырехугольнику, посреди которого стоит собор. Хорошо бы найти где пропустить стаканчик. Всего половина четвертого, но уличные кафе уже заполнены людьми с большими пузатыми бокалами, в которых светится оранжевый апероль-спритц. Бабушка сочла бы их безнадежными туристами. Она знала все места, все потайные угловые пьяццы и роскошные бары во внутренних двориках частных, скорее всего, домов, но сегодня мне хочется побыть туристкой. Хочется побыть на солнце, среди людей.
Усевшись за столик возле бара, откуда открывается вид на боковой вход в собор, я заказываю негрони, и мне приносят тяжелый матовый стаканчик с коктейлем, небольшую миску с арахисом и оливками, а также глубокую тарелку с чипсами. Я вытягиваю ноги в теплое солнечное пятно и припадаю к стаканчику. Беспощадный алкоголь – джин, вермут и кампари, апельсиновая горчинка. Я снова отпиваю и отправляю в рот пригоршню чипсов. Может, еще заказать?
– Блаженствуете в отпуске?
Я оборачиваюсь. Мужчине за соседним столиком на вид лет сорок – дружелюбное, довольно живое лицо, темные волосы подернуты сединой. Он улыбается, от глаз бегут морщинки, и на миг у меня возникает желание рассказать ему всю правду.
«Я не в отпуске, я сбежала от мужа. Свалила от него в Италию, потому что так жить больше нельзя».
– Да, спасибо, – отвечаю я и чуть не прибавляю: «А вы?»
Потом думаю, что он же, скорее всего, итальянец. Наверное, из местных – хотя нет, местные вряд ли приходят здесь посидеть. Но тут появляется принаряженная компания из трех мужчин и одной женщины, которые набрасываются на него с объятиями, поцелуями и восклицаниями. Мужчина бросает на меня скорбный взгляд. Я беру свой стакан и перевожу взгляд на мрамор собора в зеленых прожилках. Кажется, я чувствую облегчение.
Мне не нужна вторая порция негрони. Одной вполне достаточно. Я не спала прошлую ночь, я не спала позапрошлую ночь, я вообще не помню, когда в последний раз высыпалась. Поднявшись на ноги, я чуть нетвердой походкой спускаюсь по виа дель Проконсоло к набережной и своему отелю. Входя в номер, я уже с ног валюсь от усталости. Я только чуть-чуть вздремну, думаю я. Чуть-чуть, до ужина. Всего с часик. Потом я приму душ, переоденусь, перейду на тот берег, попробую найти одно из любимых бабулиных мест и закажу тарелку пасты. Свернувшись на кровати калачиком, я моментально проваливаюсь в сон.
4
Тори
Я просыпаюсь от телефонного звонка. Вглядываюсь в экран. Уже почти семь утра. Звонит сестра, Чарли. В голове туман, во рту пересохло, с сестрой разговаривать не хочется, но ведь рано или поздно поговорить придется, так почему бы не сейчас? Я нажимаю «ответить» и подношу телефон к уху. Перекатившись на спину, гляжу в расписной деревянный потолок.
– Тори! – взвизгивает Чарли. – Тори, какого хе… что ты устроила? Ты где?
– Во Флоренции. – На заднем плане с грохотом носятся близнецы, сыновья Чарли, и ворчит Бен, ее муж.
– Очень смешно! Чертовски смешно! Стоило шевиотам начать ягниться – и ты отправилась развлекаться.
– То есть ты разговаривала с Дунканом.
– Разумеется, я разговаривала с Дунканом. Он вчера мне позвонил. Ну правда, Тори, ты поразительная эгоистка.
Розы на потолке похожи на тюдоровские, но они же не могут быть тюдоровскими? Или могут?
– Мне он не звонил, – говорю я.
– Меня это не удивляет. Он сам не свой, бедняга. Он в отчаянии.
– Любопытно.
– Что значит «любопытно»? – Чарли вздыхает.
– Хотелось бы взглянуть на Дункана в отчаянии. Я такого никогда не видела. То есть он, конечно, однажды несколько взволновался из-за лицензии на рыбалку, но, по-моему, это не в счет.
– Не понимаю, как ты можешь шутить в такую минуту!
Подступают слезы – горячие, едкие. Я тру глаза запястьем. Не хочу плакать, не хочу снова плакать.
– Слушай. – Как же меня раздражает этот ангельски терпеливый тон! Таким голосом Чарли говорит, когда один из близнецов Ведет Себя Неправильно – например, напрудил лужу на полу или хвастался пиписькой перед соседями. – Я все понимаю. Жить на ферме тяжело, ты устала. И недопонимание из-за бабушкиных похорон, естественно, стало для тебя последней каплей.
– Недопонимание?! Он пытался не пустить меня на похороны! И соврал насчет бдения. Я могла бы быть на службе с бабушкиными друзьями, могла бы проститься с ней как положено, вместе с людьми, любившими ее, а не в одиночку, в пустой холодной церкви, рядом с мамочкой, которая изображает Железную Леди. Кстати, спасибо, что бросила меня одну.
– Прекрати, это просто нечестно. Ты отлично знаешь, что…
– Почему он так поступил? – взрываюсь я. – Когда бабушка была жива, я так редко с ней виделась. Дункан прекрасно знал, как я по ней скучала, знал, что она для меня значила. Почему он так поступил, когда она умерла? Почему наврал?
– Может быть, – говорит Чарли, – он искренне считал, что ты не справишься с горем. Да ты ведь и правда плохо справляешься. Может, он рассудил, что правильнее будет один раз солгать, спокойствия ради.
– Ну-ну. С чего ты это взяла?
– Что?
– Да то, что он соврал всего один раз? Откуда тебе знать? – Слезы изливаются и катятся по щекам. – Я узнала про бдение, только когда Энджи мне сказала. Что еще он от меня утаил? А вдруг бабушка звонила мне из больницы? Вдруг я могла бы… – Голос срывается, и я разражаюсь рыданиями.
– Тори, сделай глубокий вдох и послушай. Ты проживаешь горе. – Какой у Чарли уверенный голос! – Ты проживаешь горе, а горе искажает наше восприятие. Заставляет нас поступать нерационально, и с тобой сейчас происходит именно это. Ты поступаешь нерационально, ты впала в подозрительность. Сделай паузу, поработай с чувствами, и потом вы с Дунканом сможете все обсудить. Я уверена – он поймет, что тебе нужно немного свободы. Если хочешь, я сама ему все объясню.
– Не надо, – с трудом говорю я.
– Мне не трудно. То есть у нас тут, конечно, слегка бардак – дети, проект развития общины, ах да, я же еще записала нас в волонтеры, бороться за сохранение красного коршуна, хотя не знаю, нужно ли за них бороться, вечно я этих тварей гоняю из сада, но ведь так важно показывать детям, что мы стараемся, – так, о чем я говорила? Конечно, я могу позвонить Дункану за тебя и объяснить, что ты сейчас сама не своя. Он наверняка обрадуется твоему возвращению, когда ты насмотришься на живопись или что ты там делаешь, и вы все уладите. Я-то никогда не была поклонницей Флоренции, – с ненужным лицемерием добавляет Чарли. – Я знаю, что ты ее обожаешь, знаю, что бабушка ее любила. Но давай начистоту: Флоренция – это просто Диснейленд для людей, которые считают себя культурными. И все же если тебе нужно побыть там несколько дней, чтобы привести голову в порядок, то кто я такая, чтобы судить?
– Я останусь здесь.
– Ну да, ну да. Наверняка ты сняла дорогущий номер с красивым видом и теперь освежаешь в памяти ваши с бабушкой чудесные поездки.
– Нет! – сдавленно вскрикиваю я. Делаю глубокий вдох и откашливаюсь. – Я хочу сказать, что останусь здесь. Я не вернусь. То, что сделал Дункан, – и это только то, о чем мне известно, – просто стало последней каплей. Я больше не могу так жить. Не могу.
– Тори, ты слишком остро реагируешь. Да, он принял субъективное решение. И не самое удачное. Но все мы время от времени оступаемся. Можно же хоть немного ему посочувствовать?
– Вот в этом-то вся главная проблема. Мне сочувствия не полагалось никогда. Дункан годами обращался со мной как с грязью. Годами. Не знаю, видел ли он вообще во мне человека.
– Что значит «как с грязью»? – Чарли будто искренне недоумевает. – Прости, но это на него не похоже.
– И тем не менее. Тебе что, нужны доказательства?
– Да. Вообще-то нужны.
– Ладно. – Я на минуту закрываю глаза, перебирая отвратительные воспоминания, которые так и рвутся наружу. – Ладно. Помнишь, вы с Беном и мальчиками приезжали к нам на Рождество? Еще были тетушка Дункана, Рода, и пара его родственников, и старинный приятель из колледжа – не помню, как его звали, помню только, что от него противно пахло и что он упорно называл меня Вики.
– Ну, такое точно не забудешь. Нам всем было так хорошо!
Нельзя кричать на нее. Нельзя.
– Ладно. Помнишь, что было после ужина? Когда я слегка перебрала и споткнулась о ковер, когда вносила рождественский пудинг? Я тогда растянулась на полу, вся в пудинге и трусы напоказ, а вы смеялись до посинения.
– Еще бы! Это было уморительно.
– Вот и Дункан решил, что это уморительно. И всем рассказал. Всей деревне. Рассказал и коновалу, и ветеринару, и человеку, который у нас вроде трубочиста. Рассказал пастору местной церкви, когда тот зашел на чашку чая. Наверное, и сейчас еще рассказывает.
– Тори…
– И по какой же причине я тогда перебрала? – напористо продолжаю я. – Почему я вообще в тот вечер столько пила? Уж не потому ли, что Дункан зудел мне в уши весь день, плевался ядом при каждой возможности? Я надела то красное платье с юбкой-солнцем – помнишь? – и ожерелье, которое подарила мне бабушка. Черт, как же я любила это платье.
– Ты выглядела очень мило. – В голосе Чарли слышатся осторожные нотки. Ну да. Она же разговаривает с неуравновешенной личностью.
– А вот Дункан говорил совсем другое. Он говорил, что мне не стоило надевать красное – слишком уж оно мне в цвет лица. Указал и на валики на талии, и на мокрые пятна под мышками, а стоит мне наклониться – и сиськи наружу. Дункан же был на кухне – предполагалось, что он помогает мне с коньячным маслом[9], сливками и прочим. И вот когда я уже собралась нести этот проклятый пудинг, он сунулся к самому моему уху и сказал, что мне должно быть стыдно. Что я – позорище, и вы все смеетесь надо мной, стоит мне отвернуться. И неудивительно, ведь в платье с глубоким вырезом да плюс вульгарное ожерелье я выгляжу как растолстевшая дама полусвета в отставке. Вот что он мне сказал.
На том конце молчание. Теперь-то Чарли наверняка меня поймет, думаю я. Уж кто-то, а моя справедливая, честная, безупречно надежная сестра должна меня понять.
– Мы тогда все прилично набрались, – произносит наконец Чарли. – А в пьяном виде человек может ляпнуть такое, о чем потом станет сожалеть. Я не меньше твоего ненавижу, когда гнобят людей, но Дункан порядочный человек, и я просто не могу поверить, что он действительно хотел…
– Мне пора. – Приходится соврать: я чувствую, что вот-вот снова расплачусь.
– Подожди! – В голосе Чарли сквозит отчаяние. – Тори, подожди, я просто…
– Что?
– Не понимаю. Просто не понимаю. Я сочувствую тебе, смерть бабушки для тебя тяжелый удар, это естественно, и я согласна, что Дункану случается бывать слегка бестактным, но рвать отношения, которым десять лет, из-за того, что он пару раз оступился… Ну правда. Он тебя не бил, не изменял тебе. (Надо же, как она в этом уверена!) Чего ты хочешь?
– Знаешь, мне недостаточно, чтобы меня не били и не изменяли мне. И история с бдением – это не пустяки. Он не оступился, Чарли. Он вообще такой, когда посторонние его не видят. Он бессердечный. Ты просто не хочешь мне верить.
– Нет, правда… – умоляет Чарли, но я бросаю трубку.
Сколько же трудных разговоров ждет меня впереди. Надо бы разделаться с ними, но я не могу подняться. Я не сплю, но и не до конца проснулась – лежу в каком-то оцепенении. Уже почти одиннадцать, когда дзынькает телефон – пришло сообщение от Кьяры.
«Ciao, Тори. Высылаю проект договора – я сделала кое-какие примечания по-английски – и список флорентийских юристов. Возможно, вы захотите взглянуть на него. Они все хорошие специалисты, но самого первого, Марко, я знаю лучше всего. Он консультировал некоторых моих клиентов из-за границы, они остались вполне довольны. A presto[10]. Кьяра»
– Тогда, значит, Марко, – бормочу я.
Глаза болят, горло саднит, в висках предостерегающе постукивает – верный признак, что пора принять дозу кофеина. Пока не добуду кофе, никому звонить не стану.
Мне хочется выглядеть настоящей флорентийкой. Я выплываю из гостиницы под весеннее солнце в своей лучшей, почти немятой льняной рубашке (все итальянцы еще в шарфах и блестящих стеганых куртках, но все же) и, пройдя по набережной, ныряю в лабиринт улиц за галереей Уффици, намереваясь отыскать маленький бар, где можно выпить эспрессо и съесть большую булочку с сахарной глазурью. Но, маневрируя между людьми с чемоданами, людьми, которые держатся за руки, и людьми, которые внезапно останавливаются как вкопанные, глядя в телефон, я замечаю кокетливую доску-раскладушку с обещанием бранчей. Я заглядываю в огромную витрину. Людям, сидящим в кафе, подают яичницу с беконом и большие кружки кофе. О боги, а вон и чайник. Подходит.
В кафе царит приятное оживление. По моим прикидкам процентов пятьдесят – хипстеры, двадцать пять – законодатели мод в причудливых одеяниях из небеленых холстин, оставшиеся двадцать пять процентов составляют американские студенты по обмену в спортивной одежде. Мне удается найти столик у окна; после бекона, яичницы, тоста (хлеб, конечно, дрожжевой), большого стакана свежевыжатого апельсинового сока и половины чайника «Инглиш брекфаст» я нахожу в себе силы позвонить Марко.
Марко берет трубку сразу.
– Конечно, – отвечает он, когда я рассказываю ему о квартире, виде на жительство и банке. – Сегодня утром у меня как раз окно. Может быть, встретимся?
– Я свободна весь день.
– Вы сейчас где? Я смогу подойти к вам, скажем… через полчаса?
– Я в заведении, которое назвается «Дитта Артиджинале».
– В каком из них? Которое на виа де Нери или на виа делло Спроне?
– Э-э…
– Вы на северном берегу реки или на южном?
– На северном.
– Прекрасно. Я работаю рядом. Сможете немного подождать?
– Без проблем. – Я бросаю взгляд на полупустой чайник – да, вполне успею заказать еще – и прибавляю: – Мне пока нужно кое-что написать.
А затем меня охватывает стыд, потому что это правда. Проклятая книга.
– Ну тогда договорились. A presto, Тори.
Я допиваю чай, заказываю еще, выпиваю половину нового чайника, съедаю колоссальный пончик с сахарной глазурью и только после этого чувствую себя морально готовой достать планшет и открыть файл. Моя самая первая книга уже почти готова… черт, будет готова через три месяца. Шестнадцать тысяч слов написано, осталось написать еще тридцать тысяч. «Пособие по жизни в горах для шотландских леди».
Ну и название, чистый идиотизм.
Это идея моего агента, Риченды. Ну ладно, идея написать книгу принадлежала мне. Я несколько лет писала всякое разное, в том числе условно юмористическую колонку для «Современной сельской жизни» – признания бывшей горожанки, «курс по ощипыванию фазанов для начинающих», «лучшие резиновые сапоги дешевле семидесяти пяти фунтов: обзор рынка», – и наконец мне захотелось написать что-нибудь основательное. Что-нибудь настоящее. Захотелось, чтобы на полке стояла книга с ISBN, с моим именем – то, что я смогу гордо продемонстрировать людям, которые говорят: но вы же не настоящая писательница? Вас же не печатали по-настоящему, ха-ха? И вот в позапрошлом году, после того как одна особенно гнусная компания охотников завалилась спать, вдоволь потешившись на мой счет, я составила заявку на книгу. Заявка вышла не самая удачная, но меня подстегивал праведный гнев. Я собрала свои последние колонки в один файл и по электронной почте отправила их в несколько литературных агентств.
Риченда откликнулась на следующий же день. Она спросила, можем ли мы обсудить все по телефону. С того дня все и завертелось, потому что Риченда – человек, мягко говоря, деятельный, к тому же она твердо знает, что примет, а чего не примет Рынок.
– Мажорная сатира на сельскую жизнь ушла в прошлое, – хрипло тянула Риченда, такой выговор был в моде в Лондоне восьмидесятых. – Она умерла вместе с Джилли Купер[11].
– Джилли Купер жива, – возразила я.
– Да, дорогая, слава богу. Но в наши дни… Чтобы справиться с темой, вам придется стать второй Джилли Купер. К сожалению. То, что вы мне прислали, конечно, хорошо, и, смею сказать, несколько лет назад я сумела бы продать такую книгу. Но сегодня? Нет-нет, сегодня вы должны предложить рынку историю. Угасающий аристократический род, юная дочь-бунтарка противостоит своей токсичной матери…
– Мама не токсичная, – вставила я. – Она просто немного старомодна.
– Противостоит своей токсичной матери, – повторила Риченда. – Она убегает, чтобы сочетаться браком со своей студенческой любовью; неожиданно выясняется, что молодой человек – вот это да! – хайлендский лэрд[12], он трудится не покладая рук. Весьма вдохновляющая история, и она хорошо рассказывается. Именно такая история, моя милая, нужна Рынку. Кстати, а отец что говорит о вашем выборе?
– Отец уже умер.
– Тем лучше, – сказала Риченда.
Так и родилось «Пособие по жизни в горах для шотландских леди». Я неплохо справлялась; дело было на мази благодаря Риченде, которая сумела продать меня «Суитин и Сыновья» – впечатляюще крупному издательству. В первые месяцы книга поддерживала меня. Усаживаясь писать, я напоминала себе, почему, когда на Дункана, отучившегося в Оксфорде, свалилось управление поместьем, я не раздумывая последовала за ним в Шотландию, хотя объединяло нас лишь то, что мы оба рано лишились отцов. Когда я усаживалась писать, то снова и снова напоминала себе, почему я бросила журналистскую стажировку, которая далась мне с таким трудом, почему оставила свою уютную квартирку, оставила всех своих друзей и переехала туда, где у меня не было никого, кроме Дункана. Я так любила его, так хотела покинуть свой мир ради его мира!
Но этой зимой, когда лил дождь, когда опять забарахлил нагреватель, когда нахлынула очередная толпа дурно воспитанных девиц и биржевых брокеров, которые являлись на бесконечные выходные впустую палить по толстым глупым фазанам, книга перестала казаться мне креативной документалистикой и стала ощущаться как натужное вранье. Я изо всех сил пыталась продолжать, но в итоге прекратила, да так и не начала снова. И вряд ли начну теперь.
Я еще не известила Риченду, что не успею сдать книгу в срок. Но известить-то надо. Я открываю почту и набираю:
Здравствуйте, Риченда! Я…
– Тори?
Я поднимаю глаза. Возле моего столика стоит мужчина, худощавый и на вид нервный. Элегантный темно-синий костюм, накрахмаленная рубашка без галстука. Какой-нибудь другой мужчина в таком прикиде выглядел бы напыщенно, но на нем костюм смотрится идеально.
– Да, – говорю я.
– Марко, – представляется он и протягивает руку.
Я пожимаю ее и жестом приглашаю «присаживайтесь», а он жестом дает понять «я только закажу что-нибудь», и мы неловко улыбаемся друг другу.
– Хотите что-нибудь? – спрашивает он.
– Нет, спасибо.
– Как скажете. Договор у вас есть, верно?
Я с облегчением закрываю недописанное письмо и открываю договор. Марко, с чашкой эспрессо, садится рядом, и я разворачиваю планшет к нему.
– Спасибо. – Марко читает, размешивая сахар в кофе. – Все в порядке, – говорит он наконец. – Три плюс два, уведомление за три месяца, депозит за два месяца, гонорар Кьяры в размере месячной оплаты… хорошо. Как у вас с итальянским?
– Со скрипом. Но Кьяра сделала для меня несколько примечаний.
– Хорошо. У вас есть вопросы?
– Нет. Но я пока просто не знаю, какие вопросы задавать.
– Вы правы. Давайте я внимательно прочитаю договор, и прежде чем вы что-нибудь подпишете, мы с вами вдвоем по нему пройдемся. Вы все равно не сможете ничего подписать, пока не покончите с формальностями. У вас есть итальянский налоговый код?
– Я только вчера прилетела.
Усмешка краем рта. Какой он привлекательный, когда ухмыляется.
– Времени зря не теряете.
– Не вижу смысла затягивать.
– Это правильно. Итальянские бюрократы и так работают медленно, незачем задерживать машину еще больше. Налоговый код получить проще простого, но он вам понадобится абсолютно везде: чтобы открыть счет в банке, чтобы подписать договор аренды, чтобы получить номер мобильного телефона, чтобы получить вид на жительство и медицинскую страховку – ну и для уплаты налогов, конечно. У вас есть договор с итальянским работодателем?
– Я писательница. Фрилансер.
– Значит, вам понадобится аудитор. Если у вас его нет, я с удовольствием порекомендую кое-кого. Да, налоговый код. Я могу подать заявление от вашего имени, но вы и сами справитесь без труда. Надо только прийти с паспортом в налоговую службу и заполнить формуляр. Может, придется немного подождать. А код вам присвоят сразу.
Одна только мысль об этом утомляет.
– А вы можете получить код вместо меня?
– Да, конечно. Но вдруг вы не захотите платить мне за то, что могли бы сделать сами.
– Деньги не проблема, – отвечаю я. – Бабушка оставила мне небольшое наследство. Она любила Флоренцию и хотела бы, чтобы эти деньги упростили мне переезд.
– Рассудительная женщина ваша бабушка. – Марко достает телефон. – Паспорт у вас с собой? Давайте я его сфотографирую, и запустим машину.
Я достаю паспорт из внутреннего кармана сумки и вручаю ему.
– «Виктория Кэтрин Энн Дезире Макнейр», – читает Марко. – Четыре имени и фамилия. Люди будут путаться.
– Почему? У итальянцев же тоже есть вторые имена?
– Есть, но не такие. – Марко расправляет паспорт и делает несколько снимков. – В вашем случае налоговый код будет включать только первое имя и фамилию. Просто и понятно.
Меня вдруг осеняет ужасная мысль.
– Первое имя и фамилия? Но если фамилия изменится…
Он поджимает губы.
– А вы собираетесь сменить фамилию?
– Нет. Ну… да. То есть… Я сейчас как раз развожусь.
Ну вот я и произнесла это вслух. Боже мой.
Марко откидывается на спинку стула.
– Сочувствую. А… понимаете, я обязан об этом спросить. Процесс идет к концу? Или только начался?
Я припоминаю своих друзей, которые прошли через развод. Процесс затягивался до бесконечности, даже когда обе стороны изначально были единодушны. У некоторых развод тянется до сих пор.
– Не исключено, что до того, как все закончится, Брекзит случится, – говорю я. – И тогда…
– …и тогда ваш переезд во Флоренцию сильно осложнится? Да. А что, если сменить фамилию в Соединенном Королевстве прямо сейчас? Это возможно? Вы сможете сменить фамилию до конца процесса?
Я крепко задумываюсь.
– Наверное, смогу. Надо составить заявление о намерении, подать заявку на новый паспорт и так далее. Наверняка мороки будет много, но это не так уж трудно. Неужели здесь все настолько сложно?
– Вы себе даже не представляете, – говорит Марко. – Итальянская система предполагает, что вы проживете под одной фамилией от колыбели до могилы. Вы можете сменить ее, если решение твердое, но…
– Так не принято?
Марко смеется.
– Вы правы. Если вы все же намерены сменить фамилию, поезжайте на несколько недель домой, утрясите дела. Потом возвращайтесь и начинайте во Флоренции новую жизнь с правильным именем. Лишь бы противоречий в документах не было, тогда и проблем не будет.
Домой. Где он, мой дом? Вернуться к Дункану я не могу, а о том, чтобы остановиться у Чарли – или того хуже, у мамы, – вообще речи идти не может. Можно заказать билет на самолет, снять ненадолго жилье и залечь на дно. Но я не хочу так. Я приехала во Флоренцию, чтобы начать жизнь с чистого листа. Да, я устала, грущу и дергаюсь куда больше, чем прежде, но я ни на минуту не захочу отменить свое решение. Я не хочу прогибаться.
– Нет, – говорю я. – Давайте начнем. Если я потом пожелаю изменить фамилию… значит, я позвоню вам, и мы обсудим, что делать. Просто придется еще повозиться с бумажками.
– Вот это правильно. – Марко ободряюще улыбается мне. Я улыбаюсь в ответ, но сердце у меня отчаянно молотится. – Простите мое любопытство: а какую фамилию вы носили до замужества?
– Фэншоу-Кэрью.
Марко какое-то время смотрит на меня, а потом говорит:
– Как ваш юрист, я обязан дать вам один очень серьезный совет.
– Да? И какой?
Марко придвигает ко мне паспорт:
– Оставайтесь лучше Макнейр.
К концу нашей встречи у меня уже голова идет кругом от всего, что мне предстоит сделать.
– Попробуйте не думать, что на вас свалился непосильный груз, – подбадривает меня Марко. – Я получу ваш налоговый код и позвоню. Сходим в банк, откроем вам счет. Когда мы с этим покончим, вы сможете подписать договор аренды, а подписав договор и въехав в квартиру… Послушайте, в следующие несколько недель вам предстоит много бюрократической волокиты. Это цена, которую придется заплатить за возможность жить в Италии. Но дело того стоит, поверьте.
– Верю, – соглашаюсь я.
Марко улыбается и отодвигает стул, собираясь встать. Я решаюсь:
– Подождите! Можно кое-что спросить?
– Конечно. – Марко снова придвигает стул.
– Кажется, я упоминала о бабушкином наследстве. – Меня прошибает пот просто от того, что я завела этот разговор. Чувствуя себя по-идиотски, я все-таки спрашиваю: – Я понимаю, что вы не по бракоразводным делам, но… с точки зрения итальянского закона, это мои деньги? Я имею в виду, а вдруг мой муж…
Я замолкаю, уставившись в пустую чашку. Марко наверняка осудит меня за эти слова, за то, что я пытаюсь не подпустить Дункана к своим деньгам. Но Марко отвечает доброжелательно:
– Ну, я не занимаюсь бракоразводными процессами, так что тут я вам не советчик. Не могу поручиться – я, опять-таки, говорю сейчас не как ваш юрист, – но, по-моему, итальянский закон рассматривал бы ваше наследство исключительно как вашу собственность. Так что ваш муж не сможет претендовать на него. Но вы же будете разводиться не по итальянским законам?
– Не знаю, – говорю я несчастным голосом. – Я здесь, Дункан в Шотландии, я не знаю, как все устроить.
Марко легонько, по-дружески касается моего запястья:
– Слушайте, пусть вас это сейчас не тревожит. Хотите, я загляну в записную книжку, посмотрю, кто может дать вам совет?
– Да. Спасибо. – Я краснею.
– Ну тогда ладно. – Он встает, я тоже, мы пожимаем друг другу руки. – Заканчивайте свой труд. Я скоро свяжусь с вами, но если вам захочется что-нибудь обсудить – звоните. Ciao, Тори.
И, перекинув через плечо ремень итальянской элегантной сумки, он удаляется.
Вынырнув на виа де Нери, я надеваю солнечные очки, и Флоренция окрашивается в оттенки сепии, как на старой фотографии. Сегодня днем я могу заняться чем угодно. Могу пойти в музей, в кино, купить себе одежду, которая не пахнет сыростью и никогда не будет пахнуть. Могу просто бродить по городу, могу фотографировать, могу, если захочу, выпить спритц, обдумывая, где бы поужинать. Я непременно напишу Риченде. Но сейчас мне хочется спать. На меня снова наваливается усталость, мгновенно пропитывая все клетки моего тела. Удивляться этому у меня уже нет сил.
5
Тори
В окно гостиничного номера льется солнце, рисуя на белом покрывале яркую широкую полосу. Я опускаю жалюзи, сбрасываю туфли. Как приятно ступать разгоряченными ногами по прохладным плитам. Надо бы сделать как положено: раздеться, принять душ, лечь в кровать. Но у меня нет сил даже думать об этом, я ложусь в чем есть и жду, когда придет сон.
Но куда там. Едва моя голова касается подушки, как сон разом слетает. Думать я теперь могу только о книге. Что скажет Риченда? А вдруг, если я так и не напишу книгу, мне придется вернуть первую часть аванса? Деньги-то давно потрачены. Не успели пять тысяч фунтов лечь на семейный счет, как в крыше обнаружилась течь, когда течь заделали, ремонта потребовала овчарня, а на то немногое, что осталось, Дункан купил «в дом» винтажные клюшки для гольфа – чтобы брокерам, которые к нам наведывались, было чем восхищаться. Так все деньги и разошлись.
Нет, я в состоянии вернуть аванс. Если придется, можно взять из бабушкиных денег. Но дело в том, что тридцать тысяч фунтов кажутся громадной суммой, и это действительно большие деньги, гораздо больше, чем мне случалось иметь на банковском счете, и в то же время я не знаю, сколько на самом деле стоит жить во Флоренции, – знаю только, что это гораздо дороже, чем я думала. Я не знаю, сколько работы у меня будет в следующем году, не знаю, когда она появится, не знаю, смогу ли я вообще работать. У меня ни пособий, ни сбережений, ни страховки – ничего, что полагается иметь в моем возрасте. Я даже не знаю, сколько у меня останется после развода. А вдруг наследство по шотландским законам принадлежит мне не полностью? Вдруг я нарушаю закон, пытаясь забрать все деньги себе?
Надо было думать обо всем этом до того, как ехать сюда и разбрасываться деньгами на квартиры и юристов. Надо было давать себе отчет, что не бывает побегов без последствий. Боже мой, меня тошнит.
Я пытаюсь прогнать мысли, поторговаться с ними. Какой смысл нарываться на неприятности? Напишу Риченде, когда буду абсолютно уверена, что не вернусь. Может, когда въеду в квартиру. Когда разберусь с видом на жительство. Когда поговорю с адвокатом по бракоразводным делам и узнаю, сколько мне будет стоить этот процесс. Но мысли все не дают мне покоя; наконец я сажусь, достаю из сумки планшет и пишу первое, что пришло в голову.
Здравствуйте, Риченда! Мне очень жаль, но с «Пособием для шотландских леди» дела обстоят не слишком хорошо. Я ушла от Дункана и переехала во Флоренцию, чтобы начать все сначала, так что не знаю, смогу ли сейчас закончить книгу. Простите, пожалуйста. Надеюсь, мы найдем какое-нибудь решение. Т. хxx
Потом я, не раздумывая, нажимаю «отправить», снова ложусь и зажмуриваюсь. До завтра Риченда точно мне не ответит. Скорее уж в понедельник. Или даже во вторник, если у нее, как всегда, длинные выходные. У меня полно времени, успею придумать, что говорить дальше.
Планшет оживает. Трррр-трррр, звенит он, и на экране всплывает уведомление:
Входящий звонок: Риченда Хафтон.
Черт. Я снова сажусь в кровати, включаю лампу и принимаю звонок. Через мгновение на мерцающем экране возникает лицо Риченды. Она у себя в офисе, за спиной стеллаж с книгами в разноцветных мягких обложках. Риченда… да, она выглядит встревоженной. Мне кажется, она чуть ли не подпрыгивает.
– Тори! – кричит Риченда. – О господи, что случилось? Дорогая, на вас просто лица нет!
– Простите, – машинально говорю я.
– За что вы просите прощения?
– За книгу…
– Да к черту книгу! К черту. Что-нибудь придумаем. Скажите лучше, что там у вас с Дунканом? Выкладывайте все как есть. У него роман на стороне?
– Нет.
– Значит, у вас? Не стану вас винить, дорогая, и никто не станет. Молодая женщина, одна в большом доме в каком-то медвежьем углу… Это должно было случиться.
– У меня тоже не было романа на стороне. Ни у кого не было романов. Все совсем не так, просто… просто все пошло наперекосяк. – Я ощущаю, как в душе нарастает отчаяние. – Я пыталась, честно, пыталась, но…
– Ничего больше не говорите. – Риченда взмахивает рукой с зажатой в пальцах сигаретой. – Ни. Единого. Слова. Я вас полностью понимаю.
– Правда? – Я плачу, но на этот раз от облегчения. Кто-то сказал мне доброе слово.
– Конечно, правда, дорогая. Со мной такое тоже бывало. Не нужно извиняться передо мной. Бедная вы, бедная. – Риченда говорит, а я роюсь в сумке в поисках носового платка. – Наверное, вы жили как в аду.
– Да уж. – Я вытираю глаза. Слова льются из меня – сопливые, жалкие. – Мне было так одиноко, в конце концов меня это просто достало, но мне даже сестра не верит… господи, извините. – Губы дрожат, голос дрожит.
– Слушайте. – Риченда затягивается и небрежно выдувает облачко дыма. – То, что с вами произошло, можно пережевывать до бесконечности. Но я была замужем три… нет, четыре раза. Ужасная правда заключается в том, что если брак не задался, надо уходить. Вот и всё. А люди всегда бесятся, когда уходишь от мужа, как будто это их собачье дело, начинают говорить: ай-яй-яй, неужели вы не можете все обсудить и найти решение? А вы не пробовали психотерапию, или свинг, или еще какую-нибудь современную дикость? Потому что они не знают. Они понятия не имеют, что ты и так из кожи вон лезла, они не знают об отвратительных ссорах, не знают, что все это время высасывало из тебя силы. Оно и понятно, ты ведь не трясла грязным бельем на людях. Начнешь рассказывать друзьям и родственникам о своем браке в подробностях – тебя же сочтут занудой. Поэтому их так неприятно поражает, когда твой брак разваливается. Но больше всего людей пугает, что если вашим отношениям пришел конец, то и с их браком может произойти то же самое. Так что если люди занудствуют на твой счет, дорогая, то это больше говорит о них самих.
– Угу. – Я сморкаюсь, безобразно хлюпая.
– Доверяйте себе – вот что я хочу сказать. Вы были несчастны, ничего не могли с этим поделать и потому ушли. Вот и прекрасно. Единственный вопрос – что дальше.
– Книга.
– Да, книга в том числе. Я на этой неделе собираюсь на одну жуткую книжную тусовку и надеюсь, что там будет Тим Суитин, а он довольно приятный парень. Я переговорю с ним с глазу на глаз, неофициально, и посмотрим, что выйдет. Откровенно говоря, Тори, издатели таких вещей терпеть не могут. И я тоже. Когда автор проваливает книгу, плохо всем. Но такое случается, и положение иногда можно спасти.
– Например?
Риченда вздыхает.
– Ну, все зависит от того, что мы можем им предложить. Сколько вы успели написать? Если честно?
– Около шестнадцати тысяч слов. Черновик, но он есть.
– Хорошо. Тогда можно сделать так: книга та же, но короче. Не уверена, что издательство согласится, шестнадцати тысяч слов маловато. Но если согласится, я наверняка сумею выторговать для вас еще немного времени, а вы сделаете из этого объема что-нибудь пригодное. Иначе… ну посмотрим. Мне не хочется задавать этот вопрос, пока рана еще свежа, но… Вы смогли бы написать о том, что с вами сейчас происходит?
– В смысле – во Флоренции?
– Именно. – Риченда давит окурок и закуривает новую сигарету. – Аристократка-бунтарка бросает свою студенческую любовь и начинает новую волнующую жизнь в городе Микеланджело и Медичи. Может получиться вторая «Есть, молиться, любить».
Идея Риченды меня смущает.
– Даже не знаю. Мне кажется, это немного…
– Немного что, дорогая?
– Немного неправильно. Как будто я решила извлечь выгоду из болезненных переживаний.
– Да ведь писатели именно так и поступают. Ну, вы придумаете, какой будет ваша книга – личной или не очень. Это ваша история.
– Но…
– Мы не знаем, согласится ли вообще издательство на наше предложение, – напоминает Риченда. – В том числе потому, что написать новую книгу – это гораздо дольше, чем навести лоск на то, что уже есть. Давайте я поговорю с Тимом, а там видно будет. Хорошо?
– Хорошо.
– А пока обещайте мне кое-что. С вами будут происходить разные вещи, вы будете встречаться с разными людьми и вести с ними разговоры на самые разные темы – всё записывайте. Не напрягайтесь, не пытайтесь что-то сделать из этих записей – пока не нужно. Записывайте всё – и наблюдайте, дорогая, просто наблюдайте. Используйте ваш чудесный дар любопытства, он у вас сохранился, я знаю, хотя этот подонок сделал все, чтобы его вытравить. Обещаете?
Совет кажется мне дельным. Возможно, он поможет мне вернуться к себе.
– Обещаю.
Риченда улыбается.
– Вот и славно. А теперь отправляйтесь покорять удивительную Флоренцию, счастливица! Когда у меня появятся новости, я сразу с вами свяжусь.
6
Стелла
Убив Берту и выставив ее изуродованное тело на всеобщее обозрение, власти намеревались устроить акцию устрашения, чтобы запугать жителей Ромитуццо и отвадить их от поддержки партизан. Но они просчитались. Напротив – наше движение обрело новых последователей. Этим людям не всегда хватало сил или смелости сражаться с оружием в руках, но они помогали иначе. Они приносили еду, лекарства, одежду – всё, что могли пожертвовать. А главное – они молчали. Если немцы думали, что мы станем доносить на соседей, надеясь спасти собственную шкуру, то их ждало разочарование.
Страшные акции гитлеровцев не запугали нас. Однако я покривила бы душой, если бы сказала, что ничего не боялась. Думаю, я всегда сознавала, насколько опасны мои задания, но эта опасность оставалась для меня теоретической. Теперь же она стала более чем реальной, и ко мне не скоро вернулась былая уверенность. Никогда не забуду, как в те дни я оказалась на волосок от провала.
Однажды субботним утром я села на велосипед и отправилась в партизанский лагерь возле Сан-Дамиано, красивого средневекового городка в горах, ехать до которого было минут сорок. Помню, что в корзинке велосипеда я везла шерстяные фуфайки и носки, которые жительницы Ромитуццо вязали для партизан. Женщины все продумали: вещи они свернули так, что те стали похожи на одежки для малышей. Маленькие свертки были перевязаны обрывками ленточек и кружев, которые женщины сумели наскрести по швейным шкатулкам. Одна даже нашла и заштопала замусоленного вязаного зайца – старую игрушку своего сына, которому теперь предстояло присоединиться к партизанам. Если бы кто-нибудь спросил, куда я направляюсь, я ответила бы, что еду навестить недавно родившую кузину. Но под зимним пальто у меня крест-накрест висели сумки с действительно ценным грузом: в одной сумке были револьверы и пистолеты, в другой – патроны.
Добраться до Сан-Дамиано быстрее всего можно было по главной дороге, ведущей на юг, – виа Сенезе. На ней, метрах в ста от церкви Святого Христофора и кладбища при церкви, был пропускной пункт, где обычно дежурили двое немецких солдат. Ромитуццо, в отличие от исторических памятников вроде Сан-Дамиано или транспортных узлов вроде Кастельмедичи, не представлял собой ничего важного, но в долине действовали бойцы Сопротивления, и немцы предпочитали знать, кто входит в городок, а кто его покидает. Я с самого начала взяла за правило мелькать там почаще – то к подружкам, то по грибы, то еще с какой-нибудь невинной целью. Пару раз меня останавливали, чтобы проверить документы, но скоро перестали. Однако на этот раз все вышло иначе.
Приближаясь к пропускному пункту, я разглядела, что на дежурных сегодня не серая полевая форма вермахта. У этих двоих были красные нашивки и красные петлицы добровольцев СС. Значит, это не чужаки, которые несут службу в чужом захолустье. Передо мной итальянцы – может, даже уроженцы Тосканы. Им знакомы эти места, и если они нас еще не знают, то у них есть возможность разузнать о нас все.
Не скажу, какое чувство было сильнее – отвращение или страх. В какой-то момент мне страстно захотелось повернуть, но я, конечно, удержалась. Повернула – значит, виновна. К тому же я везла партизанам оружие, в котором они нуждались. Оружия везде не хватало. Поэтому я уверенно покатила дальше, и когда один из эсэсовцев знаком приказал мне остановиться, я предъявила ему свертки и изложила историю о предполагаемой кузине. От волнения я стала необыкновенно болтливой и даже придумала имена и малышу, и его братьям и сестрам, однако тут же их перезабыла. Все это время эсэсовец не спускал с меня глаз. А я не смела взглянуть на него – вдруг я его знаю?
Мой рассказ явно не убедил эсэсовца, и неудивительно. Нахмурившись, он принялся рыться в тугих шерстяных свертках, прощупывая, поворачивая их в руках так и эдак. Наверное, решил, что внутри что-то спрятано. Меня затошнило; я молилась, чтобы он не начал развязывать ленты, потому что в таком случае он увидел бы, что все это предназначается не детям, а взрослым мужчинам. Лямки сумок врезались мне в плечи, в бок упиралась рукоятка пистолета; думать я могла только о судьбе Берты и о том, как легко я могу разделить ее.
Вдруг звякнул велосипедный звонок. Я подняла взгляд. Со стороны Сиены катил наш приходской священник – маленький кругленький старичок, дон Ансельмо. Он мне ни капли не нравился. Из проповедей дона Ансельмо можно было заключить, что коммунизм для Италии еще большее зло, чем нацистская оккупация, а я, хоть и не была коммунисткой, знала, на чьей я стороне. Я вдоволь наслушалась его проповедей, потому что мать всегда таскала меня на воскресную мессу. В этом для меня беды не было, потому что я, в отличие от Акилле, верила в Бога. Но мне не хотелось ходить в церковь Святого Христофора – церковь дона Ансельмо. Мне хотелось ходить в церковь Святой Катерины, где энергичный молодой дон Мауро проповедовал о безграничной любви Господа и о нашем долге заботиться о вдовах, сиротах и странниках.
– Мне тоже не нравится дон Ансельмо, – сказала мама, когда я высказала ей свое мнение. – Но дон Мауро бунтарь не в меру, ему на роду написано влипнуть в неприятности. Святой Христофор куда безопаснее.
Логика матери была мне противна, но я ее понимала. И отлично знала, что наградой за послушание станет свобода, а значит, я смогу и дальше делать свое дело. Поэтому я каждое воскресенье выслушивала, как дон Ансельмо нападает на коммунизм, и с каждым воскресеньем дон Ансельмо нравился мне все меньше. Однако, увидев, как он приближается к пропускному пункту – дурацкая шляпа с круглыми полями, сутана хлопает на ветру, – я подумала, что мать, может статься, права и тот факт, что я хожу в церковь Святого Христофора, хоть немного, но поможет мне. Я не знала, что делать.
Эсэсовцы, наверное, видели дона Ансельмо, еще когда тот покидал Ромитуццо. Может быть, они знали его, а может, просто доверяли ему как священнику. Как бы то ни было, один из постовых просто махнул ему, но дон Ансельмо с улыбкой помахал в ответ и остановил свой велосипед рядом с моим.
– Ба, да это Стелла Инфуриати! – воскликнул он, словно мы столкнулись на рыночной площади. – Куда это ты собралась? Погода сегодня уж больно противная, холодно.
– Везу подарки кузине, она недавно родила, – машинально сказала я и тут же пожалела о сказанном, потому что дон Ансельмо знал все обо всех и мигом раскусил бы мое вранье.
Дон Ансельмо протянул руку и коснулся одного из сверточков.
– Вот и хорошо. Передай кузине мои самые добрые пожелания. Ребеночек ведь у Терезы родился? У кузины Терезы?
– Да. У кузины Терезы.
– Я ее помню. Очаровательная молодая женщина. Ну, храни тебя Бог.
Дон Ансельмо улыбнулся эсэсовцу, тот сердито зыркнул на него и жестом велел мне проходить.
Не мешкая, я села на велосипед и не останавливаясь крутила педали до самого Сан-Дамиано. Все это время я ломала голову, почему дон Ансельмо не только не уличил меня во лжи, но еще и сам присочинил. Да с какой легкостью! Но если он истинный христианин, если он вообще человек, он просто не позволил бы мне разделить участь Берты. Объяснения лучше я придумать не смогла, и на тот момент оно меня вполне устраивало.
Возвращаясь в город, я заметила, что дон Ансельмо возится у ворот церковного кладбища. Я помахала ему, не прекращая нажимать на педали, но он окликнул меня:
– Вот и ты, Стелла! А я уже заждался.
Вообще говоря, останавливаться мне не хотелось. Я проголодалась и устала, к тому же дон Ансельмо не стал мне милее, хоть и выручил меня утром. Но в спину мне уперлись взгляды эсэсовцев, и я сообразила, что сильно выиграю в глазах этих добровольцев, если продемонстрирую, что мы с доном Ансельмо в дружеских отношениях. Поэтому я слезла с велосипеда и прислонила его к паперти, рядом со стареньким велосипедом священника.
Дон Ансельмо открыл дверь и ввел меня в церковь. Я едва успела омыть пальцы святой водой, как он уже повел меня в боковой неф, а потом в ризницу.
– Сейчас мы выпьем кофе, – объявил он, таща меня за собой. – Настоящего кофе, а не эту бурду из ячменя или цикория. У меня недавно был день рождения, и по этому случаю близкие друзья из Турина раздобыли немного хорошего кофе, а потом сумели передать его мне, хоть и довольно замысловатым способом. Ты, наверное, любишь кофе? Да?
– Да.
Мы что, будем пить кофе в ризнице? Логичнее было бы перейти дорогу и устроиться в доме дона Ансельмо.
Дон Ансельмо уже рылся в шкафчике.
– Вот! – сказал он наконец и достал фонарик. Большой металлический фонарик – такие были у немцев. Интересно, подумала я, откуда у него такой. Дон Ансельмо включил фонарик и распахнул другой шкафчик, в противоположной стене которого обнаружилась крепкая деревянная дверь. – Думаю, домой мы пойдем этой дорогой, – сказал дон Ансельмо. – Мне хочется, чтобы ты все увидела.
Выудив откуда-то из-под воротника сутаны ключ, он отпер дверь и кивком велел мне подойти. Потом посветил фонариком в проем, там была узкая площадка, от которой уходили вниз ступеньки. Через несколько метров лестница исчезала в кромешной тьме. Дон Ансельмо вручил мне фонарик:
– Держи. Я пойду вперед.
Фонарик оказался увесистым. Мне кажется, поэтому дон Ансельмо и дал его мне, чтобы я не чувствовала себя безоружной. В те дни я была блаженно наивной и мало сознавала, какие опасности могут подстерегать меня, если я начну соваться в подвалы с чужаками. Дон Ансельмо прошел в дверь и начал осторожно спускаться по ступенькам, одной рукой придерживая подол сутаны, а другой опираясь на вделанные в стену хлипкие железные перильца.
– Не зевай, – сказал он через плечо. – Впереди крутой поворот. И закрой за собой дверь.
Ступеньки были высокими и слегка неровными, и я смотрела себе под ноги, пока не оказалась внизу. Тут я подняла взгляд – и ахнула. Каменный тоннель со сводчатым потолком уходил вперед, и в свете фонарика я разглядела вдоль обеих стен ряды пулеметов и штабеля винтовок и ящиков с боеприпасами.
Когда я нашла в себе силы сделать хоть шаг, дон Ансельмо уже успел углубиться в туннель.
– Над нами виа Сенезе, – сказал он, указывая на потолок. – Кстати, не забывай смотреть под ноги. Кое-что из этого добра уложено так, что можно споткнуться.
Я, едва дыша, пробиралась по тоннелю. К счастью, потолок был достаточно высоким и мне не пришлось сгибаться, хотя Акилле решил бы, что здесь тесновато, а отец и вовсе вряд ли бы поместился. Спустя несколько мучительных минут мы оказались в другом подвале с лестницей, которая вела наверх, к открытой двери.
– Вижу, Ассунта ждала нас и не стала запирать дверь, – сказал дон Ансельмо. – Может, она уже и кофе поставила варить. – И он поскакал по ступенькам, как упитанная газель.
Я устроилась в гостиной у огня. Меня окружали лики святых и старые выцветшие фотографии, с которых смотрели неулыбчивые, строго одетые люди. Набитый оружием туннель начал казаться мне сном. Но я знала, что это не сон, потому что дон Ансельмо все говорил, говорил о нем, а я ошеломленно молчала. Может быть, из-за моего молчания он и решил рассказать мне историю тоннеля, прорытого в начале шестнадцатого столетия.
– По всей видимости, приходским священником тогда был какой-то страстный почитатель фра Джироламо Савонаролы. Ты ведь слышала про Савонаролу?
Я кивнула. Кто же про него не слышал. Савонарола, монах-доминиканец, фанатик и яростный проповедник, сжигавший на кострах книги и картины, недолго правил Флоренцией. При чем здесь он?
– У него здесь было много последователей, – объяснил дон Ансельмо. – Думаю, он даже раз или два служил в нашей церкви. Легенда гласит, что через несколько лет после казни Савонаролы некий дон Бернардо – не доминиканец, кстати, а самый обычный приходской священник – повадился устраивать здесь, в Ромитуццо, тайные собрания таких же истинно верующих. Конечно, им приходилось соблюдать осторожность. Савонарола представлял собой серьезную угрозу тиранам Флоренции и Рима, и его последователи тоже считались людьми опасными. Поэтому они являлись на мессу, а после службы, когда прочие расходились, спускались в туннель и пробирались сюда, в этот дом. Во всяком случае, такова легенда, и она занятная, а правду она говорит или нет – дело второе.
От необходимости отвечать меня спасла Ассунта, которая внесла в гостиную поднос с двумя чашками кофе и двумя тарелками нарезанных яблок. Она поставила поднос на журнальный столик между нами, дон Ансельмо перекрестился и сунул в рот кружочек яблока. Я забыла, насколько проголодалась, и последовала его примеру. Чудесное было яблоко – сладкое, свежее, с кислинкой.
– Из моего сада, – сказал дон Ансельмо. – Мне нравится делать вид, будто яблоки не хуже пирога, но мы же оба знаем, что это неправда, верно? Вот бы есть пироги каждый день.
– Да уж, – выговорила я, и дон Ансельмо улыбнулся мне.
Он подождал, пока я допью кофе и расправлюсь со своими яблоками (а также с половиной его), а потом подался вперед, сложил пухлые ручки на коленях и спросил:
– Дитя мое, ты умеешь стрелять? Револьвер, пистолет?
Тут до меня вдруг дошло.
– Почему вы меня об этом спрашиваете? – выпалила я, и, боюсь, далеко не так вежливо, как следовало бы. – Зачем вам в подвале пулеметы? Вы за партизан?
– Разумеется, дитя мое, – ответил он. – Ты разве не поняла?
– Но я думала, что вы против коммунизма.
– Разумеется, против. Я считаю коммунизм отвратительной идеологией, ложным пророчеством, извращением учения Христова. Ложным пророчеством, которое перенимает Его послание, дивную весть о справедливости и заботе о ближних, и лишает это послание всей его спасительной силы. Пустой светский культ, который отрицает всякую возможность загробной жизни, отрицает самое существование нашего Господа, а ведь Он любит нас и готов простить нам все наши грехи, если только мы повернемся к Нему. Конечно, я против коммунизма. Но – коммунисты? Я знаю нескольких убежденных коммунистов, которые делают благое дело. И если я могу помочь им, то я буду им помогать в меру своих скудных возможностей. Но ты так и не ответила, умеешь ли ты стрелять.
– Умею. Меня брат научил.
– Тогда у меня для тебя кое-что есть. Подожди-ка.
Он поднялся и вышел, а я осталась сидеть у огня, чувствуя себя по-дурацки. Дон Ансельмо вернулся, наверное, через пару минут, но мне казалось, что времени прошло больше. Войдя, он со стуком закрыл за собой дверь.
– Держи. Я не сразу нашел патроны к нему. – Дон Ансельмо достал из кармана маленький револьвер и протянул его мне.
Револьвер выглядел просто глупо – смехотворная курносая штучка вроде тех, которые в девятнадцатом веке иные дамы носили в ридикюле.
– Выглядит нелепо, я знаю, – сказал дон Ансельмо. – Но мне точно известно, что он лучше, чем ничего. А ты без труда сможешь спрятать его где-нибудь… э-э… под одеждой. Если ты станешь носить его с собой, мне будет легче.
Я еле сдержала смех. Чуть не сказала, что не понимаю, как вообще можно застрелить кого-нибудь из этой старомодной игрушки, если только враг не окажется прямо у меня перед носом. В какую же переделку надо попасть? Но потом до меня дошло, в какую переделку мне надо попасть, чтобы пришлось стрелять в упор; я протянула руку, и дон Ансельмо вложил револьвер мне в ладонь.
Потом он снова полез в карман, вынул кожаный мешочек, и я протянула другую руку. В мешочке были крохотные патроны.
– Спасибо, – сказала я, потому что ничего больше не смогла придумать. – Спасибо, что дали мне его. И спасибо за… – Мне хотелось сказать «за то, что вы мне доверяете, за то, что говорите со мной как со взрослым человеком, с товарищем». – За гостеприимство, – закончила я.
– В доме моего Отца много углов, – проговорил дон Ансельмо.
Клянусь – в этот момент я услышала, как прямо над нами кто-то ходит. Может, я додумала эту деталь задним числом, ведь только позже, много позже я узнала, что отважный старый священник открыл свой дом для всех, кто в этом нуждался. Солдаты союзных войск, раненые партизаны, евреи, бежавшие от ареста, – все они в какой-то момент попадали в Ромитуццо и пережидали опасность в одной из верхних комнат.
В ту ночь я сидела на краю постели, разглядывая нелепую вещицу. Я и поныне верю, что дон Ансельмо дал мне ее для самозащиты. Он был хорошим человеком и добрым пастырем, а самоубийство в те дни считалось непростительным грехом. Дон Ансельмо никогда не толкнул бы меня на этот путь. Но я с леденящей ясностью сознавала, что если меня схватят немцы или фашисты, пытаться бежать бесполезно. Мне придется приставить дуло к собственному виску.
С того дня и до самого Освобождения я носила револьвер в лифчике. Конечно, мне не пришлось стрелять из него. Я ведь сейчас с вами, верно? Но после войны прошло много лет, мои дети успели стать взрослыми – а я все еще спрашивала себя, как бы я поступила, если бы меня схватили. Хватило бы мне решимости действовать быстро – или я привела бы гестапо к дверям дона Ансельмо? Мне хочется думать, что хватило бы. Мне хочется думать, что Господь все понял бы.
7
Тори
– Ma non ha nessuno a Firenze?[13] – Федерика, хозяйка квартиры, бросает на меня косой взгляд.
С головы до ног в черном, седое каре стального оттенка, красная помада, стразов на дизайнерских кроссовках еще больше, чем у Кьяры. Они с Кьярой говорят уже минут двадцать, а мы с Марко пристроились у окна, делая вид, что не слушаем. Предполагалось, что мы просто подпишем контракт, но получились настоящие переговоры.
– Niente fidanzato, niente parenti, niente amici?[14]
– Она спрашивает, правда ли у вас во Флоренции никого нет, – переводит Марко. – Ни партнера, ни родственников, ни друзей…
– Я поняла, – прерываю я, а Кьяра тем временем что-то тихо и быстро говорит Федерике. – Это плохо?
– Нет-нет. Она просто тревожится за вас. Я так думаю.
– Ma non parla neanche italiano, lei[15], – продолжает Федерика.
Я не могу пустить дело на самотек. Как это я не говорю по-итальянски? Кашлянув, я объявляю:
– Il mio italiano ѐ un po’ arrugginito, ma sto reimparando[16].
Все улыбаются, хотя Федерика – несколько сконфуженно.
– Tori ѐ brava, – бодро свидетельствует Кьяра в мою пользу. – Fa la scrittrice[17].
В комнате словно холодает.
– Scrittrice? – с легким ужасом в голосе произносит Федерика и буравит взглядом лежащую на кухонной стойке папку (счета за несколько лет, справка о состоянии банковского счета, а также моя последняя налоговая декларация), как будто папка может испариться.
– Giornalista, – вставляет Марко, но Федерика и Кьяра уже с головой ушли в переговоры. Папка снова открыта, документы разложены по всей стойке.
Я бросаю тревожный взгляд на Марко и шиплю:
– Писательница – это что, плохо?
– Да нет. У нас во Флоренции писателей любят.
– Тогда с чего такая суета?
– Потому что мы знаем, сколько платят писателям. А выселить жильца по итальянским законам невероятно трудно. – Марко вздергивает бровь.
Он что, шутит? Или нет?
Я оглядываюсь на Федерику и Кьяру. Они о чем-то оживленно говорят – похоже, даже спорят. Меня охватывает настоящая паника. Марко берет меня за руку:
– Это ритуальный танец. Иногда подписание контракта проходит без эксцессов, а иногда бывает как сейчас. Ничего личного.
– Я уже выписалась из отеля. И чемоданы привезла.
– Все будет хорошо. Поверьте мне.
Так и выходит. Депозит посчитан и пересчитан. Мы с Федерикой ставим свои подписи на каждой странице распечатанного в трех экземплярах договора, мне возвращают мою папку и дают еще одну – с копиями коммунальных счетов, которые мне предстоит переделать на свое имя («Я этим займусь», – обещает Кьяра). Я получаю пароль от вайфая, пачку инструкций к бытовой технике, а также длинный список с указаниями на предмет того, куда, как, когда и какой мусор выбрасывать. Мне демонстрируют небольшую потертость на подоконнике в спальне и пятнышко в углу ванной, где треснула плитка и трещину пришлось замазать. После чего вручают две связки ключей, показывают, как обращаться с задвижкой, и объясняют, как работает термостат, хотя объяснений я не понимаю. Наконец Федерика целует меня в обе щеки, произносит: «Добро пожаловать во Флоренцию», выдает поток инструкций Кьяре и уносится, крикнув «Arrivederci!».
– Боже мой! – спохватывается Кьяра. – Мне пора бежать. Тори, я зарегистрирую договор, а потом просто зайдите и подпишите пару бумажек для коммунальщиков. Я вам позвоню, хорошо? И если что – какой-нибудь вопрос, дело, – звоните мне. Ciao, Тори, ciao, Марко, ciao!
И она тоже убегает вниз по лестнице, а мы с Марко остаемся вдвоем в этой незнакомой новой квартире, которая каким-то образом стала моей.
– Ладно, – говорю я. – Что дальше? Что нам теперь надо сделать?
– Дальше? Ничего.
Я беспомощно гляжу на Марко:
– Но ведь столько всего еще осталось! Вид на жительство, медицинская страховка…
Марко разводит руками:
– Не знаю, что сказать. Утром я звонил в Anagrafe, бюро регистрации по месту проживания, насчет вашего вида на жительство. У них все забито, в этом месяце они вас не примут. А пока у вас нет официального вида на жительство, вы ничего сделать не сможете.
– Но заявление вы подали?
– Да. Я вам писал об этом подробнее по электронной почте.
Ну конечно! Телефон у меня переведен в беззвучный режим. Сначала Чарли со своими наездами, потом я начала дергаться при каждом входящем сообщении – думала, что это Риченда с новостями насчет книги. Вот я и рассудила, что надо дать себе передышку. Я выуживаю телефон из сумки.
12 пропущенных вызовов
36 сообщений
7 электронных писем
5 пропущенных видеозвонков
– Точно. – Я убираю телефон. – А вы не узнали, что там с моей действующей медицинской страховкой? Мне не надо искать другую страховую компанию?
– Женщина, которая взяла трубку, сказала, что проблем нет. Конечно, все зависит от того, с кем мы будем иметь дело в назначенный день. Расслабьтесь, – говорит Марко, и я осознаю, что вся сжалась. – У вас есть право жить здесь. В худшем случае нас ждет какая-нибудь административная проволочка, но с ней мы разберемся. Поверьте, вам даже знать не захочется, через что вынуждены проходить те мои клиенты, кто приехал не из Евросоюза.
– Да уж. Просто так странно сидеть без дела…
– Радуйтесь жизни. Распакуйте вещи, побродите по городу, поработайте над книгой… (Конечно. Марко же знает про книгу, как знает и про бывшего мужа, и про мать, и про сестру. Он просто подробностей не знает.) Оглянуться не успеете, как мы опять окажемся в бюрократическом аду.
– Только не это. – Я улыбаюсь – и удивляюсь: мне немного грустно.
В последние дни я столько времени провела с Марко – мы изучали документы, по-товарищески сидели в приемных, я слушала, как он перешучивается с чиновниками, банковскими служащими, продавцами. Он здесь мой самый близкий друг, пусть даже на условиях почасовой оплаты с моей сто-роны.
– Марко, – слышу я собственный голос, – вы позволите угостить вас кофе?
Марко смотрит на часы:
– Спасибо, было бы неплохо. У меня есть несколько минут.
Мы спускаемся, переходим через дорогу. Вот он, ближайший бар, – теперь это мой бар «шаговой доступности». Мы устраиваемся у стойки.
– Due caffѐ, – прошу я молодую женщину за стойкой.
Она отвечает «Certo»[18] и запускает эспрессо-машину.
– Вы даже не сказали «пожалуйста», – замечает Марко.
– Боже мой, правда? Простите.
– Это нормально. По итальянским меркам вы говорите «пожалуйста» и «спасибо» слишком часто. И извиняетесь тоже.
– Извините, – машинально отвечаю я.
– Вежливость здесь выражают немного иначе. Здесь это больше про ваше отношение к людям.
– Вряд ли я когда-нибудь приноровлюсь к вашим традициям. Grazie[19], – говорю я, когда перед нами ставят чашки. Взяв пакетик тростникового сахара, я пытаюсь разорвать его, ничего не просыпав, – умение, которое норовит покинуть меня, когда я нервничаю.
Марко берет со стойки стеклянную сахарницу, и в его чашку бьет длинная белая сахарная струя.
– Скажем так, вряд ли кто-нибудь в ближайшее время по ошибке примет вас за итальянку, особенно если вы так и будете извиняться на каждом шагу. Но это не значит, что ваше английское происхождение помешает вам стать настоящей флорентийкой.
– Как те старушки из «Чая с Муссолини»?
– Ха! – Марко залпом выпивает кофе. Никогда не пойму, как люди это делают. – Я, скорее, имел в виду вашу бабушку. Похоже, она была сильной личностью.
– Вы правы.
– Расскажите как-нибудь о ней подробнее. Ах, черт, у меня встреча. Большое спасибо за кофе. – На мгновение мне кажется, что Марко поцелует меня в щеку, но он протягивает руку. – Не волнуйтесь. Я знаю, как вы, британцы, щепетильны насчет личного пространства.
– Я вам очень благодарна, – отвечаю я, хотя не уверена в этом.
– Ciao, Тори. – Марко пожимает мне руку, поворачивается и уходит.
Я допиваю кофе, морщусь – на зубах хрустит нерастаявший сахар – и берусь за телефон.
19 пропущенных вызовов
55 сообщений
12 электронных писем
7 пропущенных голосовых звонков
Господи.
Слухами земля полнится, это точно. Я лежу навзничь на своем новом диване – жестком, блестящем и далеко не самом удобном – и прокручиваю сообщения. Глаз выхватывает обрывки фраз.
Я понятия не имела.
Почему ты ничего не рассказывала?!
Тори, какого хрена?
Я думала, мы друзья.
Расскажи. Мне. ВСЁ.
* * *Ну и ну!!!!
За что ты со мной так?
Последние слова – как удар под дых. Сначала я думаю, что это Дункан решил нарушить молчание. Но нет. Это Чарли.
Все утро пытаюсь дозвониться. Почему ты не отвечаешь? За что ты со мной так?
Пока я смотрю на эти слова, на экране всплывает имя сестры. Опять она. Я касаюсь кнопки «ответить» и прижимаю телефон к уху.
– Мама рвет и мечет, – начинает Чарли, прежде чем я успеваю что-нибудь сказать. – Просто рвет и мечет.
– Она же терпеть не может Дункана. Считает его деревенщиной.
– Ну и что? Она мне целыми днями печенку проедает: какой скандал – бросить мужа и сбежать за границу, как… ну, ты ее знаешь.
– Знаю, – соглашаюсь я. – Прости.
– Да ладно. Пусть лучше она мне печенку проест, чем тебе.
– Спасибо.
«Спасибо» я говорю совершенно искренне. Просто это Чарли как она есть. Она любит покомандовать, она зануда и снобка, но за какой-нибудь великодушный поступок ей все можно простить. Не подпускать маму ко мне – очень на нее похоже.
– Если честно, я телефон из рук не выпускаю – то мама, то Дункан. На днях Бену пришлось отвезти мальчиков в лесную школу и забрать их из школы. Бену! Поражаюсь, как он детей не перепутал.
Я ощущаю противный холодок в животе.
– Как так?
– Ну ты же знаешь, что такое Бен. Один раз он…
– Я про другое, – прерываю я сестру, собравшуюся произнести очередную филиппику в адрес Бена. – Ты говорила про Дункана.
– А. Тори, ну тебя же не удивит, что он ужасно переживает. Он звонит мне, я не знаю, раза по два или по три каждый день. По-моему, только чтобы поплакаться в жилетку.
– Ну да, ну да.
– Не начинай. Ему сейчас и правда несладко. В горах жить нелегко, сама знаешь.
– Я в курсе, поверь мне.
– И тут ты ни с того ни с сего исчезаешь, бросаешься обвинениями…
– Чарли, ты о чем? Ты помнишь, что я тебе рассказывала на днях, когда ты потребовала конкретных примеров? Я бы не сказала, что я «бросаюсь обвинениями».
– Ты бы, может, и нет, а…
– И он действительно заявил, что я сбежала ни с того ни с сего? Я ведь говорила ему, что ухожу, но он тогда не слишком встревожился.
– Он не это говорит. – Чарли как будто оправдывается.
– Да, но именно так все и было.
Они снова нахлынули. Воспоминания. Вот я вытаскиваю из-под кровати чемодан. Дункан смотрит на меня, просто смотрит, на лице насмешливое выражение.
– Я ему говорила, что с меня хватит, что я больше не могу ему доверять. Если все останется как есть, если он не убедит меня, что понимает, почему я обижена, если он не поклянется никогда больше не лгать мне, – мне придется уйти. А он… – У меня перехватывает горло, приходится сглотнуть. – Он сказал: «Да как хочешь. Мне все равно».
– Может, он просто не хотел тебе мешать? Ты слишком эмоционально отреагировала – наверное, его это напугало.
– Слишком эмоционально? – взвизгиваю я. – Тебя там не было.
– Вот видишь? Ты слишком эмоционально реагируешь.
– Хватит. – Я с усилием принимаю сидячее положение. – Если хочешь, продолжай перезваниваться с Дунканом. Побудь ему жилеткой, пусть поплачет. Но не нужно сразу после этих разговоров перезванивать мне и докладывать, о чем вы беседовали. Убедительно прошу.
Чарли вздыхает.
– Ну, я, конечно, не знаю, как все было. В каком-то смысле это не мое дело…
– Тогда почему ты продолжаешь задавать вопросы?
Чарли ненадолго замолкает, и я по глупости воображаю, что на этот раз я, похоже, достучалась до нее. Но тут Чарли испускает еще один тяжкий вздох и говорит со своей фирменной интонацией «Мама Очень Разочарована»:
– Могу только сказать, что твоя версия событий ну очень отличается от того, что говорит мне Дункан. Тори, я никого не осуждаю. Я просто ставлю тебя в известность.
– Понимаю.
– Вот и прекрасно. Потому что я действительно хочу, чтобы у вас все было хорошо. У обоих.
– Не звони мне больше. До свидания, Чарли.
– Что? Тори, не вздумай вешать трубку! Не вздумай, я за последние несколько дней столько всего сделала…
– До свидания, – повторяю я и нажимаю «отбой».
Чарли перезванивает через полчаса, когда я развешиваю одежду. Я, естественно, не отвечаю, и сестра оставляет мне голосовое сообщение.
– Слушай, Тори. – В голосе Чарли звучат покаянные нотки. – Меня занесло. Я… Я не знаю, что делать. Все так запутано. Я, наверное, попытаюсь разрулить ситуацию, судьба моя такая – все разруливать. Не буду больше надоедать, но если тебе захочется поговорить, ты же мне позвонишь? Да? Я исправлюсь, честное слово.
Прослушав сообщение раз десять, я стираю его. Потом наливаю себе вина, сажусь за ноутбук, открываю текст и начинаю писать. Когда телефон звонит снова, на часах почти полночь.
– Тори, вы меня слышите? – громким театральным шепотом произносит Риченда. Где-то на заднем плане спускают воду. – Извините, я в женском туалете, на вечеринке, которую устроили «Харпер» и «Рэндом Пенгуин».
Внезапно занервничав, я жадно отхлебываю вина.
– Слышу.
– Хорошо. Я поговорила с Тимом, и он отнесся к ситуации с полным пониманием. Теперь ему надо договориться с отделом продаж и маркетинга, но мне кажется, что книга в укороченном варианте не приветствуется. Укороченный вариант не соответствует заявке. К тому же как вы будете пиарить книгу о замужней жизни в Хайленде, если вы недавно бросили мужа и свалили на континент?
– Хм. Справедливо.
– Но флорентийская тема его заинтересовала. Я знаю, что вы продолжаете работать, – вы не могли бы прислать мне несколько страниц? Необязательно много, просто чтобы дать представление. Тысяч на десять слов или около того.
О господи.
– Когда их надо прислать?
– Не знаю, дорогая. Сможете прислать… скажем, через понедельник?
– Э-э, думаю, да…
– Вы – моя звезда, – объявляет Риченда. Слышится громкий стук, и она рявкает: – Да сейчас! Сейчас выйду! Тут кому-то невтерпеж. Тори, дорогая, мне пора. Передавайте от меня привет Флоренции. – И отключается.
Я смотрю на текст, открытый передо мной на экране компьютера. Пока в нем три тысячи слов. Некоторые фразы относительно связные, это уже готовые предложения, но много и случайных заметок вроде «собаки в ресторанах» и «кроссовки с блестками – флорентийская фишка?». Последняя тысяча слов – просто мои излияния на тему какая Чарли засранка.
Что ж, принимаемся за работу.
8
Тори
Кьяра кладет передо мной стопку бланков. Стопка, примерно в дюйм высотой, ощетинилась разноцветными стикерами.
– Я их заполнила, – объясняет Кьяра, – и от вас требуется только еще раз проверить всю информацию и поставить подпись там, где я пометила желтым маркером.
– Это все – только для коммунальщиков? – спрашиваю я.
Кьяра кивает:
– Газ, электричество, вода, интернет, вывоз мусора. Хотите кофе?
– Если можно.
– Горький или помягче? Или лучше декаф?
– Наверное, помягче. И уж точно не декаф.
Кьяра подходит к чудо-машине в углу кабинета, достает кофейную капсулу и со щелчком вставляет ее в гнездо. Никогда бы не подумала, что итальянцы так любят капсульный кофе, но эти машины здесь повсюду. На днях я видела целый магазин, где продавались одни только кофейные капсулы.
– Не торопитесь, – предупреждает Кьяра через плечо, – эти бланки даже для нас сущий кошмар.
– Здесь сказано tariffa non residente[20]. – Я указываю на верхнюю страницу. – Все правильно?
– Да. Вы считаетесь нерезидентом, пока не зарегистрируетесь в Anagrafe. Как только зарегистрируетесь – свяжитесь со мной, и мы с этим разберемся. Так у вас тариф будет ниже.
– Дальше все так же сложно?
– Нет-нет. – Кьяра ставит рядом со мной поднос с эспрессо в картонном стаканчике, пакетиком сахара, палочкой для размешивания и крошечной мадленкой на салфетке. – Этот этап самый трудный.
Заправившись кофеином и сахаром, я продолжаю просматривать документы, проверяя и перепроверяя детали: имя, налоговый код, дату и место рождения, гражданство, адрес, телефон, электронную почту, международный номер банковского счета. Кьяра забирает опустевший стаканчик и приносит новый.
– Спасибо.
– Пустяки. – Она смотрит, как я проверяю бланк, по которому мне предстоит платить за вывоз мусора, и откладываю его в сторону. – Закончили?
– Да, хвала богам.
– Вопросы?
– Я даже не знаю, о чем спрашивать, – признаюсь я.
Кьяра смеется.
– Не волнуйтесь. Через какой-нибудь год вы вполне освоите язык итальянских бюрократов. Кстати, как у вас с Марко?
– Он само совершенство.
Кьяра широко улыбается:
– Это правда! Он очень серьезный – в смысле, очень серьезно относится к работе. Я спокойна за тех, кого к нему отправляю, они в надежных руках. А еще он всегда открыт людям. – Кьяра хмурит лоб. – Нет, я выразилась слишком по-итальянски. Наверное, лучше сказать «всегда готов помочь», но Марко – это больше, чем «помочь». Мы таких людей называем disponibile[21].
– Я понимаю, что вы имеете в виду.
Я не кривлю душой. У Марко день расписан по минутам, но он всегда умудряется выкроить время, чтобы связаться со мной, перезвонить, втиснуть встречу в расписание. Сердцебиение чуть ускоряется, и мне ужасно хочется спросить Кьяру, вправду ли Марко настолько открыт людям. Смешно, конечно, – я же только что рассталась с Дунканом. Мне нравится быть одинокой и свободной, нравится делать что захочу, есть когда захочу и ни о ком больше не думать. Тоже мне перспектива – сходить с ума по мужчине, который любезен со мной, потому что это его работа.
– Профессионал высокого класса, – говорю я.
– Это верно. А еще он очень доброжелательный. – Кьяра снова смеется. – Мне кажется, в него влюбляются все его клиенты.
Ну вот. Смешно.
– Спасибо, что отправили меня к нему. От меня сегодня еще что-нибудь требуется?
– Нет, но я вам отдаю вот это. – Достав из ящика стола белый конверт, Кьяра вручает его мне. – Это ваш зарегистрированный договор. Храните как зеницу ока, он вам понадобится в Anagrafe.
– Спасибо. – Я сую конверт в сумку.
– Не за что. И еще. Я помню, что уже это говорила, но если вам что-нибудь будет нужно – звоните. Я это говорю всем своим английским клиентам, они никогда мне не верят, но с моей стороны это не просто вежливость. Здесь так принято. Договорились?
– Договорились.
Мы прощаемся. Я спускаюсь по лестнице и выхожу под полуденное солнце.
Офис Кьяры располагается на северном берегу реки, на виа деи Серральи, в квартале Олтрарно. Когда бабушка впервые привезла меня сюда, мне только-только исполнилось одиннадцать; на улицах тогда были в основном старомодные магазины, маленькие бары и ресторанчики. Мы устраивались в каком-нибудь баре, я сидела рядом с бабушкой и пила горьковато-сладкий сицилийский оранжад, а бабушка болтала с людьми, которые один за другим подходили к ней, целовали и обнимали ее и, восторженно поахав надо мной, уходили. Я никогда не понимала до конца, о чем они говорят. Язык я учила быстро, спасибо бабушке, но чтобы понять толпу итальянцев, у которых рот не закрывался, моих знаний не хватало.
Ну что мне стоило учиться прилежнее! Что мне стоило вслушиваться, а не позволять итальянской речи стекать с меня, пока я гадаю, куда мы пойдем есть мороженое. А когда я подросла и меня стало можно на часок предоставить самой себе, бабушка оставляла меня побродить по магазинам возле Понте Веккьо, а сама отправлялась повидаться с друзьями. Мы бывали во Флоренции каждый год; помню, как мне льстило, что со мной обращаются как со взрослой, помню, как наслаждалась очередным кусочком доставшейся мне свободы. Но та часть бабушкиной жизни – места, в которые она возвращалась каждый год, люди, которых она, вероятно, любила, – закрылась для меня раз и навсегда. А теперь я потеряла бабушку, и дыра внутри все ширилась и ширилась.
Я иду к реке по длинной узкой улице, внимательно глядя по сторонам – вдруг увижу что-нибудь знакомое? Здесь еще сохранилось несколько старых витрин, но теперь они перемешаны с тату-салонами, коктейльными барами и модными ресторанами с выставленными напоказ водопроводными трубами и абстрактной живописью на стенах. Ничто на первый взгляд не напоминает бабушкин бар. Может, я неправильно запомнила? Может, он вообще не на виа деи Серральи? Солнце печет в макушку, я проголодалась, а ведь я и забыла, когда в последний раз бывала такой голодной. Какое чудесное чувство. Как зародыш меня прежней – той девочки, которая обожала пасту и могла пересечь всю Флоренцию, если на другом конце города водилось по-настоящему вкусное фисташковое джелато.
Справа траттория, входная дверь открыта прямо в маленький зал. Простые деревянные столы, на белых стенах там и сям развешаны черно-белые фотографии. В зале людно, наплыв едоков – наверное, подошло время обеда. Я медлю, высматривая свободные места, и тут хозяин – я решила, что это хозяин, – встречается со мной глазами.
– Buongiorno, signora.
– Buongiorno. У вас есть столик на одного?
– Certo. – Хозяин указывает на столик, притаившийся у двери. Я его и не заметила. – Присаживайтесь, я принесу вам меню. Хотите воды?
– Без газа, пожалуйста.
– Сейчас принесу.
Едва я успеваю устроиться, как он возвращается с бутылкой воды и меню – обычным листом бумаги с написанным от руки коротким перечнем блюд. Я заказываю брускетту, спагетти карбонара и бокал домашнего красного, после чего достаю планшет и начинаю печатать. После звонка Риченды я заставляю себя давать письменный отчет обо всем, что со мной происходит, не откладывая в долгий ящик. Иными словами, записывать все, что я делаю. Опилки, но этих опилок у меня набралось уже на четыре тысячи слов. Чем больше я буду записывать, тем больше наберу материала, который смогу превратить во что-нибудь, что не стыдно будет отправить Риченде. Во всяком случае, рассуждаю я именно так.
Я успеваю написать примерно страницу, когда на тарелке, сбрызнутой полупрозрачным зеленоватым маслом, приносят брускетту. Брускетта изумительна: крупно порезанные, гладкие, ярко-красные помидоры на двух кусках хрустящего ноздреватого хлеба, в котором пор больше, чем собственно хлеба. Я пытаюсь откусить от одной половины, но хлеб разламывается, и помидоры сыплются во все стороны. Запихивая остатки в рот, я понимаю, сколь недостойно это выглядит, но мне все равно, потому что помидор свежий, масло острое, а я во Флоренции; стоит прекрасный солнечный день, и я – писательница. Я отпиваю терпкого, насыщенного танинами вина и проглатываю второй кусок брускетты.
Виа деи Сарральи заполняется людьми, спешащими на обед. Я смотрю, как мимо меня проходят, поодиночке или взявшись за руки, юные хипстеры с парными татуировками до плеча и офисный люд в костюмах, а вот модные туристки в кремовых рубашках, широких укороченных брюках, губы накрашены красной помадой, огромные солнечные очки (крик сезона) – их различишь невооруженным глазом. А потом, когда передо мной ставят тарелку с пастой, я замечаю на другой стороне улицы их обоих. Марко в темно-синем костюме, пиджак закинут на плечо, рядом Кьяра. Держит его под руку, смотрит на него, они о чем-то увлеченно беседуют.
Почему бы им не беседовать? Они, наверное, знакомы не один год, и знакомы близко, Кьяра явно обожает его. Почему бы им не быть вместе? К тому же это меня не касается. Я клиентка, а очень скоро и клиенткой быть перестану. Чем Марко занимается в свободное время, меня никак, абсолютно никак не касается.
– Signora?
Я, наверное, ненадолго отключилась. В глубокой тарелке остывает карбонара. У стола с озабоченным видом стоит хозяин ресторанчика.
– Что такое? Не вкусно? Что-то не так? Если хотите, я приготовлю вам что-нибудь другое.
– Нет-нет. – Весь мой итальянский куда-то испарился. – Я только… я не… мне не очень…
Глаза хозяина тревожно округляются:
– Вы заболели?
– Нет, не заболела. Не беспокойтесь, паста очень вкусная, и есть хочется, только… – Боже мой, что за детский лепет. – Я кое-что увидела, – выговариваю я наконец, чувствуя себя идиоткой, ну увидела и увидела, не стоит так расстраиваться, но вот пожалуйста – расстроилась. – Кое-кого. Мне… мне сейчас нелегко. Извините.
Хозяин кивает и кладет руку мне на плечо. От этого доброго жеста глаза у меня чуть затуманиваются, хотя я не плакала уже целых два дня.
– Не волнуйтесь. Посидите спокойно. Как будете готовы, я принесу вам что-нибудь другое. Остывшую карбонару есть невкусно.
Он легонько сжимает мне плечо и уносит тарелку с нетронутой пастой. Я делаю четыре глубоких вдоха, одним духом осушаю бокал и открываю ноутбук. Если я испытываю иррациональные чувства, то пусть от них хоть литературная польза будет. Я начинаю печатать, появившаяся официантка подливает мне в бокал вина.
Как же я люблю Италию.
9
Тори
Дункановы предки-кальвинисты были правы: работа действительно душеполезна. Не зря я теперь только и делаю, что работаю. До дедлайна, назначенного Ричендой, три дня, и я сумела написать почти девять тысяч слов. Написанное еще править да править, но это все же не совсем дичь. Честно признаться, меня начинает это радовать. Я решила писать о бабушке – о наших отношениях, о поездках во Флоренцию, о том, что я чувствую во Флоренции, в которой больше нет бабушки, и о попытках начать все заново. В конце концов, Риченда сказала, что я должна предложить читателям свою историю, – так вот она, история.
Я завела привычку переходить на другой берег реки и сидеть после обеда в другом кафе «Дитта Артиджинале» – в том, что на виа делло Спроне. Главный плюс этого заведения – чай, поскольку много кофе я выпить не могу. Еще там есть окно-витрина, выходящее на узкую улочку, а возле окна – барная стойка и высокие стулья, так что можно работать и разглядывать людей. Сегодня я сижу здесь с половины третьего. К пяти часам я написала… у-у. Триста слов. Не лучший день. Бо́льшую часть времени я пыталась вспомнить бар на виа деи Серральи – тот самый, куда бабушка ходила без меня. Может быть, поэтому он и кажется мне важнее других мест, связанных для меня с бабушкой. Но воспоминания рассеянны и запутанны, и я не могу извлечь из них ничего осмысленного.
Жужжит телефон. Чарли прислала фотографию своего старого песика Хомски. Он развалился в кресле, наряженный в футболочку с надписью «СДЕЛАНО В ДАГЕНХЭМЕ»[22]. «Класс!» – отвечаю я, щелкаю свой чайник на фоне уличного пейзажа и отправляю сестре. Тут же телефон жужжит снова. Марко.
«Ciao, come va?[23] Связались с аудитором?».
«Да, спасибо, – отвечаю я. – Вчера ходила. Он такой серьезный! Я там четыре часа просидела».
«Отлично. Поверьте мне, серьезный аудитор – это в ваших интересах. А в остальном как?»
