Тайные безумцы Российской империи XVIII века
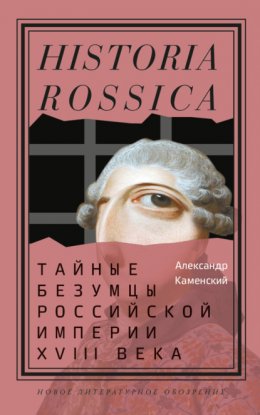
УДК 616.89(091)(47+57)«17»
ББК 56.14г(2)
К18
Редакционная коллегия серии
HISTORIA ROSSICA
С. Абашин, Е. Анисимов, О. Будницкий, А. Зорин, А. Каменский, Б. Колоницкий, А. Миллер, Е. Правилова, Ю. Слёзкин, Р. Уортман
Редактор серии И. Мартынюк
Александр Каменский
Тайные безумцы Российской империи XVIII века / Александр Каменский. – М.: Новое литературное обозрение, 2024. – (Серия «Historia Rossica»).
В последние десятилетия в социальных и гуманитарных науках уделяется немалое внимание феномену безумия. Тем не менее крупных работ, посвященных этой теме в контексте истории России Нового времени, до сих пор практически не было. Книга Александра Каменского – одно из первых исследований, восполняющих этот существенный пробел. Монография построена на материале комплекса документов органов политического сыска в Российской империи – Преображенского приказа, Канцелярии тайных и розыскных дел и ее преемницы – Тайной экспедиции Правительствующего сената. Автор показывает, как на протяжении XVIII века менялось отношение к психическим заболеваниям, пересматривалась их трактовка, формировались практики обращения с душевнобольными. В фокусе внимания историка – причины психических заболеваний, формы их проявления и отражение исторических событий в сознании душевнобольных. Изучение следственных дел более трехсот мужчин и женщин – представителей разных социальных слоев, совершивших на протяжении столетия правонарушения политического характера, позволяет автору уточнить и скорректировать ряд устоявшихся в историографии положений о работе государственных институтов и их отношении к безумию, а также выявить особенности российских практик в сравнении с принятыми в других странах того времени. Александр Каменский – доктор исторических наук, профессор НИУ ВШЭ.
ISBN 978-5-4448-2477-1
© А. Каменский, 2024
© Д. Черногаев, дизайн обложки, 2024
© ООО «Новое литературное обозрение», 2024
Введение
С легкой руки Мишеля Фуко история безумия стала в последние десятилетия одним из предметных полей исторической науки, произведя на свет множество исследований на материале разных стран и эпох1. Впрочем, и до появления на свет в 1961 году книги Фуко «История безумия в классическую эпоху» умалишенные не были уж вовсе обойдены вниманием историков – тех, кто изучал соответствующие статьи законов и их практическое применение государственными институтами и церковью. Во второй половине ХX века в поле зрения исследователей появилось понятие «меланхолия», с которым, по крайней мере, начиная со Средневековья в Европе связывали проявления безумия, хотя посвященные этой теме работы концентрировались преимущественно на интеллектуальных и литературных коннотациях этого понятия2. Естественно, относящиеся к истории безумия сюжеты присутствовали и в многочисленных исследованиях по истории психиатрии. Предметом изучения отечественных историков еще с дореволюционного времени стал феномен юродства, связанный с особенностями русского религиозного сознания и отражающий восприятие безумства. Упоминаются сумасшедшие и в работах по истории политического сыска в России XVII–XVIII веков. Так, к примеру, им посвящено несколько страниц монографии Е. В. Анисимова3. Имена некоторых из тех, о ком пойдет речь в этой книге, встречаются также в работах по истории самозванчества4.
Книга Фуко (на русском языке впервые вышла в 1997 году) как бы соединила эти разрозненные сюжеты в единое предметное поле с его социальным и культурным контекстом. Она же определила и новую исследовательскую оптику, акцентирующую внимание на восприятии безумства как инаковости по отношению к норме и изучении изоляции умалишенных – в исправительных домах, лечебницах или монастырях, как проявления властного насилия, одной из форм социального дисциплинирования, характерного для Нового времени.
Пока идеи Фуко добирались до России, их успели проанализировать, развить, раскритиковать и отчасти опровергнуть. Но и после появления книги Фуко на русском языке крупных монографических работ по истории безумия в России и, в частности, в раннее Новое время не появилось. Одной из наиболее серьезных работ последних десятилетий является исследование Л. В. Янгуловой «Институционализация психиатрии в России: генеалогия практик освидетельствования и испытания „безумия“ (конец XVII – XIX в.)», защищенное в качестве диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук в 2004 году. Основанная в том числе на новых архивных источниках и методологии Фуко (не случайно ключевое слово в названии работы – «генеалогия»), эта работа содержит основные сведения о практиках определения безумия и обращения с умалишенными, но в фокусе внимания автора прежде всего находится становление науки психиатрии, а поскольку происходило это преимущественно в XIX веке, более раннему времени внимания уделено не так много. В 2007 году был издан сборник статей «Сумасшествие и сумасшедший в русской культуре», но в предисловии к нему оговорено, что его авторы «в основном сосредоточены на социальных проявлениях сумасшествия в культуре России эпохи модерна и не углубляются в период Средневековья, а также не исследуют представления о сумасшествии в контексте православной церкви»5. Тема сумасшествия в XVIII веке затрагивается лишь в открывающей сборник статье И. Виницкого, посвященной трактовке меланхолии Екатериной II и использованию ею этого понятия в контексте идеологии ее царствования6. Интересующая нас проблематика затрагивается также в ряде появившихся в последние годы работ историков и историков-правоведов о месте и роли церкви в пенитенциарной системе России Нового времени, причем особое внимание в них уделено роли монастырей7. Попытка рассмотрения этой же проблематики в социально-культурном контексте предпринята авторами вышедшего в 2023 году сборника статей «Монастырь и тюрьма»8. Довольно подробный очерк того, как власти решали судьбу сумасшедших в XVII–XVIII веках, но без отсылок к Фуко, представлен в статье С. О. Шаляпина и А. А. Плотникова 2018 года, причем в части, посвященной первому из этих столетий, использованы новые архивные документы9. Наконец, в 2019 году темы безумства, меланхолии и монастырского заточения соединились в публикации Е. Махотиной, посвященной XVIII столетию и основанной на документах РГАДА и РГИА10.
Отсутствие полноценного исследования истории безумия в России раннего Нового времени отчасти объясняется состоянием источниковой базы. Зарубежным исследователям, изучающим историю безумия в Европе и Северной Америке XVII–XVIII веков, доступны разнообразные описания заведений, в которых содержались сумасшедшие, и даже записи, которые вели практикующие в них медики. У историков, занимающихся историей безумия в России второй половины XIX – начала ХX века, также есть шанс обнаружить документы соответствующих медицинских учреждений и даже опубликованные отчеты психиатрических больниц11, но для более раннего периода такие материалы отсутствуют. Исследователи вынуждены обращаться к документам церковных учреждений и судебно-следственных органов, причем наиболее богатыми в этом отношении оказываются архивные фонды органов политического сыска, использованные и в названных работах. В этих работах содержатся основные сведения о том, как определяли безумие, о законодательном регулировании статуса безумных и практиках обращения с ними. В соответствии с целями, которые ставили перед собой авторы, они иллюстрировали свои тезисы наиболее яркими примерами, найденными в документах Синода и различных архивных фондах. Однако разрозненные примеры, как представляется, не создают целостной картины, в связи с чем в настоящем исследовании избран иной подход. В его основе комплекс документов органов политического сыска, которые с начала XVIII века и до конца столетия решили судьбу более трехсот признанных безумными лиц: Преображенского приказа, Канцелярии тайных и розыскных дел и ее преемницы – Тайной экспедиции Правительствующего сената. Некоторые из этих документов уже попадали в поле зрения исследователей, и некоторые из тех, о ком пойдет речь на страницах книги, упоминаются в вышеназванных работах. Однако попыток проанализировать в целом весь комплекс находящихся в этих фондах дел о душевнобольных до сих пор не предпринималось. Избранный подход, как представляется, позволяет более последовательно проследить, как менялось отношение власти к феномену безумия, его трактовки и восприятия и, соответственно, изменения в практиках обращения с умалишенными. Изучение же материалов именно этого документального комплекса представляется оправданным, во-первых, потому что для XVIII столетия этот комплекс по-своему уникален: никакого иного единого комплекса документов, по которому можно было бы реконструировать отношение к безумству, не существует. Во-вторых, эти документы особенно показательны, поскольку в данном случае власть сталкивалась не просто с необходимостью изоляции душевнобольных ради сохранения социального порядка, но с особой категорией безумцев – лицами, подозреваемыми в совершении преступлений политического характера, то есть теми, кого наиболее последовательно выявляли, преследовали и в соответствии с законодательством того времени подвергали самому суровому наказанию.
На первый взгляд, принятый в данном исследовании подход позволяет реконструировать лишь, по выражению французской исследовательницы Л. Мюрат, «политическую историю безумия», но поскольку принимаемые в Тайной канцелярии и Тайной экспедиции решения (в особенности в екатерининское время) контролировались непосредственно верховной властью, можно предположить, что они служили образцом для принятия соответствующих решений и на других этажах государственного аппарата, где власть сталкивалась с душевнобольными, представлявшими угрозу не столько государственной безопасности, сколько окружающим либо совершавшими уголовные преступления12.
Избранный подход дает также возможность проверить некоторые существующие в литературе утверждения, основанные на сложившейся в историографии интерпретации деятельности органов политического сыска. Так, к примеру, работавший с теми же материалами Е. В. Анисимов утверждает, что «умалишенные – участники политических процессов считались правоспособными, и, соответственно, они отвечали за свои слова и действия по законам», «неправомочными в делах признавались лишь те из больных <…> чьих речей невозможно было понять, а их бессвязные показания нельзя было нанести на бумагу». «Показания сумасшедших, – считает историк, – признавались политическим сыском как имеющие полную юридическую силу». При этом «факт сумасшествия устанавливался не медицинским, а розыскным путем»13. Эти утверждения, как будет показано ниже, требуют определенной корректировки, причем Анисимов приводит несколько примеров применения к подследственным сумасшедшим пыток и иных форм физического воздействия, не оговаривая специально, что все эти случаи имели место в первой половине столетия.
Особенностью делопроизводства Тайной канцелярии и Тайной экспедиции было то, что выносимые ими в отношении безумных приговоры за некоторыми исключениями не содержали обязательные для того времени ссылки на законодательство, фигурирующие в приговорах по иным уголовным и политическим преступлениям. Собственно, ссылаться было и не на что, поскольку российское законодательство того времени почти никак не оговаривало правовой статус душевнобольных. Решения принимались преимущественно на основе сложившейся практики, и зачастую, в особенности во второй половине столетия, они включали не подкрепленную такого рода ссылками развернутую мотивировочную часть, позволяющую реконструировать логику рассуждений принимавших решения чиновников. Также изученные архивные дела включают переписку между различными инстанциями и дают возможность выявить отношение к феномену безумства чиновников разного уровня, причем письма и распоряжения, посылаемые из центра на места, служили непосредственным каналом трансляции формируемых верховной властью норм восприятия безумия и обращения с людьми, страдавшими психическими заболеваниями. В качестве обвиняемых органы политического сыска допрашивали представителей практически всех социальных групп – жителей разных регионов империи, мужчин и женщин, российских подданных и иностранцев. Зачастую они довольно подробно живописали следователям обстоятельства своей жизни, свои ощущения, устремления и мотивы своих поступков, что, наряду с описанием проявлений безумия, позволяет воссоздать его социальные аспекты, а зачастую и выдвинуть предположения относительно причин возникновения психических заболеваний.
Таким образом, для положенных в основу настоящего исследования архивных документов, как и в целом для судебно-следственных документов XVIII века как исторических источников характерна многоаспектность содержащейся в них информации, выходящая далеко за рамки только лишь проблематики безумия. Подчас показания подследственных дают возможность не только реконструировать их биографии, но и почерпнуть интересные сведения о быте и повседневности людей этой эпохи, о социальных и родственных связях, характере взаимоотношений между людьми, а подчас и уникальные данные об известных исторических личностях, их поведении, образе мыслей. Иногда в этих показаниях можно даже расслышать живую речь людей XVIII века. В отличие от иных судебно-следственных документов, применительно к которым анализ показаний подследственных обусловлен определенными ограничениями, поскольку подследственные отвечали на конкретные вопросы, в делах безумцев мы зачастую встречаем развернутый рассказ. Следователи главного органа политического сыска нередко давали человеку, в чьем душевном здоровье они сомневались, выговориться, наблюдая за его поведением и фиксируя то, что им казалось признаками сумасшествия. Случалось, что подследственный, напротив, отказывался говорить, но выражал готовность изложить свой рассказ в письменном виде. Как правило, его просьба удовлетворялась, и в этом случае исследователь получает доступ к рассказу, не отредактированному каким-либо канцелярским чиновником и не ограниченному рамкой задаваемых вопросов. Естественно, это не снимает вопрос достоверности такого рода рассказов. И тут проблема не столько в том, что всякий подследственный стремился оправдаться, сколько в необходимости отделить вымысел, фантазии больного человека от реальности. Понятно, что, когда в показаниях мы читаем о родстве с царской фамилией, о «голосах» и видениях, мы имеем дело с проявлениями болезни, но, когда речь идет о деталях биографии, встречах и разговорах с реально существовавшими людьми (а такие рассказы зачастую содержат малозначительные для рассказчика, но важные для историка детали), то есть основания полагать, что эта информация вполне достоверна. При этом, несколько забегая вперед, отмечу, что, судя по изученным документам, однажды признав подследственного сумасшедшим, следователи зачастую игнорировали его показания полностью, даже если те содержали сведения о подозрительном с политической точки зрения поведении третьих лиц, считая эти рассказы вымыслом и не утруждая себя их проверкой. С одной стороны, это определенным образом характеризует восприятие безумия, с другой, означает, что обвиняемый, признанный сумасшедшим, освобождался от ответственности не только за собственные политически неблаговидные проступки, но и за подлежащий наказанию ложный донос. Наконец, обращение к материалам политического сыска видится оправданным и потому, что попадавшие туда душевнобольные в своих нездоровых фантазиях касались политических тем, хотя бы отчасти отражая отношение к ним тех, кто, будучи в здравом уме, предпочитал об этом помалкивать.
Приводимые в книге цитаты из использованных архивных документов даны в соответствии с правилами издания исторических источников XVIII века. Краткие сведения об упоминаемых в книге лицах содержатся в именном указателе.
Работа над книгой велась в рамках Программы фундаментальных исследований Национального исследовательского университета – Высшая школа экономики.
Глава 1
От Петра до Павла: монаршее и церковное попечение о сумасшедших
Царей должность есть (якоже и в учении отроческом в пятой заповеди положено) содержать подданных своих в безпечалии и промышлять им всякое лучшее наставление как к благочестию, так и к честному жительству.
Феофан Прокопович «Правда воли монаршей»
6 апреля 1722 года император Петр Великий, который, как известно, никакие сферы жизни своих подданных не оставлял без монаршего внимания, издал указ «О свидетельствовании дураков в Сенате». На сей раз внимание царя привлекло то обстоятельство, что одни имели обыкновение завещать свое имущество нездоровым наследникам, а другие выдавали за таких же безумцев замуж своих дочерей. Между тем от них, считал государь, «доброго наследия к государственной пользе надеяться не можно, к тому ж и, оное имение получа, беспутно расточают, а подданных бьют и мучат, и смертные убийства чинят и недвижимое в пустоту приводят». Отныне безумных родственников надлежало представлять в Правительствующий сенат на освидетельствование. При установлении же высшим правительственным учреждением империи у кого-либо факта сумасшествия («которые ни в науку, ни в службу не годились, и впредь не годятся») таковому следовало запретить вступать в брак, а также наследовать недвижимость14. Судя по тому, что через полтора с лишним года эту законодательную норму пришлось корректировать, ретивые чиновники восприняли царскую волю слишком буквально: 6 декабря 1723 года Петр распорядился не отбирать имение у «дураков», уже успевших жениться и обзавестись детьми15.
До появления указа 1722 года никакого законодательного акта, регламентировавшего статус душевнобольных, в российском праве не существовало, так что и здесь Петр I проявил себя как новатор. Стоит, однако, заметить, что по сравнению с восходившим к римскому праву европейским законодательством, которое еще в эпоху Средневековья не признавало браков с сумасшедшими и лишало их владельческих прав, петровский указ был довольно либеральным. Между тем его трактовка исследователями соответствует сложившейся в историографии характеристике петровского законодательства в целом, как проникнутого духом рациональности и заботой о государственной пользе. Так, по мнению Л. В. Янгуловой, «в обществе с четко артикулированной властью, основным принципом жизни которого провозглашалась рациональность, основанная на производстве и собственности, безумие было непростительным грехом не столько потому, что это было плохо, сколько потому, что это было непродуктивно, не приносило никакой пользы»16. Ей вторит Е. В. Федосова, полагающая, что «меры в отношении душевнобольных, в своей прерогативе, были направлены на защиту государственных интересов»17.
То, что император никогда не забывал о государственном интересе – в том числе и о том, чтобы у подданных рождалось способное к государственной службе здоровое потомство, – сомнений не вызывает, но нельзя не признать, что на сей раз он проявил заботу и о благосостоянии подданных. Примечательно, что Петр, полагая, что у сумасшедшего не может быть здорового потомства, то есть безумие передается по наследству, очевидно, рассматривал его не как грех или происки дьявола, а именно как болезнь, превращающую несчастного в неполноценного члена общества. Однако при этом диагностирование болезни, как можно было бы подумать, поручалось не медикам, а чиновникам. Так, к примеру, М. Б. Велижев пишет, что «даже после введения в 1815 году точной процедуры медицинского освидетельствования окончательное решение по делу (как и прежде, со времен петровского указа 1722 года „Об освидетельствовании дураков в Сенате“) принимал Сенат, инстанция, не имевшая прямого отношения к врачеванию»18. Однако в действительности дело обстояло не совсем так. Сенаторы, читавшие царские указы иначе, чем современные исследователи, понимали, что им надлежит выносить решения на основании медицинского освидетельствования, которое они должны организовать. Так, к примеру, 14 августа 1733 года Анна Ивановна Волкова обратилась в московскую контору Сената с просьбой освидетельствовать ее сына Бориса, бывшего переводчика Коллегии иностранных дел, «по которому челобитью по определению Правительствующаго сената канторы того ж августа оной Борис Волков доктором Шмитом, да штап-лекарем Масом осматриван, а в осмотре показано, что он, Волков, в меленколии и весьма безумен, и у дел ему быть немочно, и вылечить ево невозможно»19.
Впрочем, к медицинскому освидетельствованию Сенат, видимо, прибегал не всегда, и зависело это от цели постановки диагноза. Упомянутый выше Волков к 1733 году находился в отставке, и его мать хотела, чтобы на основании освидетельствования его отправили в монастырь. Между тем петровский указ 1722 года имел, судя по всему, несколько иной посыл. На первый взгляд, как и многие другие петровские нововведения, он кажется не слишком продуманным. Если бы всех сумасшедших с бескрайних просторов России стали бы отправлять на освидетельствование в Сенат, вряд ли у сенаторов осталось бы время на решение каких-либо иных государственных задач, а у немногочисленных медиков на лечение других больных. В действительности же действие указа распространялось только на дворян, военных и государственных служащих, то есть тех, кто мог владеть недвижимостью и чьи дети, как и их отцы, были обязаны государству службой. Отсюда и возложение обязанностей на Сенат, который на основании освидетельствования мог лишить имения и санкционировать освобождение от службы. О том, что сенаторы поняли высочайший указ именно так, свидетельствует их реакция на уточняющий указ от 6 декабря 1723 года. В тот же день сенаторы решили: «Таких свидетельствовать таким образом: Сенату спрашивать их пред собою о всяком домовном состоянии (то есть об управлении имением. – А. К.), как бы можно умному человеку ответ в том учинить. И ежели по вопросу отповеди учинить не может, а станет инако о том говорить, то можно из того дурачество познать, а которые из таковых уже женаты и имеют детей, у тех деревень не отнимать»20.
Спустя более полувека, в 1776 году, генерал-прокурор Сената князь А. А. Вяземский, ссылаясь на петровский указ 1722 года и решение сенаторов 1723 года, с сожалением констатировал: «Ныне открывается, что многие умышленным образом представляют себя повредившимися в уме для собственных своих обстоятельств и для выгод родственников, которым достается имение, и в таковых случаях по одним вопросам всякой свободно может представить себя безумным»21. Генерал-прокурор предложил запросить Медицинскую коллегию о том, по каким признакам можно определить безумие, привлек к делу нескольких экспертов и послал соответствующий запрос в Юстиц-коллегию лифляндских, эстляндских и финляндских дел, которая, в свою очередь, переадресовала его рижскому магистрату. В ответ от медиков были получены пространные описания признаков безумия (см. приложение), а из Риги пришло сообщение о том, «что о свидетельстве там никакого такого учреждения нет», диагноз ставят врачи и что больного сперва пытаются вылечить, а если это не получается, отдают родственникам или помещают в местную богадельню. Было ли в результате принято какое-то решение, неизвестно, но суть указа 1722 года и его практическое применение таким образом становятся понятнее.
Между тем в отсутствие законодательного регулирования статуса психически больных ко времени появления петровских указов в России существовала уже сложившаяся практика обращения с безумными, которых, как правило, отправляли на излечение в монастыри22. Все исследователи вслед за Фуко справедливо отмечают, что изоляция в виде монастырского заключения (а помещение умалишенных в монастыри было общеевропейской практикой) мало чем отличалась от тюрьмы. Но, надо заметить, что в отсутствие иных мест для изоляции душевнобольных (первые проекты строительства доллгаузов появились в петровское время, но не были реализованы) у власти попросту не было альтернативы. К тому же психиатрическая наука еще только зарождалась, и считалось, что уединенная монастырская жизнь с ежедневными молитвами, регламентированным распорядком дня и однообразным трудом способствует исправлению ума, хотя, как мы увидим, уже в XVIII веке нередко перед тем, как отправить безумца в монастырь, его пытались лечить доступными медицинскими средствами.
Очевидно, что использование монастырей в роли доллгаузов не вызывало восторга у деятелей церкви, и, как справедливо отмечают С. О. Шаляпин и А. А. Плотников, «проблема необходимости и возможности заточения умалишенных преступников в православные монастыри в XVIII в. была одним из камней преткновения в отношениях между государственными органами и иерархами Синода, которых сложно было заподозрить в нелояльности к существующей власти, но которые, тем не менее, проявляли редкую настойчивость в попытках избавить монашеские обители от необходимости содержать „изумленных“ правонарушителей»23.
Трудно сказать, чего было больше в этой настойчивости – заботы о благочестии или стремления избавиться от лишних забот и, главное, лишних расходов, но тут на сцене вновь появляется Петр I. 5 сентября 1723 года он распорядился:
Сумасбродных и под видом изумления бываемых, каковые напредь сего аки бы для исцеления посылались в монастыри, таковых отныне в монастыри не посылать24.
Краткость и не вполне обычная для петровского законодательства лексика этого указа свидетельствует о том, что, скорее всего, он был принят спонтанно и без особой подготовки. Действительно, история этого указа по-своему уникальна. В «Полном собрании постановлений и распоряжений по ведомству православного исповедания Российской империи» сообщается, что указ стал известен «по словесному объявлению от членов того Синода» Феодосия Яновского, Феофана Прокоповича и Феофилакта Лопатинского, а принят был государем «будучи в саду Ея Величества»25. Можно предположить, что названные церковные иерархи, прогуливаясь с императором по саду, воспользовались его хорошим расположением духа и уговорили его принять данное решение. Однако биохроника Петра сообщает, что это была не просто прогулка на свежем воздухе, а голова царя вообще была в этот день занята совсем иными вещами. 5 сентября 1723 года пышно праздновалось тезоименитство царевны Елизаветы Петровны. Празднование началось торжественным молебном, затем была спущена на воду новая яхта, на которой пили вино, а позже многочисленные гости гуляли в саду, где Петр имел беседу с персидским послом. Все веселье закончилось лишь во втором часу ночи26. Возможно, между делом, чтобы просто отвязаться от назойливых священнослужителей, царь и обронил неосторожную фразу. Письменного указа, подписанного Петром, очевидно не существовало, и в Полное собрание законов этот указ попал именно в формулировке, устно сообщенной членами Синода.
Так или иначе, но относительно того, как теперь следует поступать с умалишенными, Петр никаких указаний не дал, и это не могло не породить проблему. Поначалу, по-видимому, практика отсылки безумных в монастыри сохранялась, поскольку, как отмечает Е. Махотина, в 1725 году Синод пытался установить порядок, согласно которому до отправки в монастырь необходимо было провести медицинское освидетельствование27. Мы не знаем, присутствовала ли супруга первого императора при разговоре в саду, но вскоре после смерти Петра I, уже в мае 1725 года, последовал сенатский указ «Об отсылке беснующихся в Святейший Синод для распределения их по монастырям»28. В указе упоминались два служащих Бутырского полка и имелась отсылка к резолюции Петра I на докладе генерала Г. П. Чернышова от 19 января 1723 года об определении в монастыри солдат, не способных больше продолжать службу29. Однако Синод, ссылаясь на указ от 5 сентября 1723 года, судя по всему, воспротивился этой практике, так как 15 марта 1727 года последовал именной указ Екатерины I, объявленный из Верховного тайного совета. В этом указе отношение к эпизоду 1723 года как к досадному недоразумению было выражено вполне ясно:
Понеже по указам блаженныя и вечно достойныя памяти Его Императорскаго Величества Нашего любезнейшаго супруга и Государя по делам Преображенской канцелярии которые люди мужеска полу и женска, престарелые и увечныя, являлись в важных винах, а другие изумленные, таковые посыланы престарелые за те вины, а изумленныя для исправления ума, в разные дальные монастыри и были содержаны по указам. А ныне донесено Нам, что таких явившихся для посылок в монастыри в Синоде не принимают, объявляя указ 723 года, которой записан в Синоде по словесному объявлению от членов того Синода. Того ради повелели Мы таковых виновных людей в монастыри принимать по-прежнему30.
Формулировка этого указа примечательна тем, что престарелые посылались в монастыри «за те вины», то есть в качестве наказания, а умалишенные «для» излечения. Указ 1727 года, как представляется, развязал руки руководителям политического сыска, но в соответствующих архивных фондах нет ни одного дела о безумцах, начатого в 1724–1731 годах. Возможно, эти дела не сохранились, но не исключено, что глава Тайной канцелярии А. И. Ушаков и его подчиненные просто не хотели вступать в пререкания с церковными властями31.
Какие указы Петра имела в виду его супруга (или писавшие за нее указ 1727 года члены Верховного тайного совета), нам неизвестно и, скорее всего, не знала этого и она сама. Наиболее вероятно, что имелись в виду не нормативные акты, а распоряжения царя, касавшиеся конкретных лиц. Однако на несколько ближайших лет конфликт затух и разгорелся вновь уже в царствование Анны Иоанновны. В 1734 году Синод, вновь ссылаясь на указ 1723 года, отказался принять и отправить в монастырь присланного из Тайной канцелярии солдата Семеновского полка Герасима Суздальцева, который, лежа в госпитале по причине меланхолии, «поносил императрицу бранными словами». Из Синода Тайной канцелярии сообщили, что собираются обратиться к императрице, чтобы она подтвердила указ Петра. Это обращение, апеллирующее к трагическому происшествию с крестьянином Данилой Ширяевым, погибшим в «квасном котле» в Даниловом монастыре за пять дет до того, должно было доказать невозможность обеспечения монастырями надлежащего досмотра за сумасшедшими. Согласно дореволюционному историку П. В. Верховскому, обращение готовилось в Синоде в марте 1735 года, но не было подано, потому что Феофан Прокопович якобы «переговорил с Ушаковым и просил больше не присылать»32. Возможно, такой разговор действительно состоялся, однако глава Тайной канцелярии Андрей Иванович Ушаков вряд ли мог что-либо обещать Феофану, не обладая иными способами решения проблемы безумных политических преступников. 2 мая 1735 года Ушаков также подал соответствующее доношение на высочайшее имя. Суздальцев все это время продолжал сидеть под караулом, а в начале сентября снова обругал государыню. Вскоре секретарь Тайной канцелярии Н. Хрущов был вызван в Кабинет министров, где ему был объявлен именной указ от 6 сентября 1735 года33. Указ ссылался на доношение Тайной канцелярии о содержащихся в ней пяти безумных колодниках, каковых по указу 1727 года надлежало отправить в монастыри. Впредь следовало действовать таким же образом, причем Тайной канцелярии было предписано определять режим содержания, а монастырским властям рапортовать в случае излечения узника под воздействием благотворной атмосферы монастыря34.
Исполнение этого указа столкнулось с определенными техническими трудностями. В 1739 году Тайная канцелярия доносила Кабинету министров, что Синод снова отказывается отправлять присылаемых к нему сумасшедших в монастыри, ссылаясь на отсутствие необходимых финансовых ресурсов для их транспортировки, и спрашивала, как ей следует поступать. На этот запрос последовала резолюция Кабинета, согласно которой до составления штатов Синода канцелярии следовало использовать собственные ресурсы35.
Новый виток противостояния светских и церковных властей пришелся на начало царствования Елизаветы Петровны. Синод, вдохновленный указом императрицы от 12 декабря 1741 года, предписывавшим во всем руководствоваться законодательством ее отца, попытался было добиться отмены указов 1727 и 1735 годов, но Елизавета, велевшая Сенату пересмотреть все послепетровское законодательство и еще не получившая от него соответствующий доклад, на эти попытки никак не отреагировала. В 1743 году митрополит ростовский и ярославский Арсений Мацеевич, который через двадцать с небольшим лет сам попал в Тайную экспедицию, отказался принять в один из монастырей своей епархии признанного сумасшедшим ярославского посадского Ивана Крылова. В своем эмоциональном послании Синоду и Тайной канцелярии митрополит утверждал:
Монастыри устроены и снабдены награждением для пребывания богоугодного честных и беспорочных и не подозрительных лиц, вечного спасения желающих и отдавших совсем себе и посвятивших всю жизнь свою на службу богу, и суть потому места святыя и освященныя на всегдашную службу богу, а не для содержания сумазбродов, воров и смертных убийц колодников.
На это послание из Тайной канцелярии последовала суровая отповедь, в которой указывалось, что воров и убийц в монастыри не посылают, «и того ради его преосвященству во всяких случаемых с коллегиями, канцеляриями и канторами делах, корешпонденции иметь самым настоящим порядком, не примешивая того, чего в делах не обретается, но как государственныя правы и Ея Императорскаго Величества указы повелевают без всякого нарушения»36. Однако если в Тайной канцелярии полагали, что поставили строптивого митрополита на место, то ошибались. Уже в следующем году Арсений отказался принять в Спасо-Преображенский монастырь в Ярославле местного посадского Федора Юрьева, которого московская контора Тайной канцелярии попыталась отправить туда напрямую, в обход Синода. То ли московские чиновники не знали о предшествующем столкновении их петербургских коллег с Арсением, а то ли попросту хотели выполнить просьбу тетки Юрьева, просившей определить его именно в этот монастырь. На сей раз митрополит не стал писать экспрессивных филиппик, но лишь заметил, что без указа Синода принять безумца не смеет и не может. В результате ярославец был определен в московский Спасо-Андроников монастырь, где и провел следующие два года37.
Между тем именно в эти годы Сенат, Синод и Тайная канцелярия совместными усилиями пытались урегулировать процедуру отправки сумасшедших в монастыри. 22 июля 1742 года Ушаков подал доношение в Сенат, в котором, сперва пересказав указы 1727 и 1735 годов, констатировал:
А ныне по силе оных же имянных указов таковыя посылающиеся ис Тайной канцелярии в Синод колодники не принимаются. А в указе Ея императорскаго величества Святейшаго Синода в Тайную канцелярию написано: в Святейшем, де, Синоде за отданием по синодальному дворцовому и казенному приказу доходов ведомство в Коллегию экономии денежной суммы, на каковой бы оным безумным и престарелым отсылку от Синода в монастыри чинить, не имеетца. И оная отправа тем престарелым и безумным была от той Тайной канцелярии, а о приеме их и о содержании и, буде кто похочет, и о пострижении из Синода в те монастыри, в которыя оныя в отсылку назначены будут, послушныя указы посланы будут. И за тем неприемом в Синод от Тайной канцелярии в розсылку оных колодников множитца, а которыя наперед сего от той канцелярии и сосланы, и за ими для караулу салдат имеетца немалое число, от чего в той канцелярии при караулах имеетца самая нужда, да и на провоз оных колодников прогонных и на корм у пути денег употреблять не ис чего, потому что на содержание той канцелярии канцелярских служителей и на всякия нужнейшия канцелярския росходы в присылке из Штатс-конторы сумма бывает самая малая, чем и оная канцелярия содержит себя с великою трудностию38.
Ушаков предложил все расходы возложить на Коллегию экономии, ей же поручить назначение отставных солдат для караула, а безумных кормить в монастырях за счет «убылой монашеской порции», то есть умерших монахов. Сенат оперативно отреагировал на это доношение, и уже 29 июля сенаторы приняли решение, удовлетворившее все пожелания главы Тайной канцелярии. 31 июля соответствующий указ был послан в Синод, Коллегию экономии и Тайную канцелярию. При этом право определять, в какой именно монастырь отсылать безумного преступника, было предоставлено чиновникам политического сыска.
Однако Синод с этим не согласился и 23 августа подал в Сенат «ведение», в котором возражал против передачи этой функции Тайной канцелярии, поскольку от этого…
…может монастырям быть немалая тягость, ибо, чтоб та Тайная канцелярия такое совершенное, сколько, где в монастыре имеется убылых монашеских порций, також и о состоянии коего ж до монастыря основательное могла иметь известие, Святейший Синод не уповает. И потому может оная означенную насылку чинить и в такие монастыри, где и единой убылой монашеской порции нет. Из сего не иное воспоследует точию единому пред другим излишняя тягость и не уравнение. К тому может и то статься, что тое ж насылку будет чинить не только в ближние от Москвы, но и в самые московские монастыри, как то уже и ныне есть, а по означенным имянным указом повелено таковых колодников посылать в разные дальные монастыри39.
На сей раз Сенат не спешил с решением. Один из документов Коллегии экономии начала 1743 года сообщает: «…таковых присылаемых ис Тайной канцелярии колодников отсылать Колегии экономии прямо в те монастыри, в которыя от оной канцелярии назначены будут»40. Однако в марте этого же года сенаторы все же обратили внимание на воззвание церковных иерархов и согласились с их доводами. Отныне Тайной канцелярии надлежало запрашивать Синод о том, в какой монастырь отправлять безумца, а затем передавать эти сведения Коллегии экономии.
Казалось бы, проблема решена, порядок установлен, но на следующий год дело запуталось еще сильнее. Указом от 15 июля 1744 года Коллегия экономии была передана в ведение Синода. В 1747 году туда из Тайной канцелярии был послан признанный сумасшедшим нижегородский посадский Григорий Дружинин, но Синод отослал его обратно по причине отсутствия средств и людей для препровождения Дружинина в определенный для его пребывания Соловецкий монастырь. В канцелярии, по-видимому, удивились и, ссылаясь на указ 1742 года и на то, что теперь «синодальная економическаго правления канцелярия имеетца быть в ведомстве Святейшаго Правительствующаго Синода», вновь отправили Дружинина в церковное ведомство, но вскоре опять получили его обратно на том основании, что Коллегия экономии передана в ведение Синода «с теми токмо расходы, каковые были и употреблялись при любезнейшем Ея Императорскаго Величества родителе Государе императоре Петре Великом, а по табельному, учрежденному при жизни Его Императорскаго Величества, окладу таковых на розсылку присылаемым из Тайной канцелярии колодникам по монастырям росходов не положено». В результате канцелярия сдалась и отправила Дружинина на Соловки за свой счет41. Стоит также заметить, что помещение безумных преступников в московские и близлежащие монастыри продолжалось. И не могло не продолжаться, хотя бы потому что московская контора Тайной канцелярии за назначением монастыря обращалась не непосредственно в Синод, а в московскую же синодальную контору и духовную консисторию, в ведении которых были только монастыри Московской епархии, воссозданной как раз в 1742 году и включавшей территорию в радиусе 125 верст от старой столицы. Насколько эти учреждения были осведомлены о возможностях подведомственных им монастырей, неизвестно.
В короткое царствование Петра III вновь возникла идея строительства доллгауза для безумных. Сенат затребовал у Академии наук сведения о том, как устроены подобные заведения в иных странах, и всесведущий академик Г. Ф. Миллер, который на тот момент являлся конференц-секретарем Академии, подготовил соответствующий проект. С этим проектом иногда связывают начало психиатрии в России, поскольку Миллер предложил поделить душевнобольных на четыре категории по видам заболевания и содержать их раздельно, а также настаивал на их лечении медицинскими средствами, полагая, что священники им помочь не могут42. Тогда же, в связи с ликвидацией Тайной канцелярии, был составлен «Статейной список, учиненной из дел о присылаемых из разных мест и приводимых в Тайную канцелярию, а в бытность оной в Санкт-Петербурге в Тайную кантору разных чинов людей, кои явились в уме поврежденными, и для содержания ко исправлению их в уме по силе имянного указу, состоявшагося в 735‑м году сентября 6 дня, по определению Тайной канцелярии и оной канторы розосланы в разные монастыри». Всего в списке оказались 33 человека, отправленные в монастыри в период с 1746‑го по начало 1762 года, причем около большинства имен имелись пометы о том, что канцелярия не располагает сведениями ни о выздоровлении, ни о том, жив этот человек или умер. Имена двух безумцев, отосланных в монастыри, в канцелярии не сохранились, и они обозначены как «неизвестные»43. По-видимому, список был представлен императору, но никаких распоряжений относительно означенных в нем лиц не последовало.
Доклад же Сената по вопросу о доллгаузах в начале августа 1762 года получила уже Екатерина II. Сенаторы, которым императрица поручила пересмотреть все законодательство покойного супруга, посоветовали его указ о строительстве доллгауза оставить в силе, но, поскольку на это требовались время и средства, определить для содержания безумцев какой-нибудь один монастырь, для чего запросить Синод44. В результате было решено выделить два монастыря в Московской и Новгородской губерниях, а для надзора за сумасшедшими использовать отставных военных45. Собственно, и распоряжение Петра III, в соответствии с которым был подготовлен доклад Сената46, и решение его супруги, чье детство прошло в Германии, свидетельствуют о том, что они оба знали, что в Европе душевнобольных помещают в специальные учреждения, и видели в российской практике своего рода анахронизм. В 1765 году А. Л. Шлецеру, находившемуся в это время в Германии, было дано указание осмотреть тамошние доллгаузы. Им был прислан подробный отчет, сводящийся к тому, что доллгаузы в германских городах находятся в ведении тамошних магистратов, устройство их непросто, но такая богатая страна, как Россия, конечно же, с этой задачей справится47.
Однако Екатерина II, по-видимому, еще не была готова к столь масштабному делу, и в 1766 году проблема политических безумцев была решена радикальным образом. 6 ноября этого года Синоду было объявлено высочайшее повеление, согласно которому местом содержания направляемых из Тайной экспедиции сумасшедших был определен суздальский Спасо-Евфимиев монастырь. Показательно при этом, что, хотя ответственность за соблюдение режима содержания в нем безумных преступников была возложена на настоятеля монастыря, общий надзор должны были осуществлять местные светские власти: соответствующая инструкция была направлена в Суздальскую провинциальную канцелярию. Согласно этой инструкции, именно канцелярия должна была обеспечивать охрану заключенных в монастыре безумцев, для чего туда были посланы «унтер-офицеры и шесть человек солдат» из городовой роты. Безумных велено было содержать «не скованных», запрещено было давать им опасные предметы и письменные принадлежности, а того, кто будет «сумазбродничать», следовало отделить от остальных и несколько дней не кормить48. Караульным предписывалось с заключенными «поступать без употребления строгости, а поелику они люди, в уме поврежденныя, то с ними и обращаться с возможною по человечеству умеренностию». Деньги на их содержание выделялись из Коллегии экономии в размере 9 рублей в год – сколько и на одного монаха49.
Таким образом, сам механизм помещения и содержания в монастырях подозревавшихся в политических преступлениях умалишенных был основан на взаимодействии государства и церкви, причем последняя играла в нем подчиненную роль и должна была следовать инструкциям и принципам, разработанным в кабинетах правительственных учреждений. Обращает на себя внимание и явно продиктованное идеями Просвещения указание содержать безумцев «не скованных». В парижском Бисетре оковы с умалишенных были сняты лишь в 1792 году стараниями основателя французской психиатрии Филиппа Пинеля, и это при том, что Бисетр был медицинским учреждением, а его обитатели обычными пациентами, а не политическими преступниками.
Новый этап в судьбах безумных преступников наступил в 1775 году, когда в соответствии со статьей 380 «Учреждения о губерниях» во всех губернских городах надлежало устроить «дома для сумасшедших» под началом создававшихся там приказов общественного призрения, в ведении которых должно было находиться все касающееся медицины и образования. При этом разъяснялось:
Приказу Общественнаго Призрения надлежит иметь попечение, чтоб дом избран был довольно пространный и кругом крепкий, чтоб утечки из него учинить не можно было. Таковой дом снабдить нужно пристойным, добросердечным, твердым и исправным надзирателем и нужным числом людей для смотрения, услужения и прокормления сумасшедших, к чему нанимать можно или из отставных солдат добрых и исправных, или же иных людей за добровольную плату, кои бы обходились с сумасшедшими человеколюбиво, но притом имели за ними крепкое и неослабное во всякое время смотрение, чтоб сумасшедший сам себе и никому вреда не учинил, и для того держать сумасшедших по состоянию сумасшествия, или каждаго особо заперта, или же в таком месте, где от него ни опасности, ни вреда учиниться не может, и приложить старание об их излечении. Сумасшедших неимущих принимают безденежно, а имущих имение принимают в дом не инако, как за годовую плату на содержание, присмотр и на приставников50.
Возложив обязанность заботиться о душевнобольных на местные органы власти, Екатерина действовала в соответствии с рекомендациями Шлецера, но не учитывала соображений Миллера: описание устройства сумасшедших домов не содержало никаких сведений о делении больных по категориям и, соответственно, касалось и «клиентов» Тайной экспедиции.
Процесс создания доллгаузов растянулся на многие годы. Первый появился в Новгороде уже в 1776 году, но лишь в 1780 году в Петербурге на берегу Фонтанки была открыта Обуховская больница, первое каменное строение которой было возведено в 1784‑м. В Москве для сумасшедших формально было выделено 26 коек в открытой в 1775 году Екатерининской больнице, но по факту коек было меньше, и сумасшедших помещали в инвалидный или смирительный дом. Так, к примеру, именно в инвалидный дом рекомендовал Тайной экспедиции поместить сошедшего с ума отставного секунд-майора Матвея Чурсина в 1791 году московский главнокомандующий князь А. А. Прозоровский51. Доллгауз же в Москве был построен лишь в начале XIX века. На местах дело обстояло не лучше. В 1784 году малороссийский генерал-губернатор П. А. Румянцев сообщал, что в Киевской губернии дом для сумасшедших еще не построен52. О том же в 1791 году рапортовал Владимирский губернатор И. А. Заборовский53. Поэтому и после 1775 года Тайная экспедиция продолжала отправлять провинившихся безумцев в Спасо-Евфимиев монастырь. Задержки со строительством на местах доллгаузов не остались без внимания правительства, и указом 1786 года Синоду было велено для содержания безумцев выбрать в каждой губернии по одному мужскому и женскому монастырю и передать их в ведение приказов общественного призрения. В том же году П. А. Румянцев писал генерал-прокурору Сената князю А. А. Вяземскому, что указом императрицы в Малороссии для заключения сумасшедших определен Максаковский монастырь в Новгород-Северской епархии54, но, в отличие от Спасо-Евфимиева, деньги на их содержание не выделены, в монастыре нет лекаря и караульных. Генерал-прокурор в ответном письме велел передать Максаковский монастырь в ведение, а, соответственно, и под финансовое обеспечение местного приказа общественного призрения, заметив по поводу Спасо-Евфимиева монастыря: «…посылаются иногда в сей монастырь сумасшедшия единственно только по известным Ея Императорскому Величеству обстоятельствам»55.
Десятью годами ранее, в 1776 году, в Спасо-Евфимиевом монастыре случилась неприятность – из монастыря сбежал помещенный туда за год до того отставной гвардии капрал Яков Леонтович, с обстоятельствами жизни которого нам еще предстоит познакомиться. Узнав об этом, Екатерина II распорядилась послать в монастырь ревизора, о миссии которого рассказывается во второй главе.
С точки зрения отношения к душевнобольным интересно, что в феврале 1762 года из Герольдмейстерской канцелярии посылали в монастыри чиновников для приема присяги Петру III, причем присягали не только монахи, но и содержавшиеся там безумцы, которые таким образом, как бы по умолчанию, признавались дееспособными56. Примерно в это же время в связи с ликвидацией Тайной канцелярии почти все дела сумасшедших были собраны в одно дело из 14 частей57 и была составлена уже упоминавшаяся ведомость ранее отправленных в монастыри, про которых на тот момент не имелось информации о выздоровлении58.
Между тем выигранное государством сражение за право отправлять безумных в монастыри не означало, что побежденный противник полностью сдался на милость победителя. Противостояние светских и церковных властей продолжалось, но уже на другом уровне. Согласно установленному порядку, монастырские власти, как уже было сказано, должны были докладывать Тайной канцелярии о случаях выздоровления находившихся на их попечении безумцев, и документы свидетельствуют, что подчас они пользовались этой возможностью, чтобы избавиться от лишней обузы. Так, в 1756 году из Савино-Сторожевского монастыря рапортовали о выздоровлении посланного туда тремя годами ранее подпрапорщика Саввы Петрова. Однако после освидетельствования в московской конторе Тайной канцелярии диагноз монахов не подтвердился, и чиновники с сожалением констатировали:
Оной архимандрит з братиею об оном Петрове, якобы он в совершенном уме имеетца, представляли, знатно, не хотя оного Петрова в том монастыре содержать и брацкой пищи ему употреблять, равно так, как напредь сего Угрешского монастыря от игумена о посланном к нему для такого ж содержания колоднике Дьячкове ложно представлено было59.
Впрочем, то, что до екатерининского времени пребывание в монастырских обителях безумцев для их властей действительно становилось дополнительным бременем, сомнений не вызывает. Тремя годами ранее Синод, прося освободить из нижегородского Печерского монастыря якобы вылечившегося подпоручика Ивана Каирева, прямо ссылался на необходимость его кормить и покупать для него дрова и свечи, из‑за чего монастырь терпел «немалую тягость и убыток»60. В 1754 году власти московского Спасо-Андроникова монастыря писали о невозможности содержать там ученика полотняной фабрики Варлама Ананьева «за пожарным временем и оскудением келей и хлеба». Так как сторожить Ананьева приходилось двум монастырским крестьянам, они несли убытки, «також, де, и государевых работах и податей денежных имеется великая остановка»61. В 1762 году московская духовная консистория обратилась в московскую контору Тайной канцелярии с сообщением, что в Николо-Угрешском монастыре нет средств для содержания отправленных туда безумцев. Однако финансовое обеспечение содержания в монастырях душевнобольных преступников в компетенцию Тайной канцелярии не входило, так что контора ответила лишь, что выздоравливающих надо выпустить, а остальных оставить на прежних условиях62.
Впрочем, в Тайной канцелярии тоже умели считать деньги. Когда в 1753 году после троекратных призывов из тульского Иоанно-Предтечева монастыря московская контора наконец согласилась освидетельствовать якобы выздоровевшего орловского купца Егора Красильникова и убедилась, что он по-прежнему не в своем уме, там констатировали:
…показанному архимандриту Аминадаву так неосмотрительно и несправедливо об оном Красильникове <…> в Тайную канцелярию представлять и тем излишнее в переписках Тайной канцелярии затруднения наносить, и в даче на прогоны казенным деньгам напрасно траты наносить весьма было не следовало63.
Летом того же 1753 года в Покровский монастырь на Нерли64 был отправлен крестьянин Дмитрий Михайлов, говоривший о себе «я, де, сам государь», поскольку «родная его мать, того ж села крестьянка Татьяна Яковлева, когда была жива, и тогда сказывала ему, Дмитрею, что она царского поколения». Уже в январе 1754 года из монастыря пришло сообщение о выздоровлении Дмитрия, в мае еще одно, а в июле монастырское начальство прислало уточнение:
Во оном нашем монастыре и кроме уже именованного весьма нужнаго колодника ныне имеется в присылке некоторые <…> а в том нашем монастыре имеется слуг только два человека, которые часто употребляются в посылки по монастырским потребам, а крестьян хотя имеется несколько душ человек, но и оные ныне все находятся в земледелании и в таковых нужных присмотрах и хранениях нам исправиться стало быть нуждно и невозможно.
Наученная горьким опытом московская контора эти призывы, однако, проигнорировала, и так продолжалось до начала 1756 года, когда руководство Владимирской епархии обратилось непосредственно к главе Тайной канцелярии А. И. Шувалову, который распорядился Михайлова немедленно освидетельствовать. Как, видимо, и предполагали в конторе, выяснилось, что крестьянин по-прежнему безумен, и его отправили обратно, но на сей раз потребовали от монахов объяснения. Настоятель Покровского монастыря иеромонах Фока оправдывался:
Что же он, Михайлов, ныне по свидетельству в Тайной канторе явился паки в прежнем ума своего не состоянии, и то разве он, Михайлов, такое безумие не налагает ли на себя каким притворным образом, или то временно на нем бывает, потому понеже, будучи он, Михайлов, во оном монастыре в содержании, по усмотрению и по спросам моим неоднолично, как из слов, так и с виду казался ума своего пришел во исправлении и никаковых непристойных слов от него произносимо не было65.
Настоятель монастыря, конечно же, не обладал необходимыми познаниями в психиатрии, а крестьянин, вероятно, не стал рассказывать ему о своем высоком происхождении. Другой помещичий крестьянин, Гаврила Семенов, был отправлен в монастырь летом 1765 года. В октябре оттуда сообщили, что он дважды пытался сбежать, а уже в январе 1766 года, что он совершенно излечился. Семенова доставили в Москву для освидетельствования, на котором он вновь сообщил, что ему было видение (см. приложение). Крестьянина отправили обратно. На следующий год монахи вновь сообщили о его выздоровлении, но на сей раз им не поверили, и А. А. Вяземский с сожалением констатировал, что «архимандрит об оном представляет, сколько видеть можно, сщитая того колодника в монастыре у него пребывание себе в тягость». Выяснять отношения с архимандритом, однако, не стали и перевели Семенова в Спасо-Евфимиев монастырь, благо к этому времени он уже стал основным местом содержания политических безумцев66.
Стремление монастырских властей избавиться от обузы было хорошо известно чиновникам политического сыска, неохотно реагировавшим на сообщения о выздоровлении сосланных. Такой расклад порождал подчас ситуации прямо противоположные. Так, в 1749 году в Тайную канцелярию явился бывший солдат Выборгского гарнизона Степан Маслов, бежавший из новгородского Юрьева монастыря, где он провел одиннадцать лет. В конце 1737 года он объявил за собой «слово и дело» и просил, чтобы «повелено было ему, Маслову, дать три полка, а он де Маслов у турецкого салтана Царьград возьмет». По словам беглеца, все это он сказал «в безумстве», а теперь совершенно излечился67. В 1755 году бывший контролер Астраханской портовой таможни Дмитрий Шерков, выдержавший всего год монастырского заключения, совершив побег, также явился в Тайную канцелярию и сообщил:
Прошлого 754‑го прислан я именованный был из Правительствующего Сената во оную Тайную канцелярию в беспамятстве, а особливо в помешательстве ума, где тогда ж по усмотрению той канцелярии отослан был для исправления ума в Звенигород в Савин-Сторожевской монастырь, а как в уме исправлюсь, тогда велено во оную канцелярию от того монастыря репортовать. Где я, будучи, по воле Божией в уме и исправился, о чем и от того монастыря, что я в совершенной ум пришел, многократно во оную Тайную канцелярию писано было, но точию на то указу и поныне не получено. Чего ради принужден я был сам ис того монастыря в прошедшем августе месяце отлучитца и явитца по команде во оную Тайную канцелярию для наилутчего усмотрения и определения паки в службу Ее Императорскаго Величества к статским делам.
И хотя во время расспроса в канцелярии Шерков «озирался по сторонам, яко изумленной, чего ради и руки ему приложить не дано», просьбу его удовлетворили и отправили для продолжения службы в Коммерц-коллегию68. Ранее, в 1741 году, два человека – солдат Степан Бодягин и бомбардир Иван Башилов – после года, проведенного в монастырях, первый – в Калязине, а второй – в Иосифо-Волоколамском, были отправлены обратно в свои полки для продолжения службы69. Два года понадобилось для выздоровления в Иверском монастыре кирасиру Ивану Жданову, который был сослан за то, что «в ыступлении ума» топтал ногами складни и грозился их сжечь, говоря «образам де молиться не буду, оне, де, сделаны от мужика, а я, де, знаю бога на небе»70. Майор Низового корпуса Сергей Владыкин, называвший в 1734 году себя «Петром III, и богом, и царем», а императрицу своей названной матерью и теткой и написавший несколько писем с упоминанием Шафирова и Балакирева, был по именному указу отправлен «в пристойной монастырь», но уже в 1736 году, после того как монахи и караульные в монастыре подтвердили его выздоровление, освобожден71. А вот солдата Петра Обрасцова, страдавшего в 1754 году религиозными видениями и заявлявшего, что «Ее Императорское Величество – змей и антихрист», после шести лет пребывания в Иосифо-Волоколамском монастыре, где, по мнению монастырского начальства, он полностью исцелился, после освидетельствования в Петербурге отправили обратно. Подобных случаев было немало. Так, в 1754 году освидетельствование прожившей три года в монастыре купеческой вдовы Елены Алексеевой показало, что она все еще не здорова, да и сама она выразила желание остаться в монастыре72.
Свидетельство Дмитрия Шеркова о том, что не только московская контора, но и сама Тайная канцелярия не всегда реагировали на донесения монастырей о выздоровлении содержавшихся в них безумцев, вполне правдиво. Так, Кирилло-Белозерский монастырь в 1756 году сообщал о выздоровлении отправленного туда четырьмя годами ранее жителя Киева Подольского Василия Андреева, но, судя по тому, что в 1758 году это сообщение было повторено вновь, канцелярия никак не отреагировала на первое послание73. Случалось, что Тайная канцелярия игнорировала и посылаемые с мест сигналы политического характера: в 1749 году Нарвская гарнизонная канцелярия доносила о местном жителе, безумном чухонце плотнике Фридрихе Бартельсоне, который произнес «слово и дело». Ответа из Петербурга не последовало, и следующие пять лет плотник провел под караулом в местном магистрате. В 1754 году оттуда пришла промемория, согласно которой Бартельсон подал доношение, утверждая, что здоров, и магистрат предлагал освободить его «для нынешней всеобщей радости перворожденнаго благовернаго государя великаго князя Павла Петровича». На сей раз канцелярия откликнулась, велела Бартельсона снова допросить и, если ничего важного не скажет, отпустить74. О деле упомянутого выше подпоручика Каирева Нижегородская губернская канцелярия писала в московскую контору Тайной канцелярии шесть раз, прежде чем та откликнулась.
Когда сорок с лишним лет спустя после того, как была решена судьбы плотника Бартельсона, «перворожденный» великий князь взошел на престол, в судьбах безумцев едва не наступил новый этап. Горевший желанием переделать все, что было сделано его покойной матушкой, новый император ровно через месяц после ее смерти, 6 декабря 1796 года, распорядился:
Разсмотреть причины всех в Тайной експедиции содержащихся в монастырях и других местах, а особливо тех, кои сосланы под названием сумасшедших. Сих привесть сюда не так, как арестантов, но с возможным облегчением, и осмотреть. Для таковых же, коих за болезнию и слабостию привесть сюда не можно будет, отправить довереннаго человека, которой бы их освидетельствовал на местах их. Вообще же разсмотреть все дела тех, которые должны остаться на своих местах, облегчить участь и приказать иметь за ними лучшее призрение75.
Прежний порядок коммуникации, когда генерал-прокурор Сената, в чьем подчинении находилась Тайная экспедиция, получал письменные распоряжения напрямую от императрицы, уже был разрушен, так что это повеление императора его секретарь И. В. Лопухин устно передал генерал-прокурору князю А. Б. Куракину, а тот вынужден был обратиться к Павлу за письменным указом. Однако пока шел обмен посланиями, государь, видимо, успел сообразить, что свозить в Петербург всех сумасшедших дело хлопотное и затратное. 8 декабря ему был представлен наскоро подготовленный реестр со сведениями о двадцати безумцах, содержавшихся в Спасо-Евфимиеве монастыре, восьми – в Соловецком, одном – в Тобольском, одном – в харьковском Покровском, четырех – в петербургском доме сумасшедших, трех – в московском смирительном доме (один из них значился умершим еще в 1793 году) и одном – в ярославском доме сумасшедших. Император велел освободить из московского смирительного дома отставного поручика Егора Хлопотова, а в Спасо-Евфимиев монастырь послать чиновника с проверкой. На помету против имени верейского купца Михаила Матюшина о его смерти в 1793 году император, видимо, внимания не обратил и велел привезти его в Петербург, поскольку тот хвалил его батюшку, Петра III, говоря, что «бывшаго императора Петра Третьяго потому он (М. Матюшин. – А. К.) любит, что он велел все домовыя церкви сломать и зделать одну церковь, ибо общее всенародное моление всевышнему более приятно, нежели домашнее, потому что у нас одна церковь от Бога установлена, а для того и в священном писании сказано: что воздадите в тайне, то воздастся вам яве, а в домовых церквах всякая нечистота бывает»76.
Съездивший в Спасо-Евфимиев монастырь коллежский советник Александр Семенович Макаров по возвращении кратко рапортовал, что сумасшедшие «содержатся по определенным им окладам довольно хорошо и опрятно в приличных комнатах под порядочным присмотром». Далее он фактически поставил диагнозы всем двадцати монастырским узникам, снабдив их такими комментариями: «совершенно безумен», «в уме помешан», «понятия и ума не имеет», «в совершенном безумстве» или, напротив, «безумства теперь не приметно» и «теперь в совершенном уме». Со всех сумасшедших им были взяты собственноручные письменные объяснения о том, как они дошли до жизни такой. 20 января 1797 года удовлетворенный император повелел освободить из суздальского заточения томившихся там игумена Товия и отставного губернского секретаря Ивана Приморского, записав первого в монашество, а второго – «для определения к должности»77. Настоятеля монастыря архимандрита Феодорита, как особо отличившегося в деле призрения сумасшедших, Павел наградил орденом Святой Анны 2‑й степени, в связи с чем на свет появилась сохранившаяся в соответствующем архивном фонде трогательная и эмоциональная переписка между императором, генерал-прокурором и ошеломленным монаршим вниманием к своей персоне архимандритом78.
Осуществленная в конце 1796 года по-военному быстро и четко, вполне в духе нового царствования, ревизия Спасо-Евфимиева монастыря сильно отличалась от той, что была проведена ранее при матушке нового императора, и потому нам стоит вернуться на двадцать лет назад.
Глава 2
К нам едет ревизор!
– Ну, вот и ревизор! что́ ж что ревизор! нет, кабы вот Павла Трофимыча Перегоренского к ревизии допустили – этот, надо думать, обревизовал бы!
М. Е. Салтыков-Щедрин «Приезд ревизора»
Основанный в середине XIV века в Суздале Спасо-Евфимиев монастырь известен как своими архитектурными памятниками, так и монастырской тюрьмой, где в XIX веке томились известные раскольники и сектанты, а в 1923–1939 годах находился политизолятор (с 1935 года – тюрьма особого назначения), в котором среди прочих содержались Н. Д. Кондратьев, Л. Н. Юровский, М. Н. Рютин, В. И. Невский и другие жертвы сталинских репрессий. Во время Великой Отечественной войны там был сначала фильтрационный лагерь, а затем лагерь военнопленных, среди заключенных которого находился фельдмаршал Ф. Паулюс. После войны и вплоть до 1967 года в монастыре размещалась колония для несовершеннолетних.
Слово «тюрьма», неразрывно связанное с историей Спасо-Евфимиева монастыря, конечно же, не вызывает сколько-нибудь положительных эмоций. К. Ингерфлом, полагающий, что монастырские тюрьмы «отличались особенно суровыми условиями», называет тюрьму Спасо-Евфимиева монастыря «одной из самых зловещих монастырских тюрем в России»79. Конечно, условия содержания в монастырской тюрьме XVIII столетия с точки зрения человека XXI века выглядят ужасающими и бесчеловечными. Это, впрочем, не означает, что так же воспринимали их сами обитатели, чьи условия жизни на воле зачастую были тоже далеки от современных представлений об удобстве и комфорте. Документы, связанные с проведением в 1776 году ревизии в Спасо-Евфимиевом монастыре, содержат не так много деталей монастырского быта, но демонстрируют отношение к нему верховной власти80.
Ил. 1. И. Голышев. Вид Спасо-Евфимиева монастыря, 1861 год. Общий вид Суздальскаго Спасо-Евфимиева мужского монастыря с северо-восточной стороны. Гравюра. Мстера: Лит. Голышева, 1861. РГБ
После получения в Тайной экспедиции сообщения о бегстве из монастыря капрала Леонтовича генерал-прокурор Сената князь А. А. Вяземский составил письмо-выговор на имя настоятеля монастыря архимандрита Соломона. В письме, в частности, говорилось:
Сии посылаемые в тот монастырь люди, как в уме помешанные, требуют не только по должности смотрения такого, чтоб они уйтить оттуда не могли, но и человеколюбнаго призрения и попечения о приведении их в совершенной разум, чем самым и исполняемо будет звание христианское и должность ближняго, а инаково, естьли б одно только нужно было тюремное заключение с оными нещастными людьми употреблять, то б и в монастырь, где люди обитают посвятившияся на службу богу и ближнему, посылать нужды не было, ибо сия посылка в монастырь тех нещастных людей по безмерному в роде человеческом Ея Императорскаго Величества матернему милосердию учреждена на такой конец, чтоб сколько возможно подать помощь таким нещастным людям81.
На черновике письма императрица начертала «быть по сему», и, как мы увидим далее, риторика этого послания и содержащееся в нем объяснение помещения сумасшедших в монастыри – характерны для екатерининского времени, когда идеи Просвещения начинают оказывать влияние на восприятие безумия и, соответственно, отношение к безумным. Тюрьма в письме Вяземского прямо противопоставляется монастырю, и заключение в нем в глазах власти является не наказанием, а актом милосердия.
Однако, как уже было сказано, одним выговором архимандриту дело не кончилось. 17 октября 1776 года Вяземский написал новое письмо, на сей раз главнокомандующему Москвы князю М. Н. Волконскому:
Милостивый государь мой князь Михайло Никитич!
Ее Императорское Величество высочайше указать соизволила к вашему сиятельству отписать, что в Спасо-Евфимиев монастырь посылаются для содержания колодники не инаково как люди, в уме поврежденные. И, хотя по соизволению Ее Императорскаго Величества Суздальской правинциальной канцелярии и дано наставление, каким образом оных безумных в том монастыре содержать, где между прочаго не упущено и того, чтоб над оными чинено было по долгу христианскому человеколюбное призрение, а не жестокость, так как и того накрепко смотреть велено, дабы оные колодники не могли чинить из монастыря побегов. Но пред сим известно Ее Императорскому Величеству учинилось, что из онаго монастыря один безумной отставной гвардии капрал бежал. А сие самое по природному Ее Императорскаго Величества о роде человеческом матернему попечению и побудило: во-первых, осмотреть ныне тамо содержащихся колодников, есть ли за ними желаемое человеколюбивое христианское призрение; второе, не утеснены ли оные содержанием более строгим; третие, каковы покои, в коих оные безумные содержатся; четвертое, есть ли возможность конечно пресечь, дабы никак бегать они из монастыря не могли; пятое, довольно ли каждому определяемая порция и могут ли они иметь из той положенной порции нужную одежду; шестое, какой тамо караул. Чего ради ваше сиятельство как сей монастырь поблизости Москвы состоит, изволите для полнейшаго и вернейшаго разведания о вышеписанном послать секретаря Федорова, которому приказать, чтоб он всех колодников порознь осмотрел и кого в каком состоянии найдет, а равно и о всем повеленном, так как буде он какую неудобность в содержании и в прочем, что нужно для жизни и успокоения тех можно сказать нещастных людей найдет, вашему сиятельству донес. А как нужно иметь всему тому монастырю план, то ваше сиятельство изволит со оным секретарем послать надежнаго геодезиста, которой может снять окуратной всему строению план, и потому ж бы представил к вашему сиятельству. А как оное все получить изволите, то для донесения Ее Императорскому Величеству покорно прошу прислать ко мне. Каково ж дано Суздальской канцелярии о содержании безумных наставление для сведения вашего сиятельства при сем прилагаю копию.
В прочем пребываю с истинным почтением навсегда, вашего сиятельства, милостиваго государя моего покорнейший слуга.
Октября 17 дня 1776 года. Санкт-Петербург82.
Упомянутый в письме Вяземского Сергей Федорович Федоров служил секретарем московской конторы Тайной экспедиции. В тот же день, что и Волконский, он получил письмо от своего непосредственного начальника С. И. Шешковского, рекомендовавшего Федорову «как моему другу, съездить и постараться поприлежнее», а также «наведаться под рукою о тамошнем архимандрите, какой он жизни и поведения»83. Секретарь немедленно написал ответ, в котором обещал выполнить данное ему поручение со всем старанием, поскольку, не получая давно от Шешковского писем, опасался, что тот на него гневается.
Мы ничего не знаем о С. Ф. Федорове, кроме некоторых дат: служить он начал в 1747 году, в 1750‑м поступил в Тайную канцелярию и к 1756 году дослужился до канцеляриста, в коем чине пребывал в 1762 году, когда канцелярия и ее московская контора были ликвидированы84. Но его дальнейшее продвижение по службе было явно не случайным, ибо, судя по тому, как он исполнил возложенную на него миссию, этот уже немолодой человек был толковым и опытным чиновником. При этом по крайней мере первый этап его миссии лишний раз свидетельствует о том, как хорошо знал русскую жизнь Николай Васильевич Гоголь.
В воскресенье 30 октября 1776 года Федоров в сопровождении полицейского архитекторского помощника титулярного советника Бортникова (геодезиста в Москве не нашлось) прибыл в Суздаль и, расположившись на квартире недалеко от монастыря, послал сопровождавшего их унтер-офицера оповестить о своем приезде суздальского воеводу. Воевода, на которого неожиданное появление офицера, по-видимому, подействовало также, как впоследствии появление жандарма на городничего в финале гоголевского «Ревизора», уже через час самолично примчался к столичному чиновнику и «спрашивал его, не имеет ли он по порученной ему надобности в деньгах нужды, которых он хотя до тысячи рублей может ему выдать, на что было ему и ответствовано, что никакой в деньгах нужды он не имеет»85. После этого Федоров отправился в монастырскую церковь к обедне, чтобы выяснить, «отпускаютца ль кто из содержащихся колодников для слушания божественнаго пения», и обнаружил в церкви двоих из них, причем оба «в одежде безнуждной (то есть не в лохмотьях. – А. К.) и бороды у обоих выбритые». По окончании службы один из них, капитан Рагозин, с которым мы еще познакомимся поближе, узнав в Федорове секретаря Тайной экспедиции, подошел к нему и стал спрашивать, долго ли еще его будут держать взаперти и не может ли чиновник походатайствовать о его освобождении, на что ревизор ответил, что отошел от дел и ничем помочь не может. Затем, выйдя на паперть, Федоров стал следить, как колодников отводят в их помещение, и «усмотрел, что они отпущены были за присмотром одного солдата, за которым и пошли те колодники в отведенное им в том монастыре место за решетку железную, зделанную в ограде на монастыре между семинарскими и теми покоями, где колодники содержатца». После этого Федоров отправился в собор и, «не давая о себе знать, а сказавшись приезжим богомольцом», стал расспрашивать монахов, есть ли в монастыре больница, кто в ней содержится и можно ли подавать находящимся там пациентам милостыню. Лишь проведя таким образом рекогносцировку на местности, он нанес визит архимандриту, сперва «сказавши<сь> посторонним имянем» и попросив принять его, дабы «отдать ему поклон и принять от него благословение». Федоров разговаривал с архимандритом «с четверть часа постороннее», и только потом раскрыл наконец свое инкогнито и вручил настоятелю официальные документы.
Архимандрит, «распечатавши, читал оное два раза и, как примечено было, очень он орабел и в лице переменялся, и спрашивал секретаря, не касательно ль чего до него, чтоб он ему открыл». Федоров его успокоил, потребовал предоставить ему ведомость обо всех содержащихся в монастыре колодниках, которую архимандрит пообещал прислать на следующее утро. Затем ревизор отправился осматривать арестантов и «по приходе нашел тех колодников всего числом двадцать пять человек не скованных в двух палатах затворенных, кои так весьма жарко натоплены, что человеку почти в них быть не можно86. По входе в первую палату увидел караульных повешенные на стенах палаши, что для человека, а особливо безумствующаго, самое вредительное. Оные тот же час велел караульным снять». Федоров осмотрел колодников, их одежду, пищу, а на следующий день, получив ведомость, осмотрел вторично, зафиксировав, что на обед они получили «хлеб и пустыя щи, и для пития квас». В своем рапорте он отметил, что спокойные содержатся вместе с «сумасбродными», вторые первых заражают и надо их разделить. Осмотрев также внешние двери, решетки, окна, Федоров дал рекомендации, как избежать побегов, а именно – огородив двор, в который можно будет летом выпускать колодников на прогулки. Когда безумные сумасбродничают и дерутся, сообщал Федоров, их наказывают палками, а другой «строгости» нет87. Также в его рапорте было отмечено, что колодники жалуются на недостаток пищи и одежды, караульные при них меняются каждую неделю, но «те караульные люди старые и слабые». По их недосмотру двум колодникам удалось раздобыть писчие принадлежности, и они написали некие бумаги, «наполненные сущим вздором, скверностию и мерзостию, кои у них и отобраны и с них снятые копии» отправлены в Петербург. Относительно же настоятеля Федоров «под рукою» разведал, что тот скорее «к жизни и поведению склонен светской и подгуливает, нежели к монашеской».
К рапорту был приложен «Список содержащимся в суздальском Спасо-Евфимиеве монастыре безумствующим колодникам, показанным по ведомости того монастыря настоятеля архимандрита Соломона, кто имянно тамо и с котораго времяни содержатца арестанты, откуда оные присланы, какое и откуда им пропитание определено и в каком оные ныне по пересмотре секретарем Федоровым состоянии найдены, так и одежде, и какая им пища производитца». Во главе списка значился драгун88 Никанор Рагозин, присланный в монастырь из московской конторы Тайной канцелярии в 1759 году. Про него было сказано: «…сумазброден, не смирен, в уме не исправился» и при этом «одежду имеет шубу, одну рубашку и для постели войлок, а обуви, кроме одних туфлишек никакой нет; пища прежде производилась по два фунта хлеба, а ныне по два фунта с четвертью, щи в простые дни с одною капустою, а в воскресные и праздничные дванадесятные дни иногда с рыбою и мясом, для пития – квас»89. Другой узник, иеромонах Владимир Зеленский имел «ряску монашескую китайскую и две рубашки старыя, чулки шерстяныя и туфли». Копиист Василий Щеглов – «смирен, но притом глух и глуп», но зато был счастливым обладателем онучей и лаптей, в то время как у фурьера Савы Петрова «ни туфлей, ни лаптей ничего нет». Крестьянин Иван Яковлев – «неукротим и вздорен», жаловался на архимандрита, что тот отобрал у него перину и бил его, Яковлева, палками. Шкиперу Ивану Дубовицкому, содержавшемуся в монастыре с 1768 года, одежду и обувь присылала сестра. Титулярный советник Данила Леванидов просил отсадить его от прочих безумцев, поскольку, пребывая вместе с ними, не мог вылечиться. Протоколист Казанской губернской канцелярии Сергей Попов, присланный в монастырь в 1772 году от нижегородского губернатора А. Н. Квашнина-Самарина, уверял, что архимандрит выпускает его за монастырские стены и он ходит в гости к местному воеводе. Среди арестантов обнаружился также некий «француз Бардий», причем, когда и откуда он был прислан в монастырь, сведений в списке Федорова нет. О нем же самом ревизор сообщал, что тот «говорил по-француски, но что такое, знать неможно, а по сему и исправился ль в уме, заключения зделать неможно, а кажется, что не исправился, ибо он ходит в волосах растрепанных и распущенных, не завязанных в пучок». Купец Михаил Щелкановцов, по мнению Федорова, выздоровевший, исполнял в монастыре функции кашевара и хлебопека. Наиболее состоятельным из арестантов был уже упомянутый выше отставной капитан Илья Рагозин, содержавшийся в монастыре на собственные средства, имевший достаточно одежды и покупавший еду с помощью караульных90. Сообщая Вяземскому о результатах ревизии, Волконский рекомендовал увеличить содержание колодников с 9 до 15 рублей в месяц91.
Доклад Федорова можно было бы счесть исчерпывающим, а предоставленные им сведения полностью заслуживающими доверия, если бы не одно обстоятельство. Дело в том, что память, очевидно, подвела чиновника, перед которым прошли десятки подследственных, ибо дело француза Бардия сохранилось в фонде той самой московской конторы, где работал Федоров. И именно он в январе 1773 года просил Волконского утвердить расходы в 15 рублей 24 копейки на покупку «теплой одежды, обуви и протчаго» для отправляемых в Спасо-Евфимиев монастырь Бардия и еще одного душевнобольного. Правда, расследовалось дело француза не в Тайной экспедиции, а в Полицмейстерской канцелярии, куда он сам явился с заявлением, что бригадир Н. Г. Наумов, в доме которого он был учителем, пытается его отравить и тем свести с ума. Бардий исписал два листа бумаги бессвязным текстом, и в полиции сперва хотели отправить его в католический монастырь, но там его не приняли92. Тогда было решено отправить его в госпиталь, но «между тем прилежно за ним примечаемо было, подлино ли он в уме повредился, но всякой день новыя являются и не ложныя знаки действительнаго безумия». Обер-полицмейстер Архаров обратился к Волконскому, а тот в свою очередь к Вяземскому с предложением отправить Бардия в Спасо-Евфимиев монастырь, и на это было получено высочайшее согласие. Когда же француз был доставлен к месту назначения, оттуда пришло уведомление, что вместе с ним доставлено и все его имущество – три «пары» платья, две шляпы, сапоги, одиннадцать рубах, пять галстуков, муфта, перина, подушки, постельное белье и даже медный чайник93. Почему в докладе Федорова никаких упоминаний обо всем этом богатстве нет, можно только гадать, разве что за почти четыре прошедших года от него ничего не осталось.
Высочайшая реакция на доклад Федорова последовала более, чем через полгода. 31 августа 1777 года Вяземский сообщил Волконскому, что, согласно резолюции императрицы, велено буйных и спокойных вместе не держать, палками никого не наказывать, а отпускаемые на содержание колодников суммы увеличить до 150 рублей в год на человека. При этом было оговорено, что следует предусмотреть меры, чтобы монастырские власти не могли тратить эти деньги на собственные нужды. Склонный к светской жизни архимандрит Соломон был переведен в можайский Лужецкий монастырь, а на его место оттуда прибыл архимандрит Гервасий. Последнему было предписано регулярно рапортовать генерал-прокурору о состоянии дел, что он исправно выполнял, именуя при этом князя Вяземского своим «патроном». Вероятно, именно в надежде на покровительство генерал-прокурора в 1781 году Гервасий жаловался ему на Владимирскую казенную палату, требовавшую отчета в расходовании денежных средств и ведения счетов в специальной шнурованной книге. Но архимандрит просчитался: Вяземский в своем ответе, ссылаясь на Учреждение о губерниях 1775 года, заметил:
Из сего вы усмотреть изволите, что я в сходственности вашего требования никакого удовлетворения сделать не могу, ибо должность моего звания далее тех правил, кои мне предписаны, не простирается, но из особливаго к особе вашей уважения за долг почитаю объяснить, что ревизия никому обиды не делает, а всякой, на чести основывающей свои поступки, должен желать, чтоб щеты его были ревизованы тем более, дабы на будущее время иметь всякое спокойствие и безопасность94.
В начале 1780‑х годов число безумных в Спасо-Евфимиевом монастыре (присланных не только из Тайной экспедиции, но и из других учреждений, в том числе из Синода – сошедших с ума церковников) увеличилось до двадцати восьми человек, к 1788 году – сократилось до двадцати двух, к 1790‑му – до двадцати, а к 1793 году – до восемнадцати человек. За эти годы трижды менялись настоятели монастыря, и в 1795 году новый настоятель архимандрит Феодорит писал новому генерал-прокурору А. Н. Самойлову, что постройки, в которых содержатся безумные, обветшали и у них протекает крыша. Еще тремя годами ранее его предшественник архимандрит Иоасаф жаловался на это же владимирскому губернатору Заборовскому, и тот прислал в монастырь губернского архитектора, который все описал и составил смету ремонта, но деньги на его проведение так и не были выделены95.
Ревизии Спасо-Евфимиева монастыря и в 1776, и в 1796 годах, как мы видели, не выявили каких-нибудь особенно тяжелых и бесчеловечных, с точки зрения ревизоров, условий содержания. Надо полагать, что они, во всяком случае, были не хуже, чем в других местах заключения, в том числе в Западной Европе. Так, российский психиатр Ю. В. Каннабих, автор книги по истории психиатрии, писал, например, что, хотя во Франции еще в первой половине XVII века возникли пансионы для душевнобольных с весьма комфортными условиями и гуманным надзором, это были привилегированные учреждения, в то время как сумасшедших из низших социальных слоев сперва пытались лечить в больницах. Когда после двух-трех недель их признавали неизлечимыми, то отправляли в «„Маленькие домики“ – Petites maisons (впоследствии Hospice du menage) или в Бисетр (мужчин) и в Сальпетриер (женщин)». В последнем «здание было совершенно непригодно для жилья. Заключенные, скорченные и покрытые грязью, сидели в каменных карцерах, узких, холодных, сырых, лишенных света и воздуха. <…> Умалишенные, которые помещались в эти клоаки, отдавались на произвол сторожей, а сторожа эти набирались из арестантов. Женщины, часто совершенно голые, сидели закованные цепями в подвалах, которые наполнялись крысами во время поднятия уровня воды в Сене». В знаменитом английском Бедламе «множество больных были прикованы к стенам цепями, голые люди валялись на соломе в одиночных камерах, куда едва проникал свет». Несколько лучше было положение в лондонской больнице Святого Луки, а в самом конце XVIII века в Йорке по частной инициативе было выстроено «убежище» для душевнобольных, где «решеток на окнах не было. Из мер стеснения применялась только горячечная рубашка… Для слишком беспокойных больных были изоляторы. Тщательно проводилось деление больных на группы. Были особые сады и дворики для прогулок, а в доме организованы светлые помещения для дневного пребывания, для занятий и игр. Особое внимание уделялось огородным, садовым и земледельческим работам»96. В действительности именно в XVIII веке частные заведения для душевнобольных получили в Англии довольно широкое распространение, а в 1774 году был принят парламентский Акт, регулировавший правила содержания таких заведений и предписывавший их владельцам получать специальные лицензии.
Нет нужды говорить, что в России XVIII века подобные частные инициативы были еще невозможны: Странноприимный дом Н. П. Шереметева на Сухаревской площади в Москве, соединявший в себе больницу и богадельню (ныне НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского), был открыт лишь в 1810 году. Казенные специализированные больницы для душевнобольных (по одной на несколько губерний) стали строиться только в 1860‑х годах. В доллгаузах – домах для умалишенных – медицинская помощь была минимальной: постоянных врачей там не было, а те, что были, должны были посещать больных раз в неделю.
Что же касается Спасо-Евфимиева монастыря, то с начала XIX века, с ликвидацией Тайной экспедиции Сената, из специализированного учреждения для излечения душевнобольных он постепенно начал превращаться в настоящую тюрьму, куда помещали уже не только безумцев, но и политически неблагонадежных, сектантов, священников-пьяниц, а также виновных в преступлениях против нравственности и т. д. В 1820‑х годах в монастырском обиходе вновь оказались цепи, на которые сажали на время самых буйных арестантов и которые, по-видимому, использовались до середины века. В 1905 году арестанты Суздальской монастырской тюрьмы были освобождены, и ее стены вновь заполнились узниками уже в советское время97.
Глава 3
«По-лекарскому называемо…»
В 1918 году в Самаре мне нужно было по некоторым обстоятельствам на время куда-нибудь скрыться. (Эсеровские дела) Был один знакомый доктор. Он устроил меня в сумасшедший дом. При этом предупредил: только никого не изображайте, ведите себя, как всегда. Этого достаточно…
В. Б. Шкловский
Упомянутая во введении статья Екатерины Махотиной начинается с истории иеромонаха Иллариона, написавшего в 1723 году некое письмо (у Махотиной «письма») настоятелю Александро-Невского монастыря Феодосию. В письме этом он «бранил Бога, богородицу и угодников, а также государя и государыню», после чего был признан сумасшедшим и заключен в монастырь, где провел более двадцати лет98. Исследовательница изучила дело Иллариона в фонде Святейшего синода РГИА, но еще в 1913 году, как пишет Махотина, за сто лет до того, это дело упоминалось в книге С. Рункевича по истории Александро-Невской лавры. Рункевич использовал печатное «Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего Правительствующего Синода» и утверждал, что в своем письме Илларион жаловался на некое «бесовское видение» и бранил не только государя и государыню, но и А. Д. Меншикова, хотя в действительности он в деле не упоминается99. Рункевич писал историю Александро-Невской лавры, Махотина – исследовала меланхолию, и они не стали анализировать содержание опубликованного в «Описании документов Синода» и сохранившегося в копии в фонде Тайной канцелярии РГАДА письма Иллариона, при знакомстве с которым случившееся с иеромонахом предстает в несколько ином свете.
Служивший в Выборге на одном из кораблей Ревельской флотилии Илларион более месяца страдал от некоей болезни и, по его собственным словам, часто «ходил я больной в нужник мочиться». Путь его пролегал мимо корабельных кают и когда, движимый нуждой, он в очередной раз шел знакомой дорогой, его заметили сидевшие в одной из кают «князь Александр Никитич Прозоровской, да князь Яков Семенович Урусов и прочии с ними», которые, «увидев мене, охнули и испужались, и стали малого своего бранить и караульного салдата, для чего вы нам не сказали про попа, мы, де, ево не ведали, как он прошел, а он, де, знатно все слышал, что, де, мы говорили. Мы, де, померли, испужались». Если верить письму Иллариона, именно они, собравшиеся в корабельной каюте знатные господа, и «бранили императора государя, императрицу государыню матерны ж и всякими скверными словами». Испуг этих неосторожных болтунов был столь велик, что они, писал Илларион, «просили у меня миру» и даже якобы предлагали за молчание 300 рублей, но иеромонах отвечал им: «…сами вы скажите государю, что вы говорили». Сойдя на берег на острове Котлин, Илларион оказался в Александро-Невском монастыре, где, продолжая страдать от болезни, стал слышать некие «голоса». Эти-то «голоса», а не сам Илларион, судя по его письму, бранили Бога, богородицу и угодников и среди прочего шептали ему: «…для чего, де, ты хочешь бить челом на князя, мы де все проподем от него».
Упомянутый в письме Иллариона князь Александр Никитич Прозоровский, отец генерал-майора Александра Александровича – старшего и уже упоминавшегося генерал-фельдмаршала Александра Александровича – младшего, в 1721–1727 годах действительно служил лейтенантом флота. Князя Якова Семеновича Урусова идентифицировать не удается – в родословных росписях Урусовых человека с таким именем нет. Вероятно, Илларион ошибся, возможно, в каюте был князь Иван Алексеевич Урусов, в 1722 году произведенный в капитан-лейтенанты флота100. Так или иначе, но очевидно, что умопомешательство Иллариона было напрямую связано с эпизодом на судне. Более того, ему казалось, что «с того числа стало мучение больши быть». Продолжая страдать от обострившейся болезни («служить мне литургии невозможно»), он, видимо, и не помышлял на кого-либо доносить, но знатные господа продолжали его преследовать, и это преследование превратилось в кошмар.
Церковные власти пришли к выводу, что «обдержим он меланхолическою болезнию», и, как и полагалось, сообщили о происшествии в Тайную канцелярию, но там сочли за благо просто согласиться с диагнозом Святейшего синода и его решением оставить беднягу под присмотром в Александро-Невском монастыре, проверять же сообщение Иллариона не стали101.
Чем показателен кейс иеромонаха? Прежде всего, интересно, на основании чего духовные чины Святейшего синода сочли его сумасшедшим? Судя по всему, помимо написанного им письма (а этот факт вне зависимости от его содержания уже мог восприниматься как девиация), на безумие, по их мнению, видимо, указывало его поведение. Сам Илларион в своем письме упоминает, что из‑за болезни не ходил в церковь, и описывает конфликт с монастырским начальством, в ходе которого его силой утащили с монастырского двора, а затем конфисковали его имущество – «сундучонок, бочонок винишка, да флягу» (монастырские власти, помимо прочего, обвиняли его в пьянстве). В чем была суть конфликта, понять из письма невозможно, и мы этого никогда не узнаем, но можно предположить, что причина была именно в необычном поведении Иллариона и особенно в том, что он отказывался ходить в церковь. Не случайно решением Синода среди прочего велено было следить за тем, чтобы он «ко всякому церковному служению приходил неленостно». Но, как бы то ни было, явным признаком безумия в Синоде очевидно посчитали сообщение иеромонаха о «голосах». Таким образом, церковные иерархи отрицали саму возможность божественного происхождения подобного явления.
Установив, что Илларион болен меланхолией, синодские чины, однако, рапортовали о происшествии в Тайную канцелярию, но там, как уже было сказано, поспешили согласиться с поставленным диагнозом и принятыми мерами. Возможно, если бы об этом деле было доложено императору, тот распорядился бы провести следствие, но в Тайной канцелярии, вероятно, посчитали все написанное Илларионом бредом сумасшедшего, а потому само его дело «маловажным»102. Нельзя исключать, что перегруженные работой чиновники Тайной канцелярии были рады избавиться от лишней заботы и ухватились за уже готовое решение, хотя, с другой стороны, перспектива изобличения хулителей императора вроде бы сулила им карьерные выгоды. Возможно, сыграли роль какие-то родственные или дружеские связи либо иные соображения, о которых мы также никогда не узнаем. Но, так или иначе, подобное решение, как будет показано далее, было далеко не уникальным.
Иеромонаху Иллариону в 1723 году диагноз «меланхолия» был поставлен, потому что он вел себя не так, как полагалось церковнику, а французу Бардию в 1776 году – потому что он не собирал волосы в пучок. Как же стоявшие на страже государственной безопасности чиновники XVIII века в принципе определяли, что перед ними не закоренелый политический преступник, а сумасшедший?
Встречающиеся в архивных делах сведения об этом, как правило, кратки. В самом начале столетия в Преображенском приказе часто полагались на рассказы самих подследственных о своей болезни, подтверждая их или опровергая показаниями свидетелей. Так, в приговоре, вынесенном князем Ф. Ю. Ромодановским тяглецу Голутвиной слободы103 Владимиру Иванову, сказавшему в 1705 году у Спасских ворот «слово и дело», значится: «…свободить без наказанья для того, что вышеписанные ж Голутвиной слободы староста, да мать ево, Володимерова, и сестра сказали, что на нем, Володимере, есть падучая болезнь и бывает в безумстве»104. Московский купец гостиной сотни Иван Плетников заболел в Смоленске, куда в 1707 году был послан для сбора десятой деньги. По его словам, «учинилась ему, Ивану, болезнь такая, учала быть тоска, бутто ево Иванов дом на Москве разорили, и учал ходить вне ума <…> а от чего ему, Ивану, такая болезнь в безумстве пришла, того не ведает». Диагноз Плетникова подтвердил его тесть, иконописец Оружейной палаты Петр Билиндин, которому он и был отдан под расписку105.
Иногда поведение подследственных прямо указывало на наличие безумия. Так, сказавший в 1713 году «слово и дело» монах Никитского монастыря в Переславле-Залесском Маркел106 «в приказе караульных солдат и колодников бранил матерны и бил, и кусал у себя руки»107. Бывший подьячий рязанского митрополита Алексей Внифатьев, согласно показаниям свидетелей, ходил голый по улицам и всех материл (1718)108, а помещица Федосья Трунина «подняв подол, ходила безобразна» и бросалась с топором на солдат, приехавших собирать подати (1721)109. В 1720‑х годах поведению подследственных начинают уделять больше внимания и сведения об этом все чаще встречаются в архивных делах. Так, в деле солдата Евстрата Черкасского (1722) сказано, что он «беситца и сумазбродит»110, посадский Прохор Бармашев (1733) – «кричит и дерется»111, а солдат Алексей Корнилов (1736) «по ночам не спит, ничего не ест, кричит и говорит непорядочно»112. В 1741 году солдат Якутского полка Осип Туголуков во время расспроса «глядел быстро по сторонам и по спросу ответствовал с серца, якобы изумленной <…> а при рукоприкладывании ко оному спросу руки оной Туголуков говорил тихо: все, де, воры, разтакия матери, и плевал на пол с серца»113. В Нижегородской губернской канцелярии в 1743 году усмотрели, что посадский Дружинин (тот самый, которого спустя четыре года несколько раз пересылали из Тайной канцелярии в Синод и обратно) «вертелся и скакал вверх, яко бесный»114. Солдат Иван Железников, попавший в московскую контору Тайной канцелярии в 1749 году, «на тот спрос секретарю Михаилу Хрущову говорил: подите сюда, а то, де, много людей пришло и слушают. И потом на имеющейся в судейской светлице стул сел и по сторонам озирался и глядел быстро». «И, по-видимому, – пришли к выводу служащие конторы, – оной Железников не в состоятельном уме»115.
Дворовый Иван Кондратьев в 1739 году «от многаго чрез вся святую пасху пьянства пришел в меленколию», буйствовал и дрался. Кондратьев объяснял, что хозяйка и ее сын приказывали бить его кошками, от чего он дважды падал в обморок, а после с ним случилось чудо: «…прежде сего писать скорописью не умел, апреля з 24 числа скорописью стал он, Кондратьев, писать без всякого учения», почему он и стал называть себя пророком. И, хотя караульный докладывал, что арестант ведет себя как сумасшедший, на сей раз в Тайной канцелярии решили, что он не безумен, а все дело в пьянстве, а потому следует наказать его кнутом и на полгода отправить на каторгу116. В 1751 году аналогичный случай произошел с капралом Иваном Погодаевым, причем в Тайной канцелярии констатировали: «…ежели б он во объявленном пьянстве не обращался, то б и означенной меленколии последовать ему не могло»117. Стоит заметить, что подобные решения в принципе соответствовали действующему законодательству: Артикул воинский, в отличие от Соборного уложения 1649 года, рассматривал пьянство как отягощающее вину обстоятельство.
Два последних случая в наше время, по-видимому, диагностировали бы как белую горячку или алкогольный делирий, но в XVIII веке таких понятий еще не знали. Примечательное рассуждение чиновников Тайной канцелярии о вреде пьянства содержится в деле 1755 года солдата Федора Зырянова, на которого донес его товарищ солдат Желебов. Последний угощал первого вином и предлагал тост за здоровье императрицы, на что Зырянов сказал: «Я, де, за бабу пью, а всемилостивейшую государыню ни во что чту, ни в денешку, ни в полушку, а почитаю ее блядью». Поскольку «за пьянством» он, по его уверению, ничего не помнил, решено было наказать его кнутом. Но досталось и доносчику. В канцелярии решили, что Желебову, видевшему, что Зырянов сильно пьян, подносить ему еще одну чарку и предлагать выпить за здоровье Ее Императорского Величества не следовало, «ибо, ежели б он, Желебов, тех речей не употреблял, то чаятельно, что и от оного Зырянова вышеписанных непристойных слов произойти не могло», а поскольку он к тому же и донес не сразу, как полагалось, то заслуживает наказания батогами118.
Алкоголизмом, очевидно, страдал и дьячок Сава Александров, но, как он сам признавался в 1740 году, помимо пьянства была и еще одна причина, по которой на него находило безумие: «…когда, де, он вина выпьет, и тогда обеспамятеет и что делает и говорит, того ничего не помнит, а когда ж он з женою своею пребудет, и тогда ж ему подступит под сердце великая тягость», отчего ему являлись видения и слышались голоса119. В подобного рода страданиях Александров был не одинок. Крепостной крестьянин Сергей Ермолаев в 1759 году сам явился в Тайную канцелярию, чтобы сообщить, что «учинил он во сне с девкою блудное грехопадение и при том он, Ермолаев, озирался и дрожал, и говорил всякие сумасбродные слова»120.
Выражение «сумасбродные слова», или «сумасбродные речи», с начала 1740‑х годов встречается в делах все чаще. Например, регистратор Степан Боголепов в 1762 году «говорил всякия сумазбродныя слова с необычным криком»121. Подчас «сумасбродные речи» были столь невразумительны, что служащие канцелярии констатировали: «…к склонению речей написать невозможно»122. В 1742 году записывавший пространные показания капитана Ивана Ушакова чиновник вынужден был прервать работу, поскольку «более же сего записки продолжать невозможно, понеже употребляет речи весьма сумазбродныя и продерзкия, и великоважныя»123.
В 1750‑х годах следователи еще внимательнее стали относиться к поведению подследственных во время допроса. Так, уже знакомый нам Никанор Рагозин, которому предстояло стать самым долговременным обитателем Спасо-Евфимиева монастыря, «молчал и стоял, якобы изумленной в уме, и глазами смотрел весьма быстро»124. Кирасир Иван Калугин «озирался на стены» (1758)125, комиссар Канцелярии от строения Готфрид Энгельбрехт «изумленно озирался и весь трясся» (1761)126, «озирался по стенам и глазами смотрел весьма быстро» отставной подпоручик Дмитрий Чистой (1761)127. В 1760 году солдат Родион Абатуров в Тайной канцелярии «сидел смирно и был в горячке, и потом озирался на стены и по спросу о тех словах (ранее он говорил «непотребные слова» по первому пункту. – А. К.) ничего не ответствовал и молчал, почему в Тайной канцелярии усмотрен он весьма малоумен»128. О крестьянине Осипе Шурыгине служащие Колыванского губернского правления в 1785 году замечали: «…говорит с запинанием и задумчивостию, а как ни о чем спрашиван не бывает, то сам с собой шепчет, чем и доказывает себя наподобие как времянно меленколика»129. Наблюдательные новгородские помещики поставили диагноз отставному поручику Федору Овцыну и вовсе по внешним признакам: «…образ его одежды представляет человека, от развратной жизни лишившагося здраваго разсудка»130.
Нередко для постановки в Тайной канцелярии диагноза, как и прежде в Преображенском приказе, достаточно было показаний родственников или знакомых. Так, к примеру, в деле солдата Петра Шмелева в 1750 году решение было вынесено на основании свидетельства жены другого солдата, рассказавшей, что жена Шмелева говорила ей, что ее муж «болен горячкою и в той болезни сошел с ума». Шмелева действительно доставили в канцелярию из госпиталя, но он утверждал, что ничего не помнит, в том числе и того, чтобы говорил, будто государыня «живет с Алексеем Григорьевичем Разумовским», чего он, конечно, и в мыслях не имел131.
Подробно описанный в книге Е. В. Анисимова ужас, который наводила на россиян Тайная канцелярия, заставлял иногда людей ставить самим себе диагнозы и на себя доносить. В 1743 году так поступил солдат Иван Горожанский, явившийся в канцелярию и объявивший, что болел и в состоянии безумства произносил «слово и дело». Свидетели подтвердили, что он уже год как сошел с ума, но ввиду чистосердечного признания его отослали назад к месту службы в дворцовую контору132. Безумство и меланхолия могли стать и причиной ложного доноса. Упомянутый выше капрал Иван Погодаев, чья меланхолическая болезнь, по мнению Тайной канцелярии, была вызвана беспробудным пьянством, донес на жену другого капрала, что та якобы о еще одном капрале говорила: «…он служит бабе, а не государыне, и она, де, такова ж моя сестра, баба», но, протрезвев, Погодаев объявил, что донес «от пьянства в меленколии напрасно», и, судя по всему, наказан не был133. Однако твердых правил для подобных случаев, видимо, не имелось: цейхшренбер артиллерийской команды Иван Сибирцов, донесший в 1755 году в Архангельске на двух других людей, а в Петербурге утверждавший, что был в меланхолии и беспамятстве из‑за пожара, в котором сгорело все его имущество, за ложный донос был наказан плетьми и отослан обратно к месту службы134. Хотя в его деле нет прямых указаний на то, почему было принято именно такое решение, можно предположить, что в поведении Сибирцова признаков сумасшествия следователи не усмотрели, а проверять его утверждение было слишком хлопотно.
Ил. 2. А. Х. Радиг. Князь Александр Михайлович Голицын. Гравюра по оригиналу А. Рослина. [Санкт-Петербург], 1778. РГБ
Интересное замечание, демонстрирующее восприятие сумасшествия, содержится в письме 1775 года генерал-фельдмаршала князя А. М. Голицына А. А. Вяземскому. Двор в это время находился в Москве, и Голицын управлял Петербургом, когда к нему явился отставной капитан Иван Дмитриев. Выслуживший офицерский чин, а с ним и дворянство, выходец из солдатских детей, участник Семилетней войны, владелец четырех крепостных душ, из которых одного продали, а трое бежали, он из‑за пожара лишился всего имущества и пешком с женой и сыном пришел в Петербург из Осташковского уезда. Не имея средств к пропитанию семьи, Дмитриев сошел с ума, называл себя крестником Елизаветы Петровны и утверждал, что она оставила ему в Петропавловском соборе некий сундучок с вещами, который ему не отдают. Голицын велел разыскать жену Дмитриева и после разговора с ней отчитался: «Жена его, хотя и называется дворянкою, но не умнея его видится, ибо она почитает его испорченным от лихих людей по причине находящей на него времянем, как она выговаривает, меренкольи»135. Судя по всему, в отличие от многих своих современников, в возможность наведения порчи фельдмаршал Голицын не верил.
Поскольку в екатерининское время окончательное решение относительно душевного здоровья подследственного оставалось за императрицей, вывод о безумстве мог быть основан на рассуждениях, далеких от объективности. Так, в 1777 году из Нижнего Новгорода в Москву был прислан крестьянин-раскольник Дмитрий Кузнецов. До этого его пытались записать в солдаты, но он отказался принимать присягу и заявил, что сбежит. Екатерина II велела московскому митрополиту Платону Кузнецова «увещевать» и обратить в истинную веру, но все попытки были тщетны. Упорство крестьянина императрица сочла за фанатизм, который, по ее мнению, был признаком безумия, и по высочайшему повелению Кузнецова отправили в Спасо-Евфимиев монастырь136. В том же году в московской конторе Тайной экспедиции оказался отставной солдат Егор Баранов, утверждавший, что с тех пор, как «государыня престол приняла», начались несчастья. И все потому, что она «знается только с господами», которым раздает вотчины. Баранову было 73 года, и императрица решила, что его, «как человека, уже удрученнаго старостию лет, следовательно, и лишающагося здраваго разсудка», следует отпустить137.
Как видно по делу солдата Герасима Суздальцева, уже в 1734 году меланхолию рассматривали как болезнь и пытались лечить в госпитале. В 1739 году приглашенный в Тайную канцелярию для освидетельствования жены вахтера Адмиралтейства Катерины Ходанковой лекарь констатировал: «…кажется, от какой бы внутренней женской причины малое безумие имеет»138. В том же году медики осмотрели подьячего Семена Попова, который «явился в безумстве, которое по-лекарскому называемо френизин»139. По решению Тайной канцелярии он подлежал отправке в монастырь, но вскоре было получено донесение государственного крестьянина Луки Мардинского о том, что Попов – его зять и он просит отдать его ему для «исправления ума». Через несколько месяцев Мардинский донес, что Попов так и не выздоровел. При повторном осмотре было установлено, что он «одержим меланколическою болезнию»140. Ученый термин употребил в 1780 году и сенатский штаб-лекарь Иван Долст, осмотревший однодворца Родиона Щетинина: «…он поврежден мыслями, называемыми по латине „маниатки“»141. Три года спустя малороссийский генерал-губернатор П. А. Румянцев сообщил в Петербург о местном священнике Тите Волченском, что тот «по лекарскому испытанию, в болезни, называемой „мания“, находится»142, а в медицинском диагнозе отставного подпоручика Марка Анфилогова, считавшего себя богом Савоафом, а заодно утверждавшего, что «блудил» государыню, в том же году уже латинскими буквами было написано: «Mania», и лекарь велел давать ему рвотное, белый хлеб, чай и воду143. В 1789 году собственный диагноз канцеляристу Петру Татаринову поставил новгородский митрополит Гавриил: «Примеченныя в нем перемены почитаю пароксизмами меланхолии, которою он страждет. При всем том я находил в нем доброе расположение сердца. Он жалок и нужно его от сей болезни излечить». Отправленный в приказ общественного призрения Татаринов, однако, отказался принимать лекарства, считая их ядом, и вскоре умер144.
Во второй половине века стражи государственной безопасности стали все чаще прибегать к медицинскому освидетельствованию и все меньше полагаться на собственные наблюдения. Заключения лекарей отличались разнообразием. Так, в случае с упомянутым выше регистратором Степаном Боголеповым лекарь констатировал: «…по осмотру моему явился он, Боголепов, в повреждении ума своего, но только его от той болезни в Тайной канцелярии пользовать неможно, а надлежит для того пользования отослать его, Боголепова, в генеральной сухопутной гошпиталь». Перед этим Боголепов находился под следствием за какой-то проступок, был амнистирован по случаю восшествия на престол Петра III, но неожиданно объявил, что знает «слово и дело» по первым двум пунктам на всех чиновников Главной полицмейстерской канцелярии, а заодно и на главу Тайной канцелярии А. И. Шувалова. Караульному офицеру он сказал: «…сальные свечи надобно собрать ему в одно место и растопить в котле, и в тот, де, котел посадить секретаря Шешковского с подьячими, да и караульного офицера». В канцелярии сперва решили отправить Боголепова в монастырь, но затем сочли за лучшее прислушаться к мнению эксперта и направили его в госпиталь.
Фузелер Федот Гришин лечился в госпитале, был выписан, но в 1766 году снова стал вести себя неадекватно; решено было, однако, что «в нем того безумия, которое з бешенством бывает, нет, а склонность и мысли его <…> более к богомолию склонны». Для излечения от этой склонности его снова отправили в госпиталь, как и отставного гусара Карла Фридриха, утверждавшего, что он сын Петра I145. В следующем году сыном первого императора назвался трубный мастер Мейбом (с его историей мы еще познакомимся поближе), присланный на основании доноса некоего канцеляриста от обер-полицмейстера к генерал-аншефу, сенатору и в тот момент генерал-губернатору Петербурга И. Ф. Глебову. Последний велел лекарю осмотреть Мейбома, тот нашел его здоровым, но «сколько видеть можно, в книгах зачитался и, высокоумствуя, называет всех законопреступниками». Однако позднее выяснилось, что ранее, еще в 1759 и 1762 годах, на Мейбома уже находило безумие и его лечили в Медицинской канцелярии, после чего Глебов поставил собственный диагноз: «…почитаю его рожденным меланколической комплексии и напоследок состареющимся сумазбродом»146. Генерал, таким образом, солидаризировался с императрицей, ассоциировавшей старость со слабоумием, но показательно, что к этому выводу он пришел не сразу. В письме к императрице Глебов писал, что сначала решил выяснить, не оклеветал ли канцелярист трубного мастера:
Призвав ево пред себя, и усматривал из ево лица, равно ис поступок, безумства ево, но ни в чем того приметить не мог. И для того по порядку спрашивал у него сперва о ево имени, отчестве, где он родился и наконец о самом ево сюда приезде и службе. Он на мои вопросы ответствовал так порядочно и ясно, как бы совсем полнаго разума был человек, без всякаго замешательства. Могу признаться, что едва не зачел было я подозревать на подъячего о вымысле. Однако, желая сведать самую истинну, спросил я ево, для чего он образа колол и сжег. Он тут вывел меня от воображаемаго на подъячего подозрения и врал столь много и непристойно, что я почел за излишнее описывать здесь ево вранье.
Копию допроса Мейбома Глебов, однако, отправил императрице в Москву. Находившиеся там в это время Н. И. Панин и А. А. Вяземский сперва предложили выслать Мейбома за границу, опасаясь, однако, что если он станет повторять вымыслы о своем происхождении, то найдутся свидетели, которые их распространят, «а тем паче по слабому своему смыслу выдумают еще от себя развращенные толки и разсеют оные в своих жилищах». В результате после длительного обсуждения по приказу императрицы очередной претендент на престол был отправлен подальше от столицы в рижский доллгауз147.
В 1775 году в московскую контору Тайной экспедиции был доставлен тридцатилетний экономический крестьянин Тимофей Теленков, мечтавший, как выяснилось, отправиться на богомолье в Иерусалим и желавший получить на это высочайшее разрешение. Для этого он подстерег великого князя Павла Петровича и встал перед ним на колени, но при этом не сказал ни слова. Осмотревший его лекарь пришел к выводу, что, «чтоб он был в уме помешан, не признавается, а хотя он дрожание в руках имеет, но то, думаю я, что от страха». С места жительства Тимофея, однако, сообщали, что тот еще в 1771 году недолгое время «был в помешательстве ума и в пруд кидался». Судьбу крестьянина решали на высшем уровне – генерал-прокурор Сената князь Вяземский, московский главнокомандующий князь Волконский и секретарь Тайной экспедиции Шешковский. Посовещавшись, они решили отправить его в Спасо-Евфимиев монастырь. Однако императрица их решение не утвердила, а велела «для лечения от помянутой болезни под претекстом партикулярнаго человека представить в Павловскую больницу», построенную в 1763 году для безвозмездного лечения неимущих148. Судя по всему, Екатерина здраво рассудила, что никакой политической опасности Тимофей Теленков собой не представляет.
Практика медицинского освидетельствования подозреваемых в сумасшествии распространялась и за пределы столиц. В 1785 году в Симбирской губернии был арестован ясачный крестьянин Федор Ушков, который, будучи в церкви, по окончании службы громко сказал нечто невразумительное о царях Михаиле и Федоре, явленных православным Богоматерью. Двум местным лекарям было велено «почасту осматривая онаго крестьянина Ушкова, не дав ему никакого вида, а посторонним образом старатца заметить из обращения его и ис посторонних же разговоров», не помешан ли он. Еще до установления диагноза наместническое правление постановило: «По скорости времени не предусмотреннаго еще в том крестьянине Ушкове помешательства ума, не отяготить судьбы его паче меры им содеяннаго». Из Петербурга велели провести розыск в селе, где жил Ушков, по результатам которого свидетели показали, что он «доброго поведения», но, напившись, бывает буйным. Лекари пришли к выводу, что у него меланхолия, но это не хроническая болезнь, а временные припадки. По решению императрицы проступок Ушкова, также явно не угрожавший государственной безопасности, был отдан на рассмотрение местного совестного суда149.
Ил. 3. Неизвестный художник. Портрет С. И. Шешковского. Вторая половина XVIII в. © Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2024. Фотограф: С. В. Бутыгин
К игумену Зилантова Успенского монастыря Товия, освобожденному в 1797 году Павлом I из Спасо-Евфимиева монастыря, внимание Тайной экспедиции привлек казанский губернатор князь П. С. Мещерский, сообщивший, что игумен буйствовал, срывал со стен портреты императрицы и казанского митрополита, а «в глазах он имеет мутность». Решено было лечить игумена в Казани под присмотром в архиерейском доме, а если не выздоровеет или будет в тягость, отправить в Спасо-Евфимиев монастырь. Позднее Мещерский сообщил Вяземскому, что, согласно донесению местного лекаря, Товия «от меланхолии и ипохондрии и приключившихся больших обструкциев от гемороидолических припатков, хотя был в помешательстве ума, но, по примечанию его, получил уже от того свободу и находитца в совершенном разуме с небольшою только задумчивостию». Вяземский велел Товия освободить, но оставить в монастыре простым монахом, что и было одобрено императрицей. Однако в 1779 году Мещерский известил генерал-прокурора, что Товия вновь заболел, и тогда-то его и отправили в Суздаль150.
Врачи, очевидно, верили в чудодейственность и эффективность лечения. 16 июля 1758 года лекарь, осмотревший придворного певчего Василия Савицкого, докладывал, что тот «подлинно в повреждении ума, которого я от той его болезни надлежащими медикаментами пользовать буду», а уже через шесть дней, 22 июля, больной, по его мнению, «в уме своем исправился и безумства в нем никакого не имеетца»151.
Какими именно медикаментами потчевали певчего Савицкого, неизвестно. Лекари этого времени были, как правило, иностранцами и, очевидно, имели разную квалификацию, а также отличные друг от друга знания о достижениях медицинской науки152. В Западной Европе XVIII века уже появились первые труды по психиатрии, содержавшие в том числе классификацию и описание психических заболеваний, но каких-либо свидетельств того, что они были известны врачам, состоявшим на русской службе, в делах Тайной канцелярии не прослеживается. Очевидно, что в России, в отличие, к примеру, от Англии, еще не было медиков, специализирующихся именно на психических расстройствах. Вместе с тем приведенные примеры показывают, что понятие «меланхолия» как обозначение душевной болезни, а также ее характерные признаки получили широкое распространение не только среди медиков, но стали, по сути, общедоступным знанием. Иеродиакон из Киева Пахомий Кувичинский в 1756 году говорил, что «незнаемо от чего пришла ему сперва тоска, а потом болезнь меленколичная, и от той де болезни и поныне бывает он почасту в безумии»153. Иеродиакон, таким образом, как бы обозначил причинно-следственную связь: тоска – меланхолия – безумие.
Анализируя то, как органы политического сыска в XVIII веке ставили психиатрические диагнозы, надо оговориться, что, конечно же, диагнозы эти были не точны. Да, таковыми они и не могли быть в силу неразвитости психиатрии как науки и отсутствия соответствующих медицинских знаний. Однако очевидно, что не прав М. Б. Велижев, полагающий, что даже указ Александра I от 1801 года, о котором пойдет речь в следующей главе, «имел обратное следствие – общество по-прежнему не видело в безумии болезнь, а усматривало лишь буйство, ставшее причиной умственных заблуждений, страстей, в том числе честолюбия, или даже чрезмерных занятий философией»154. В перечисленном исследователем действительно видели причину, но причину именно болезни. И именно поэтому для освидетельствования безумного приглашались медики. Причем признаки, на основании которых в органах политического сыска XVIII века ставили диагноз о психическом расстройстве подследственного самостоятельно, без обращения к врачам, были выявлены в результате постепенных наблюдений, так же, как свидетельствуют ответы на запросы Вяземского 1776 года (см. приложение), как и познания медиков. Другое дело, что при знакомстве с архивными делами зачастую возникает ощущение, которое можно назвать «феноменом Чацкого»: сказанное или сделанное подследственным априори воспринималось как нечто, что может сказать или совершить только безумец. Нередко у следователей не было никакого желания разбираться с таким человеком, им было проще признать его умалишенным и отправить в монастырь155.
Глава 4
«Ни суда, ни закона»
Признать этого негодяя сумасшедшим навсегда! Лечить его! Посадить его на цепь! Надеть на него горячешную рубашку! Лить ему на темя холодную воду! и никогда не представлять никуда для переосвидетельствования!
М. Е. Салтыков-Щедрин «Дневник провинциала в Петербурге»
Как было показано в предыдущих главах, монастырское заточение хотя и было наиболее частым уделом попадавших в Тайную канцелярию и Тайную экспедицию безумцев, заподозренных в политических преступлениях, но не единственным. Судьба каждого из арестантов решалась индивидуально, причем проследить по документам причины принятия того или иного решения удается далеко не всегда.
В средневековой Европе уже к XIV веку и в каноническом, и в гражданском праве сложился принцип, согласно которому сумасшедший, чье безумие доказано, не несет ответственности за свои деяния156. В вошедшем в Кормчую книгу Законе градском также имелась статья, освобождавшая от ответственности убийцу по признаку возраста или безумия. Эта статья вошла и в Новоуказные статьи 1669 года (статья 79)157. При этом в Законе градском декриминализация по признаку возраста распространялась только на непредумышленное убийство («Творяи убийство волею, коего любо аще есть возраста, мечем муку да примет»), а в Новоуказных статьях слова об освобождении от ответственности («Седми лет отрок, или бесныи, аще убиет кого, неповинен есть смерти») следуют сразу за предыдущей фразой что, вероятно, лишь вводило судей в заблуждение. Неслучайно поэтому среди сотен дел обнаружилось лишь несколько, относящихся к 1740‑м – началу 1750‑х годов, когда в Тайной канцелярии в Петербурге вдруг вспомнили об этой норме и упомянули ее в своем решении. Причем показательно, что ссылались следователи не на Новоуказные статьи, а непосредственно на Закон градский, что само по себе интересно с точки зрения правоприменения. При этом для служащих московской конторы обращение их петербургского начальства к Закону градскому, по-видимому, стало неожиданностью. Поначалу они покорно выполняли распоряжения петербургского начальства, но в 1747 году, расследуя дело признанного безумным московского купца Василия Дмитриева и постановив освободить его от наказания на основании Закона градского, «а паче для многолетного Ея Императорскаго Величества и высочайшей Ея Императорскаго Величества фамилии здравия», они вместе с тем решили:
В Санкт-Питербурх в Тайную канцелярию послать ис Тайной канторы доношение и требовать указу, что, ежели впредь явятца в ложном сказывании слова и дела такие ж безумные и таковым по силе означенных градских законов в сказывании слова и дела вины отпускать ли, и, ежели таких вины отпускать будет не повелено, то можно и означенного Дмитриева, из магистрата взяв, наказанье ему учинить158.
Посвященная самоубийцам статья 164 Артикула воинского Петра I, появившегося на свет в 1715 году, тоже рассматривала безумие в качестве декриминализирующего признака, но ее действие не распространялось на уголовные и тем более политические преступления и никакого законодательного акта, прямо освобождавшего умалишенного от уголовной ответственности, на протяжении XVIII века не появилось159. Лишь в «Учреждениях о губерниях» 1775 года преступления, совершенные сумасшедшими, было велено рассматривать не в уголовных, а в совестных, то есть гражданских судах, которым предписывалось устанавливать сам факт безумия и определять дальнейшую судьбу виновного160. И только в 1801 году появился именной указ Александра I, получивший в Полном собрании законов название «О непредавании суду поврежденных в уме людей и учинивших в сем состоянии смертоубийства»161. Как и многие законодательные акты XVIII века, этот указ не являлся законом, которым верховная власть вводила новую норму, но стал реакцией на конкретный случай и был адресован калужскому гражданскому губернатору, не знавшему очевидное – что для безумцев «нет ни суда, ни закона». Император при этом не ссылался на какой-либо закон, но как бы констатировал нечто общеизвестное, сложившуюся практику. Однако показательно, что этот указ появился в один день с сенатским указом, по которому отныне доносы по первым двум пунктам надлежало рассматривать в судах общей компетенции, поскольку Тайная экспедиция Сената была ликвидирована162.
Практика освобождения от наказания безумцев, подозреваемых в самых страшных с точки зрения власти преступлениях, на протяжении XVIII века была, таким образом, частым явлением, порожденным общими представлениями о самом явлении безумия. При этом, как будет показано далее, практика эта складывалась постепенно и свои окончательные формы обрела уже во второй половине столетия.
Уже в самом начале XVIII века в Преображенском приказе, как правило, без наказания освобождали только произнесших словосочетание «слово и дело» и утверждавших впоследствии, что в силу безумства ничего не помнят. Так, к примеру, в 1705 году сказавший «слово» солдат Семен Оборин, в приказе утверждавший, что ничего «не упомнит, для того, что он бывает во иступлении ума, а иступление ума учинилось ему на службе под Кизикирменем163, как он был в Ыванове полку Гаста»164, был без наказания отослан обратно в Разряд, поскольку «явился малоумен»165. Иначе обстояло с теми, кто сказал какие-то конкретные «неистовые» слова и тем самым совершил преступное деяние или сам подал на кого-то донос. В 1703 году приказчик князя Ивана Мещерского донес на своего хозяина, матерно отругавшего его, а заодно и государя166. Мещерский долгое время все отрицал даже на очных ставках, но «у пытки винился, а сказал: того, де, изветчика и з государем матерны он избранил, потому что бывает во изступлении ума и говорит, что того и сам не помятует». Выяснилось, что еще в правление царевны Софьи его посылали «под начал» в монастырь за то, что он колол иконы «во иступлении ума». По приговору Ф. Ю. Ромодановского его снова отправили в Данилов монастырь в Переславле-Залесском, предварительно наказав плетьми «вместо кнута»167. Не исключено, что смягчение приговора Мещерскому было связано с его социальным положением. В том же году крестьянин Карп Понкратьев, сказавший: «…государь изволил тягло положить на мелких мужиков, а на нас не положил. Глупой государь, что на нас тягла не положил», был наказан кнутом «нещадно», хотя и утверждал, что ничего «не упомнит, потому в уме забываетца»168. В 1722 году в Тайной канцелярии расследовалось дело уже упоминавшегося солдата Нарвского пехотного полка Евстрата Черкасского, на которого донес ефрейтор Прокофий Засыпкин, слышавший, как тот говорил что-то неприличное про императора, императрицу и шведского короля. Черкасский был болен уже как минимум полтора года и считал, что «ево девка испортила». «С розыску» (то есть под пыткой) он ничего не сказал, кроме того, что ничего не помнит, «понеже на него приходит болезнь, болит голова и в безпамятстве бывает и что делает не помнит, а учинилась, де, ему та болезнь, как он при полку стоял в Дерптском уезде на квартере». К тому же «Нарвского пехотного полку пятой роты капитан Сава Селиверстов велел ево, Черкаского, выводить зимою на мороз нагова, и был он выводен и привязан к столбу, и привязанного ево били того ради, что не пролыгаетца ли он, дабы отбыть ему тою болезнию от службы, и отдан был в больницу и говорили: хотя, де, он будет жить или умрет, быть так». Следователи заключили, что солдат «признаваетца яко неистов есть и палаумен», но приговор за подписью А. И. Ушакова был максимально суров: послать в монастырь в Вологодской губернии, «содержать скована за крепким присмотром в работе до ево смерти неисходно и чтоб он не ушол и, ежели каким случаем уйдет, то изыскан будет». Донос, в котором были зафиксированы слова Черкасского, было велено сжечь, а доносчика ефрейтора произвели в сержанты169.
Ил. 4. Неизвестный художник XVIII в. Портрет начальника Тайной канцелярии Андрея Ивановича Ушакова (1672–1747). © Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2024. Фотографы: Н. Н. Антонова, И. Э. Регентова
Одиннадцать лет спустя, 19 февраля 1733 года, в Зимний дворец явился некий человек, объявивший, что знает «слово и дело». В Тайной канцелярии, куда он был немедленно доставлен, выяснилось, что это тульский посадский Прохор Бармашев, уже шестнадцать лет живущий в Петербурге, решивший поделиться со следователями красочным перерассказом своих мыслей, видений и переживаний (см. главу 7). Рассказ произвел такое впечатление, что А. И. Ушаков спросил у Прохора, не повредился ли он в уме, на что последовал уверенный отрицательный ответ. По-видимому, чтобы проверить, не врет ли он, Бармашев был подвергнут пытке, состоявшей из двадцати ударов кнутом, а потом еще одной в двенадцать ударов, но продолжал стоять на своем. Подобное упорство, вероятно, показалось убедительным, Прохора признали сумасшедшим и отправили в новгородский Хутынский монастырь170. В 1736 году двум пыткам (первая – 27 ударов) был подвергнут отставной профос Дмитрий Попригаев171, в 1737‑м – был поднят на дыбу магазеин вахтер Адмиралтейства князь Дмитрий Мещерский172, в 1739‑м – били «батогами нещадно» иноземца Якова Люта173, в 1740‑м – был пытан шатерный ставочник Конюшенной конторы Василий Смагин174. В том же году трижды поднятый на дыбу и в конце концов признанный безумным крепостной крестьянин Леонтий Волков, уже 18 лет живший по фальшивым паспортам, получил последовательно 35, 31 и 30 ударов кнутом175. Вместе с тем в те же самые годы без применения пыток были решены судьбы также признанных душевнобольными уже известного нам солдата Герасима Суздальцева (отправлен в монастырь), финна Лауренца Дальрота (выслан в Швецию)176, солдата Преображенского полка Алексея Корнилова (отдан для лечения отцу)177, также уже упоминавшегося солдата Степана Маслова (монастырь)178, посадского Акима Окунева (монастырь)179, бывшего подьячего Ивана Андреева (монастырь)180, посадского Сидора Морозова (монастырь)181, однодворца Аверкия Калдаева (монастырь)182, крестьянина Фомы Иванова (монастырь)183 и других.
Чем определялось применение или не применение пытки? Можно предположить, что следователи использовали пытку, чтобы удостовериться, что подследственный действительно безумен и не притворяется. Однако более вероятно, что решение зависело от степени «важности», то есть опасности «сумасбродных речей». Все названные лица – пытанные и не пытанные – так или иначе, упоминали членов царской фамилии или влиятельных вельмож – Петра I, Екатерину I, цесаревну Елизавету Петровну, Ф. М. Апраксина и других, но при этом подвергнутый пытке Бармашев сравнивал петровское время с нынешним не в пользу последнего, намекая на повреждение нравов в царствование Анны Иоанновны. У Попригаева было обнаружено письмо на имя князя Дмитрия Михайловича Голицына с пророчеством, что тот будет «великим государем», и случилось это как раз в ноябре 1736 года, когда был создан Вышний суд по делу бывшего зачинщика «затейки верховников» 1730 года, закончившийся его заключением в Шлиссельбургскую крепость. В свою очередь князь Мещерский написал на имя цесаревны Елизаветы Петровны донос с обвинениями контр-адмирала А. И. Головина, который якобы ругал царствующую императрицу и замышлял убить цесаревну Елизавету Петровну. Яков Лют говорил, что он шведский король, а крестьянин Волков считал себя царем: во время пытки его было велено спрашивать, «для чего он подлинно таким непристойным словом себя называл и в каком намерении, и не имел ли об оном с кем какова злаго вымыслу или разсуждения и не научал ли ево кто» (его показания см. в приложении)184. И это при том, что Волков утверждал, что «научил» его не кто иной, как являвшийся ему Иисус Христос. Амбиции Василия Смагина были скромнее: он претендовал лишь на роль царевича, сына Евдокии Лопухиной, первой жены Петра I. Видимо, именно особая серьезность всех этих высказываний и побуждала следователей применять пытки. Показательно, что Смагин, отправленный в 1740 году в Иверский монастырь, два года спустя, когда из монастыря сообщили о его выздоровлении, был вновь доставлен в Петербург на допрос, где опять повторил тоже самое о своем происхождении, и был отправлен теперь уже в Калязин (Свято-Троицкий Макарьев) монастырь с приказанием содержать его там с кляпом во рту, вынимая только для приема пищи. Когда в 1745 году теперь уже из этого монастыря рапортовали о выздоровлении Смагина, велено было содержать его там по-прежнему, поскольку он виновен «в такой важной вине», которая с воцарением Елизаветы Петровны очевидно только усугубилась185.
Что же касается тех, к кому в Тайной канцелярии пытки не применялись, то они либо, произнеся «слово и дело», позже утверждали, что сделали это «в безумстве», либо изрекали нечто, в чем невозможно было усмотреть какую-либо угрозу государственной безопасности. Так, к примеру, очевидно безобидный характер носил рассказ однодворца Калдаева о том, что над его спящей женой показалась звезда «и был глас, подобный человеческому: быть, де, той твоей жене царицею соловьевою»186.
Примечательно, что в период правления Анны Леопольдовны приговоры, выносившиеся в Тайной канцелярии, отличались особой суровостью. Так, отправленного в ноябре 1740 года в монастырь оброчного крестьянина Федора Родионова, утверждавшего, что он старообрядец, было велено:
Содержать его в том монастыре под крепким караулом, заковав ноги в кандалы, и никуда его ис того монастыря ни для чего не отпускать и никого к нему, кроме караульных солдат, не допускать и приказать смотрить накрепко, чтоб каким случаем оной Родионов не мог ис того монастыря ис-под караулу утечки учинить. И ежели он станет непристойно что кричать, и его смирять шелепом, и класть в рот кляп187.
Аналогичными были вынесенные в тот же период приговоры солдату Осипу Туголукову188 и тобольскому посадскому Алексею Волкову, причем о последнем было специально оговорено: «…а вина и протчаго хмельного питья отнюдь ему не давать»189. Возможно, на суровость выносимых в это время главой Тайной канцелярии А. И. Ушаковым приговоров влияло ощущение политической нестабильности.
Однако с воцарением Елизаветы Петровны упоминание о кандалах из приговоров исчезает. Более того, царствование Елизаветы Петровны ознаменовалось для попадавших в сети политического сыска безумцев практически полным исчезновением из арсенала следователей пыток и иных форм физического воздействия, которые продолжали использовать в отношении тех, кого в безумстве не подозревали190. Показательно в этом отношении дело матроса Максима Корелы, начавшееся в 1752 году, когда он сам явился в Тайную канцелярию и объявил, что ему был «глас» о том, что он должен постричься в монастырь: «…ты, де, уготован господу Богу обще со всемилостивейшею государынею Елисавет Петровной и на втором, де, пришествии будет тебе невеста – всемилостивейшая государыня Елисавет Петровна». Ранее Корела служил в Адмиралтействе, бежал, был пойман, наказан шпицрутенами и послан служить в Астрахань. Медицинское освидетельствование матроса безумия не выявило, и, хотя сам он утверждал, что ему временами «приключается безумство от пьянства», было решено отослать его обратно в Адмиралтейство. Там его наказали плетьми и держали под караулом. Менее чем через год, в ноябре 1753 года он сказал «слово и дело» на других тамошних арестантов, а в Тайной канцелярии объяснил, что сделал это, потому что они ругали его матом, но «виск и шепот» он по-прежнему слышит. На сей раз следователи, видимо, сочли, что он все же болен, и решили отправить Корелу в ростовский Борисоглебский монастырь, откуда на следующий год пришло сообщение о его выздоровлении. Но, не успев освободиться, матрос вновь произнес «слово и дело». Проведенное в московской конторе Тайной канцелярии следствие не подтвердило его показания против обитателей монастыря, якобы проявлявших подозрительный интерес к происхождению великой княгини Екатерины Алексеевны. Решено было, что матрос здоров, доносит ложно, следует наказать его за это кнутом и сослать в Оренбург. При этом было оговорено, что, если он снова станет произносить «слово и дело», не обращать на это внимание и в Москву его не везти, чтобы не тратить напрасно деньги на прогоны. Тайная канцелярия этот приговор московских коллег утвердила191.
Отменив пытки и телесные наказания безумцев, Тайная канцелярия вынуждена была умерять пыл чиновников других учреждений, а подчас и собственных московских подчиненных. Так, в 1747 году московская контора предложила перед отправкой в монастырь высечь плетьми признанного безумным однодворца Нефеда Дмитриева, утверждавшего, что к нему являлась императрица Елизавета Петровна со словами: «…ты де наш земной бог». Однако из Петербурга предписали: если Дмитриев выздоровел, выдать ему паспорт и отпустить без наказания, а если по-прежнему болен, отправить в монастырь192. В следующем году также без наказания по указу из Петербурга был отправлен в монастырь крестьянин Федор Честной, которого московская контора желала предварительно высечь кнутом. Интересно, что сперва в наказание за то, что Федор вроде бы наговорил лишнего в состоянии опьянения, московская контора предлагала наказать его плетьми и отпустить, с чем в Петербурге согласились. Но прежде чем успели привести приговор в исполнение, крестьянин сообщил сидевшему вместе с ним колоднику такое, что пришлось проводить полноценное следствие, когда же его слова не подтвердились и был установлен факт его сумасшествия, контора и предложила применить кнут193.
В 1751 году в московской конторе Тайной канцелярии началось дело орловского купца Егора Красильникова. Пойманный в Москве в «неуказном платье», он объявил себя старообрядцем и был отослан для увещевания в коломенскую духовную консисторию. Сидя там в колодничьей избе, он сообщил двум попам, своим сокамерникам, что на самом деле его зовут не Егор и что двумя ангелами он был поднят на небо, после чего и оказался в Московской конторе тайных дел. Данные им показания были столь красочны (см. приложение), что следователи усомнились в его душевном здоровье, но поскольку вел он себя, как человек вполне здравый, решено было опросить упомянутых им трех орловских священников, его мать, а также местных купцов Матвея Смирнова, Гаврилу Лопатникова и Ивана Казаринова. Соответствующее поручение было дано Орловской воеводской канцелярии, которая оперативно выявила двух проживавших в Орле Гаврил Лопатниковых и шестерых Иванов Казириновых. Опрошены были все, и все они, кроме матери Красильникова, заявили, что о его безумии им ничего не известно. В связи с этим в конторе постановили, что «безумства в нем, Красильникове, не присмотрено», и, поскольку свидетели, кроме матери, также его не подтверждают, да и сам Иван считает себя здоровым, значит, он действительно не безумен. При этом Красильников утверждал, что никому кроме двух попов, сидевших с ним в Коломне, ничего подозрительного не говорил и никто его этому не учил. Необходимо было проверить, не происки ли это раскольников «или от самого ево по раскольническому суемудрствию злодейского разсуждения». Для этого надо было поместить подозреваемого в застенок, поднять на дыбу, если будет упорствовать, наказать кнутом и вырезать ноздри, а затем отправить в монастырь, содержа его там с кляпом во рту на хлебе и воде. Для столь решительных действий необходимо было получить одобрение из Петербурга, куда был направлен «экстракт» из дела. Ответ начальства московских следователей, наверное, разочаровал, ибо он предписывал отправить подследственного в монастырь без пытки и наказания, поскольку: «…ис помянутого ево, Красильникова, неприличного показания явно видимо, что он, Красильников, находитца в несостоянии ума своего». Таким образом, диагноз был поставлен на основе показаний подозреваемого, которые в Петербурге сочли за бред сумасшедшего, что, собственно, вполне соответствовало действительности. На этом дело, впрочем, не закончилось. В январе 1752 года Егор Красильников был отправлен в тульский Иоанно-Предтечев монастырь, откуда в мае следующего года, как уже упоминалось, был привезен в Москву на новое освидетельствование, после чего был отправлен обратно. Но уже в августе 1753 года он, скинув ножные кандалы, из монастыря бежал, в связи с чем мы имеем краткое описание его внешности: «…росту средняго, лицем бел, волосы на голове и бороде русые, борода не велика, лет в тритцать». Три года Красильников провел в бегах, прежде чем был пойман в родном Орле и вновь доставлен в Москву. В своих новых показаниях он утверждал, что сбежал из‑за издевательств караульных солдат, один из которых ему говорил: «…тебя, де, и до смерти убить можно, а отпишут, де, об тебе, что умре». На сей раз в конторе решили, что раз Красильников раскольник, то следует отослать его в московскую духовную консисторию. Но из Петербурга пыл москвичей вновь охладили. Там посчитали сомнительным, что Красильников старообрядец, раз он ходит в церковь и причащается, а то, что он при этом крестится двуперстным сложением, то это решено было объяснить легковерием или детской привычкой. В общем, во избежание рецидива безумия из‑за нахождения под караулом велено было отпустить Красильникова домой с паспортом194.
Видимо, неслучайно именно в 1740‑х годах в Тайной канцелярии вспомнили и о статье Закона градского, освобождавшей безумцев от уголовной ответственности. Как уже было сказано, таких случаев было немного. Первый относится к 1741 году, когда без наказания был отпущен сказавший «слово и дело» и присланный из Нижнего Новгорода крепостной крестьянин Петр Широков, чьи односельчане дружно подтвердили его безумие195. Во втором случае речь шла о том самом Федоре Юрьеве, которого в 1744 году Арсений Мацеевич отказался принять в ярославский Спасо-Преображенский монастырь. В 1746 году из Спасо-Андроникова монастыря, где находился Юрьев, отрапортовали о его выздоровлении. Московская контора Тайной канцелярии запросила мнение петербургского начальства, которое, ссылаясь на Закон градский, разрешило Юрьева отпустить. И это при том, что он не только «слово и дело» говорил, но и матерно ругал императрицу, утверждал, что принц Антон Ульрих с братьями Биронами хотели ее убить, а потом и вовсе заявил, что Елизавета Петровна – его сестра196.
В другом случае ссылка на Закон градский появилась в деле дворового Николая Немчинова, который, в 1743 году явившись в Летний дворец в Петербурге, вел себя неадекватно. В Тайной канцелярии ничего опасного в его поведении не усмотрели и решили отдать обратно хозяину. Однако тот принять Немчинова отказался, ссылаясь на то, что «безумнаго в доме моем за отлучками моими к полку содержать невозможно». Немчинов был отправлен в Симонов монастырь, где через два года выздоровел, но в господский дом его снова брать отказались, рекомендуя определить в военную службу и зачесть помещику в качестве рекрута. Оказалось, однако, что к военной службе Немчинов не годен, и тогда-то Тайная канцелярия и постановила, что на основании Закона градского наказанию он не подлежит и следует отправить его на вечное житье в Оренбург197. Немчинов, таким образом, перестал быть крепостным, о чем свидетельствует и сохранившаяся в деле переписка об исключении его из ревизских сказок. Оренбург был одним из мест ссылки политических и уголовных преступников, которых туда отправляли после телесного наказания, и, таким образом, фактически бывший дворовый все равно понес наказание.
В 1745 году, когда в Пафнутьев монастырь в Боровске был отправлен крепостной крестьянин Яков Федотов, сообщивший своим односельчанам «я, де, генерал, я воевода, я и судья», из подушного оклада его не исключили. В 1752 году из монастыря сообщили, что Федотов нехорошо обругал государыню, после чего его снова доставили в Тайную контору для допроса, на котором он рассказал, что в монастыре жил довольно свободно – ходил за его стены за покупками и даже в местный кабак. Безумным он себя не считал, обвинения отвергал, но был все-таки отправлен обратно. В 1765 году, то есть через двадцать лет после начала его монастырского заключения, помещица, недавно купившая у прежнего хозяина деревню, в которой когда-то жил Федотов, прислала в московскую контору Тайной экспедиции челобитную с просьбой исключить его наконец из подушного оклада, поскольку другим ее крестьянам в тягость платить за него. Федотова снова доставили в Москву, снова расспросили обо всех его прежних прегрешениях, но он заявил, что ничего не помнит. С согласия императрицы было решено его отпустить, что, вероятно, не обрадовало ни его самого, ни его новую хозяйку198.
Особенным образом сложилась судьба вроде бы излечившегося Алексея Камшина, освобожденного в 1762 году решением Сенатской конторы со ссылкой на статью Закона градского после четырнадцатилетнего пребывания в московском Новоспасском монастыре. До того как заболеть, Камшин служил пищиком в том же Новоспасском монастыре, где его отец был конюхом. Таким образом, все эти четырнадцать лет он провел там же, где, видимо, жил с детства, и, хотя теперь под присмотром, но в другом статусе, без каких-либо служебных обязанностей, даром получая пропитание, как полагалось монаху199.
Возможно, изменения в политике Тайной канцелярии были связаны со сменой руководства этого учреждения: в 1746 году на место заболевшего и вскоре умершего А. И. Ушакова пришел А. И. Шувалов. Несмотря на зловещую характеристику, данную Шувалову Екатериной II200, его назначение, судя по всему, привело к определенной гуманизации использовавшихся Тайной канцелярией практик, что соответствовало общему духу царствования Елизаветы Петровны201. Служащие московской конторы, по-видимому, быстро поняли, куда дует ветер, и в последующие годы ошибок уже не повторяли. Однако теперь приходилось иногда умерять пыл не в меру ретивых служащих других учреждений. Так, в 1768 году на неправомерность наказания плетьми безумной жены однодворца Авдотьи Заварзиной, называвшей себя государыней, было указано Белгородской губернской канцелярии202.
Ил. 5. П. Ротари. Портрет графа Александра Ивановича Шувалова. Из кн.: Русские портреты XVIII и XIX столетий. Издание Великого князя Николая Михайловича, 1907. Том 3
Особый, выбивающийся из общей практики случай произошел в 1757 году – дело сержанта Преображенского полка Якова Волкова. Сержант давно был болен, признан безумным, так что воинское начальство было вынуждено приставить к нему караул. Когда же он произнес «слово и дело», его доставили в московскую контору Тайной канцелярии. Там при расспросе выяснилось: «Он, Волков, фармазон, и в квартиру ево приходят к нему незнаемо кто [с] собаками и маленькими птичками, и птички около ево летают, а собаки лезут в уши и прыгают на голову и незнаемо что кричат на него громко. И при том оной Волков говорил многие неосновательные слова». Сомнений в его душевном нездоровье у следователей не возникло; было решено отправить его в монастырь, и в московскую контору Синода ушла промемория с требованием определить, в какой именно. Вскоре пришел ответ: в Мосальский Боровенский монастырь. В конторе стали готовить сопроводительную документацию, но, судя по всему, о существовании этого, основанного еще в XIV веке монастыря чиновники московской конторы тайных дел услышали впервые и потому снова запросили синодскую контору: находится ли монастырь в черте города Мосальска или в его пригороде? Выяснилось, что в синодской конторе также необходимого «известия не имеется», но, к счастью, обнаружившийся в Чудовом монастыре монах разъяснил: Боровенский монастырь находится в двух верстах не доезжая Мосальска. В начале апреля 1757 года Яков Волков в сопровождении солдат был отправлен в Мосальск со стандартными инструкциями монастырскому начальству об условиях его содержания и благополучно доставлен на место, о чем рапортовал настоятель монастыря. Тогда же чиновники московской конторы проинформировали о деле Волкова петербургское начальство. Однако уже в начале мая из столицы пришло распоряжение, московских следователей, вероятно, озадачившее: сержанта из монастыря забрать, привезти обратно в Москву:
