Люди в темные времена
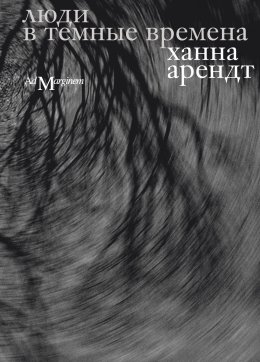
Hannah Arendt
Men in Dark Times
Harcourt, Brace & Co.
Перевод: Григорий Дашевский, Борис Дубин
Оформление: Дарья Зацарная, ABCdesign
© Hannah Arendt, 1968
Published by arrangement with Mariner Books Classics, an imprint of HarperCollins Publishers
© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2024
Предисловие
Писавшийся на протяжении двенадцати лет, когда предоставлялись повод или возможность, этот сборник очерков и статей – прежде всего о людях: о том, как они проживали свою жизнь, как двигались в мире и как на них отразилась историческая эпоха. Более непохожих друг на друга людей трудно себе представить, и будь у них возможность высказаться, они, конечно, ни за что не согласились бы собраться в одном месте. Ибо их не объединяют ни таланты, ни убеждения, ни профессия, ни среда; за одним исключением, они вряд ли и слышали друг о друге. Однако они были современниками – не считая, разумеется, Лессинга, о котором тем не менее во вступительном очерке говорится словно о современнике. Так что их объединяет эпоха, на которую пришлось время их жизни, – мир первой половины двадцатого века, с его политическими катаклизмами, моральными катастрофами и поразительным развитием искусств и наук. И хотя одних персонажей книги эта эпоха убила, а жизнь и творчество других решительным образом определила, среди них есть несколько человек, ею почти не затронутых, и нет ни одного, кто был бы ее продуктом. Те, кто ищет представителей эпохи, рупоров Zeitgeist’а[1], выразителей Истории с большой буквы, здесь их не найдет.
Тем не менее историческое время – «темные времена» из заглавия – заметно, мне кажется, в этой книге повсюду. Выражение я взяла из знаменитого стихотворения Брехта «К потомкам», которое говорит о хаосе и голоде, резне и палачах, о возмущении несправедливостью и об отчаянии, «когда несправедливость есть, а возмущения нет», о праведной, но все равно уродующей человека ненависти, о законной ярости, от которой хрипнет голос. Все это было достаточно реально, поскольку происходило публично; никакого секрета или тайны здесь не было. И тем не менее видно это было отнюдь не всем, и не так уж легко было это заметить; ибо до той самой минуты, когда катастрофа охватила всё и всех, ее скрывала не реальность, но убедительные и двусмысленные речи почти всех официальных лиц, благополучно развеивавшие – неустанно и во множестве остроумных вариаций – неприятные факты и законные тревоги. Размышляя о «темных временах» и о людях, которые в эти времена живут и движутся, мы обязаны учитывать и этот камуфляж, производимый и распространяемый «истеблишментом» – или «системой», как тогда говорили. Если функция публичной сферы – в том, чтобы проливать свет на человеческие дела, обеспечивая пространство яви, в котором люди – делом или словом, к лучшему или к худшему – могут показать, кто они такие и что могут сделать, то, значит, наступает тьма, если этот свет гасят «кризис доверия» и «закулисное правительство», речь, не раскрывающая, а заметающая под ковер то, что есть, и призывы, моральные и прочие, под предлогом защиты старых истин всякую истину низводящие до бессмысленного трюизма.
Все это не ново. Это та ситуация, которую тридцать лет назад Сартр описал в «Тошноте» (остающейся, по-моему, его лучшей книгой) в категориях нечистой совести и l’esprit de sérieux[2], – мир, в котором все, у кого есть общественное признание, принадлежат к числу salauds[3], а всё, что есть, существует в непрозрачной, бессмысленной фактичности, распространяющей помрачение и вызывающей тошноту. И это та же ситуация, которую сорок лет назад (хотя и с совершенно иными целями) описывал со сверхъестественной точностью Хайдеггер в тех разделах «Бытия и времени», где говорится о «толпе», о «болтовне» и вообще обо всем, что, не скрытое и не защищенное приватностью «я», появляется в публичной сфере. В человеческом существовании, как он его описывает, все реальное или подлинное падает жертвой подавляющей власти «болтовни», которая неодолимо возникает из публичной сферы, определяя все аспекты повседневного существования, упреждая и уничтожая смысл или бессмыслицу всего, что могло бы принести будущее. Согласно Хайдеггеру, из «непостижимой пошлости» общего повседневного мира нет иного выхода, кроме ухода в то уединение, которое философы, начиная с Парменида и Платона, противопоставляли политической сфере. Нас здесь интересует не философская существенность рассуждений Хайдеггера (на мой взгляд, неоспоримая) и не стоящая за ними традиция философского мышления, но исключительно лежащий в их основе опыт той эпохи и его понятийное описание. В данном контексте для нас важнее всего, что саркастическое, внешне противоречивое утверждение «Das Licht der Öffentlichkeit verdunkelt alles» («Свет публичности всё помрачает») било в самую суть проблемы и фактически служило всего лишь наикратчайшим резюме наличной ситуации.
«Темные времена» – в том более широком смысле, который я здесь в них вкладываю, – не тождественны чудовищностям нашего века, которые отмечены ужасающей новизной. Темные времена, напротив, не только не новы, они в истории отнюдь не редкость, – хотя, видимо, и неизвестны в истории Америки, в остальном имеющей, в прошлом и настоящем, вполне сопоставимую долю преступлений и катастроф. Вера в то, что даже в самые темные времена мы вправе ждать какого-то освещения и что это освещение приходит не столько от теорий и понятий, сколько от неверного, мерцающего и часто слабого света, который некоторые люди, в своей жизни и в своих трудах, зажигают почти при любых обстоятельствах и которым освещают отведенный им на земле срок, – вера эта служит безмолвным фоном для предлагаемого ряда портретов. Глаза, подобно нашим привыкшие к темноте, не сумеют, наверное, различить, был ли этот свет светом свечи или ослепительного солнца. Но объективная оценка кажется мне делом второстепенной важности, которое можно спокойно предоставить потомству.
Январь 1968
О человечности в темные времена: мысли о Лессинге[4]
Отличие, присужденное вольным городом, и премия, носящая имя Лессинга, – большая честь. Признаюсь, мне неизвестно, как я ее получила, и мне было не так уж легко с ней смириться. Говоря об этом, я могу полностью отстраниться от щекотливого вопроса заслуги. Как раз в этом отношении всякая почесть дает нам хороший урок скромности, поскольку подразумевает, что судить собственные заслуги подобно тому, как мы судим чужие заслуги и достижения, – не наше дело. В наградах говорит сам мир, и принять награду и выразить нашу благодарность мы можем, лишь отстранившись от себя и действуя исключительно в рамках нашего отношения к миру – к миру и публичности, предоставившим нам то пространство, в которое мы говорим и в котором нас слышат.
Но почесть не только настоятельно напоминает нам о благодарности, которую мы должны миру; она также – в очень высокой степени – нас к ней обязывает. Поскольку мы всегда можем отказаться от почести, то, принимая ее, мы не только укрепляемся в нашем положении в мире, но и берем на себя по отношению к миру своего рода обязательство. То, что человек вообще появляется в публичной сфере и что публичная сфера его принимает и утверждает, отнюдь не само собой разумеется. Только гения сам его дар вовлекает в публичную сферу и избавляет от подобных решений. Только в его случае почести всего лишь продолжают его согласие с миром и во всеуслышание дают прозвучать уже существующей гармонии, которая возникла независимо от любых соображений или решений, независимо также от любых обязательств, как некий природный феномен, вторгшийся в человеческое общество. И в таком случае действительно применимы слова, сказанные однажды Лессингом о гениальном человеке в одном из его лучших двустиший:
- Was ihn bewegt, bewegt. Was ihm gefällt, gefällt.
- Sein glücklicher Geschmack ist der Geschmack der Welt.
- (Интересное ему – интересно.
- Хорошее для него – хорошо.
- Его счастливый вкус – это вкус мира[5].)
Мне кажется, что в наше время нет ничего более сомнительного, чем наше отношение к миру, ничего менее самоочевидного, чем это созвучие с публичной сферой, к которому почесть нас обязывает и существование которого утверждает. В нашем веке даже гениальность могла развиваться лишь в конфликте с миром и с публичной сферой, хотя она естественно находит, как и всегда находила, собственное созвучие со своей аудиторией. Но мир и населяющие его люди – не одно и то же. Мир расположен между людьми, и это «между» – в гораздо большей мере, чем люди или даже человек как таковой, – сегодня предмет самой сильной тревоги и самого очевидного кризиса почти во всех странах планеты. Даже там, где мир еще остается – или поддерживается – наполовину в порядке, публичная сфера утратила силу освещать, которая изначально была частью самой ее природы. Все больше и больше людей в странах западного мира, который – начиная с заката античности – рассматривал свободу от политики как одну из основных свобод, пользуются этой свободой и уходят от мира и своих обязательств в нем. Этот уход от мира необязательно вредит самому индивиду; возможно, он даже разовьет его талант до уровня гениальности и таким образом – окольно – снова послужит миру. Но с каждым таким уходом мир несет почти доказуемую утрату; а утрачивается конкретное и обычно невосполнимое «между», которое образовалось бы между этим индивидом и его ближними.
Когда мы рассматриваем подобным образом реальный смысл публичных почестей и наград в современных условиях, то начинает казаться, что Гамбургский сенат, связав городскую премию с именем Лессинга, нашел решение этой задачи, подобное Колумбову яйцу. Ибо Лессинг так и не нашел гармонии с тогдашним миром и, видимо, никогда к ней не стремился – и все же на свой собственный лад всегда чувствовал долг перед миром. Эти взаимоотношения определялись особыми, уникальными обстоятельствами. Немецкая публика была не готова к Лессингу и, насколько я знаю, при жизни ни разу его не чествовала. Ему недоставало, по его собственной оценке, того счастливого, естественного согласия с миром, того сочетания заслуг и удачи, которое и он, и Гёте считали признаком гения. Лессинг полагал, что, благодаря своим критическим сочинениям, он обладает «чем-то очень близким к гениальности», но все же так и не достигшим той естественной гармонии с миром, когда при появлении Virtu[6] улыбается Фортуна. Всё это было, наверное, важным, но не решающим. Можно подумать, будто в какой-то момент он решил, что гения, человека «счастливого вкуса», он будет чтить, но сам последует за теми, кого однажды полуиронически назвал «мудрецами, <…> колеблющими столпы известнейших истин, куда бы ни упал их взгляд». Он относился к миру не позитивно и не негативно, но радикально критически и – по отношению к публичной сфере своего времени – совершенно революционно. Но его отношение всегда включало и долг перед миром, стояло на прочной почве мира и никогда не переходило к крайностям сентиментального утопизма. В Лессинге темперамент революционера соединялся со своеобразной пристрастностью, которая впивалась в конкретные детали с преувеличенной, почти педантической дотошностью и дала повод ко многим недоразумениям. Одним из элементов величия Лессинга было то, что он никогда не позволял так называемой объективности заслонить реальное отношение к миру и реальный статус в мире тех вещей и лиц, которые служили предметом его нападок или похвал. Это не прибавило ему популярности в Германии, где истинную природу критики понимают хуже, чем где бы то ни было еще. Немцы не понимали, что справедливость имеет мало общего с объективностью в обычном смысле.
Лессинг никогда не заключал перемирия с миром, в котором жил. Ему нравилось «давать отпор предрассудкам и говорить правду придворной черни». И как бы дорого ни обходились ему эти удовольствия, они оставались удовольствиями в прямом смысле слова. Сам он однажды – пытаясь дать себе отчет в сути «трагического удовольствия» – сказал, что все страсти, даже самые неприятные, приятны постольку, поскольку они суть страсти, потому что «они заставляют нас… в большей степени сознать нашу собственную реальность». Эта фраза поразительно напоминает древнегреческую теорию страстей, в которой гнев, например, считался приятным чувством, а надежда наряду со страхом считалась злом. В основе такой оценки – различия в степени реальности, в точности как у Лессинга; но реальность здесь измеряется не по силе, с какой страсть потрясает душу, а по тому сколько действительности страсть сообщает душе. В надежде душа перескакивает через действительность – подобно тому как в страхе она от действительности отшатывается. Зато гнев – и прежде всего такой гнев, как у Лессинга, – обнажает и разоблачает мир, равно как смех Лессинга в «Минне фон Барнхельм» зовет примириться с миром, найти в нем свое место – но с иронической улыбкой, то есть не отдаваясь ему всецело. Повышенное сознание реальности, которое само по себе есть удовольствие, происходит из страстной открытости миру и любви к миру. «Трагического удовольствия» не ослабляет даже знание о том, что мир может и погубить человека.
В эстетике Лессинга (в противоположность эстетике Аристотеля) даже страх понимается как разновидность сострадания – а именно как сострадание, которое мы испытываем к самим себе, – видимо, потому что Лессингу хочется устранить из страха бегство от мира, чтобы даже и страх оправдать хотя бы в качестве страсти, то есть в качестве такого аффекта, при котором мы сами на себя действуем так же, как обычно на нас действуют другие люди в мире. Теснейшим образом с этим связано то, что для Лессинга сущностью поэзии было действие, а не как для Гердера сила – «магическая сила, действующая на мою душу», или как для Гёте – оформленная природа. Для Лессинга дело было именно не в «завершенности произведения искусства в себе самом», которую Гёте считал «вечным, непреложным требованием», но (и здесь он снова заодно с Аристотелем) в воздействии на зрителя, который, так сказать, служит представителем мира – точнее, того мирского пространства, которое образуется между художником или поэтом и его ближними как общий для них мир.
Лессинг познавал мир в гневе и смехе, а гнев и смех по сути своей пристрастны. Поэтому он не мог или не хотел судить о произведении искусства «в себе, независимо от его действия в мире, и поэтому в своей полемике он мог нападать или защищать соответственно тому, как обсуждаемое дело оценивалось публикой, и совершенно независимо от того, истинным оно было или ложным. Не из одного только рыцарства он говорил, что «оставляет в покое тех, кого все колотят», – это еще и вошедшая в инстинкт забота об относительной правоте даже тех мнений и позиций, которые вполне заслуженно терпят поражение. Так, даже в полемике о христианстве он не занимал постоянной позиции, но (как он сам однажды сказал с великолепным самопониманием) невольно начинал в нем сомневаться, «чем убедительнее одни мне его обосновывали», и невольно пытался «сохранить его в целости у себя в сердце, чем наглее и победоноснее другие его сокрушали». Но это значит, что, когда все остальные спорили об «истине» христианства, он защищал главным образом его место в мире – то тревожась, как бы христианство снова не стало притязать на господство, то страшась, как бы оно совсем не исчезло из мира. С исключительной дальновидностью Лессинг понял, что просвещенная теология его эпохи «под видом превращения нас в разумных христиан превращает нас в крайне неразумных философов», – и это понимание проистекало не только из пристрастности к разуму. Главной заботой Лессинга во всей этой полемике была защита свободы, которой в намного большей степени угрожали те, кто хотел «заставить верить доказательствами», нежели те, кто считали веру даром божественной благодати. Но, кроме того, была еще и забота о мире, в котором, по его мнению, и у религии, и у философии должно быть свое место – но места несовпадающие, чтобы, «разделенные перегородкой, каждая шла бы своим путем, не мешая другой».
Критика по Лессингу всегда берет сторону мира, понимая и оценивая всякую вещь в соответствии с ее положением в мире в данный момент. Поэтому такое умонастроение никогда не может превратиться в определенное мировоззрение, которое, однажды принятое, остается неуязвимо для всякого последующего опыта в мире, поскольку прочно прикреплено к единственно возможной перспективе. Нам крайне необходимо научиться у Лессинга такому умонастроению – но учение это нам дается трудно, и причина – не в нашем недоверии к Просвещению или к вере восемнадцатого века в человечность. Между нами и Лессингом стоит не восемнадцатый, а девятнадцатый век. Одержимость девятнадцатого века историей и его приверженность идеологии по-прежнему так влиятельны в политической мысли нашего времени, что совершенно свободное мышление, которое не пользуется костылями ни истории, ни логической принудительности, не имеет в наших глазах никакого авторитета. Разумеется, мы еще помним, что для мышления требуется не только ум и глубокомыслие, но и мужество. Но нас поражает, что, защищая мир, Лессинг ради него жертвовал даже непротиворечивостью, которую мы считаем непременной аксиомой для всякого пишущего и говорящего. Ибо он со всей серьезностью утверждал: «Я не обязан разрешать все трудности, какие создаю. Пусть мои мысли будут между собой слабо связаны, пусть даже по видимости одна другой противоречат: лишь бы это были мысли, в которых читатели найдут материал, чтобы думать самостоятельно». Он хотел не только сам быть свободен от чужого принуждения, но и никого не принуждать – как силой, так и доказательствами. Тиранию тех, кто пытается господствовать над мышлением с помощью рассуждений и софизмов, с помощью принудительной аргументации, он считал более опасной для свободы, чем ортодоксию. Но прежде всего он никогда не принуждал себя самого, и вместо того чтобы с помощью последовательной системы запечатлеть свою личность в истории, он – как он сам сознавал – рассеял по миру „лишь fermenta cognitionis“»[7].
Соответственно, знаменитое Selbstdenken[8] (самостоятельное мышление) Лессинга – отнюдь не активность замкнутого в себе, целостного, органически выросшего индивида, который, уже сформировавшись, присматривает себе в мире самое благоприятное место для развития, чтобы окольным путем мышления добиться гармонии с миром. Для Лессинга мышление возникает не из индивида и не является выражением «Я». Наоборот, человек – по Лессингу, созданный для действия, а не для рассуждения – выбирает подобное мышление, так как находит в нем еще один способ свободно двигаться в мире. Из всех конкретных свобод, приходящих на ум, когда мы слышим слово «свобода», свобода движения – не только исторически самая древняя, но и самая элементарная. Возможность отправиться куда угодно – прототипический жест свободы, и наоборот, ограничение свободы движения с незапамятных времен служило предпосылкой порабощения. Свобода движения служит непременным условием также и для действия, и именно в действии люди получают основной опыт свободы в мире. Когда у человека отбирают публичное пространство – созданное человеческим взаимодействием и само наполняющееся сюжетами и событиями, которые развиваются в историю, – он отступает в свободу мышления. Путь, разумеется, очень древний. И, кажется, отступление такого рода пришлось совершить и Лессингу. Когда мы слышим об уходе из мирского рабства в свободу мысли, нам, естественно, вспоминается стоический образец, поскольку исторически именно он оказался самым влиятельным. Однако стоицизм, если говорить точно, представлял собой не столько уход от действия к мышлению, сколько бегство из мира в собственное «я» – в надежде, что оно сумеет сохраниться в суверенной независимости от внешнего мира. К Лессингу это не имеет никакого отношения. Лессинг уходил в мышление, но отнюдь не в свое «я», и если для него существовала тайная связь между действием и мышлением (я в этом убеждена, хотя доказать цитатами не могу), то заключалась она в том, что как действие, так и мышление протекают в форме движения и, значит, в основе и того и другого лежит свобода – свобода движения.
Лессинг, видимо, никогда не верил, что действие можно заменить мышлением или что свобода мысли может стать заменой для свободы, свойственной действию. Он прекрасно знал, что живет «в самой рабской» в то время стране Европы, хотя ему и позволялось «пускать в оборот сколько угодно глупостей против религии». Невозможно же было «возвысить голос за права подданных… против эксплуатации и деспотизма, иначе говоря – действовать. Тайная связь между его самостоятельным мышлением и действием заключалась именно в том, что он никогда не привязывал свое мышление к результатам. Более того, он открыто отрекался от стремления к результатам, которые бы окончательно разрешили проблемы, с которыми сталкивалась его мысль. Его мышление не было поисками истины, поскольку всякая истина, которая оказывается результатом мыслительного процесса, необходимо прекращает движение мысли. «Зародыши познания», которые Лессинг распространял в мире, должны были не сообщать выводы, но побуждать других людей к самостоятельному мышлению – и с единственной целью завязать разговор между мыслящими людьми. Мышление Лессинга – не (платоновский) безмолвный диалог человека с собой, но предвосхищенный диалог с другими, и поэтому оно по сути своей полемично. Но даже если бы ему удалось завязать разговор с другими самостоятельно мыслящими и тем самым избавиться от одиночества, которое – особенно у него – парализует любые способности, то и тогда он вряд ли бы поверил, что теперь-то все наконец улажено. Разладился и никаким диалогом и никаким самостоятельным мышлением не мог быть налажен сам мир – то есть то, что возникает между людьми и где все, что индивиды несут в себе от рождения, становится зримо и слышно. За двести лет, отделяющих нас от времени Лессинга, многое в этом отношении переменилось, но мало что – в лучшую сторону. «Столпы известнейших истин» (если сохранить его метафору), тогда поколебленные, сегодня лежат в обломках, и чтобы их колебать, уже не требуется ни критики, ни мудрецов. Стоит лишь осмотреться, чтобы понять, что мы стоим на настоящей свалке рухнувших и разбитых столпов.
В определенном смысле это могло бы быть и преимуществом – для мышления, которое свободно, без костылей, движется по неосвоенной местности, не нуждаясь в столпах и опорах, в критериях и традициях. Но этому преимуществу трудно радоваться в том мире, в каком мы живем. Ибо уже давно стало ясно, что столпы истин служили еще и столпами политического миропорядка, а мир – в отличие от обитающих и свободно движущихся в нем людей – нуждается в гарантирующих устойчивость и прочность опорах, без которых он не может предоставить смертным людям необходимое им хоть сколько-нибудь надежное и хоть сколько-нибудь непреходящее жилище. Конечно, живая человечность человека убывает в той мере, в какой он отказывается от мышления, доверяется известным или даже неизвестным истинам и тратит их, будто монеты, которыми рассчитывается за всякий опыт. Но с миром дело обстоит точно наоборот. Мир становится нечеловеческим, неприспособленным для людских нужд – которые суть нужды смертных, – когда он ввергнут в движение, в котором уже не остается ничего прочного. Поэтому, начиная с грандиозной неудачи Французской революции, люди регулярно пытались восстановить старые столпы – чтобы раз за разом наблюдать, как они сперва колеблются, а потом опять рушатся. На место «известнейших истин» встали самые страшные заблуждения, но ошибочность новых учений не служит старым истинам ни доказательством, ни опорой. В политической сфере реставрация никогда не может стать заменой для нового основания, но остается в лучшем случае вынужденной мерой, которая становится неизбежна, если акт основания – чье имя революция – не удался. Но точно так же неизбежно, что в подобной ситуации – тем более затянувшейся на долгий срок – постоянно растет недоверие людей к миру и ко всем аспектам публичной сферы. Ибо хрупкость этих постоянно реставрируемых опор публичного порядка с каждым новым крушением, естественно, становится все очевидней, и в конечном счете публичный порядок оказывается основан на априорном общем доверии к тем самым «известнейшим истинам», в которые вряд ли хоть кто-то еще верит в глубине души.
История знает немало эпох, когда пространство публичности помрачается и мир становится таким сомнительным, что люди хотят от политики только одного – чтобы она хотя бы уважала их жизненные интересы и личную свободу. Эпохи эти можно с полным правом назвать «темными временами» (Брехт). Те, кто в такие времена жил и ими был сформирован, видимо, всегда были склонны презирать мир и публичное пространство и, насколько возможно, их игнорировать – или даже их перескакивать и оказываться за ними, словно мир всего лишь фасад, за которым скрываются сами люди, – чтобы найти взаимопонимание с людьми, не обращая внимания на лежащий между ними мир. В такие времена – при благоприятных условиях – развивается особый вид человечности. Чтобы верно оценить ее возможности, нужно вспомнить «Натана Мудрого», подлинная тема которого – «Достаточно быть человеком» – пронизывает пьесу. Этой теме соответствует призыв «Будь моим другом!», проходящий по всей пьесе как лейтмотив. Можно было бы вспомнить и о «Волшебной флейте», которая равным образом имеет темой человечность, более глубокую, нежели нам обычно представляется, поскольку мы учитываем только расхожие теории восемнадцатого века о фундаментальной человеческой природе, будто бы лежащей в основе многообразия наций, народов, племен и религий, на которые делится человеческий род. Если бы подобная человеческая природа существовала, она была бы природным феноменом и называть соответствующее ей поведение «человеческим» значило бы допускать, что человеческое и природное поведение суть одно и то же. В восемнадцатом веке величайшим и исторически самым влиятельным адвокатом этого вида человечности был Руссо, для которого общая всем людям человеческая природа проявлялась не в разуме, а в сострадании, во врожденном неприятии, как он писал, вида страдающего ближнего. Примечательно, что Лессинг также утверждал, что лучший человек – это человек самый сострадательный. Но Лессинга тревожил эгалитарный характер сострадания – то обстоятельство, что мы, как он указывал, испытываем «нечто подобное состраданию» и по отношению к злодею. Руссо это не беспокоило. Как и Французская революция, опиравшаяся на его идеи, он усматривал осуществление человечности в fraternité, в братстве. Лессинг же центральным феноменом, в котором единственно и доказывается истинная человечность, считал дружбу – избирательную в той же степени, в какой сострадание эгалитарно.
Прежде чем обратиться к лессинговской идее дружбы и ее политическому значению, остановимся ненадолго на братстве, как его понимал восемнадцатый век. Это братство прекрасно знал и Лессинг; он говорил о «филантропических чувствах», о братской привязанности к людям, проистекающей из ненависти к миру, в котором с людьми обращаются «бесчеловечно». Однако для нашей цели важно, что именно в подобном братстве человечность чаще всего проявляется в «темные времена». Этот вид человечности становится практически неизбежен, когда темнота времен настолько сгущается для некоторых групп людей, что удаление от мира уже не зависит от них самих, уже не служит предметом их выбора или усмотрения. В истории человечность в форме братства неизменно появляется среди гонимых народов и порабощенных групп; и видимо, было совершенно естественно в Европе восемнадцатого века обнаружить ее именно у евреев – тогда впервые вошедших в литературу. Такая человечность – великая привилегия народов-париев; это преимущество перед остальными людьми париям нашего мира доступно всегда и в любых условиях. Привилегия эта куплена задорого; ей часто сопутствует настолько радикальная утрата мира, настолько страшная атрофия всех реагирующих на него органов – начиная со здравого смысла, посредством которого мы ориентируемся в общем для нас и для других мире, и кончая чувством прекрасного, или вкусом, посредством которого мы мир любим, – что в крайних случаях, когда пребывание в положении парий длилось веками, можно говорить о настоящей безмирности. А безмирность, увы, – это всегда форма варварства.
С этой, как бы органически развившейся, человечностью дело обстоит так, словно под гнетом гонений гонимые сгрудились до того плотно, что промежуточное пространство, которое мы назвали «мир» (и которое, разумеется, существовало между ними до гонений, поддерживая между ними какую-то дистанцию), попросту исчезло. При этом возникает теплота человеческих взаимоотношений, поражающая тех, кто имел случай общаться с такими группами, как почти физический феномен. Разумеется, я не собираюсь отрицать величие этой теплоты. В своем полном развитии она иногда воспитывает добрых и просто хороших людей, какими обычно люди едва ли способны стать. Часто она оказывается также источником витальности – радости просто оттого, что ты жив, как если бы жизнь полностью вступала в свои права лишь среди тех, кто – в категориях мира – унижен и оскорблен. Но при этом нельзя забывать, что обаяние и насыщенность той атмосферы, которая здесь возникает, вызваны еще и тем обстоятельством, что париям этого мира дана великая привилегия – с них снято бремя забот о мире.
У братства, добавленного Французской революцией к свободе и равенству, которые всегда характеризовали политическую сферу человека, – у этого братства всегда имелось естественное место среди угнетенных и гонимых, эксплуатируемых и униженных, которых восемнадцатый век называл несчастными – les malhereux, а девятнадцатый – горемыками, les misérables. Сострадание, и для Лессинга, и для Руссо (хотя в очень разных контекстах) сыгравшее столь важную роль в открытии и подтверждении общей для всех людей человеческой природы, центральным мотивом революционера впервые становится у Робеспьера. И с тех пор оно оставалось неотъемлемым и важным элементом истории европейских революций. При этом сострадание, безусловно, природно-тварный аффект, невольно охватывающий любого нормального человека при виде чужого страдания, сколь бы чужд нам сам страдалец ни был, и поэтому оно, видимо, казалось идеальной основой для чувства, которое, распространившись на все человечество, создало бы общество, в котором все люди действительно стали бы братьями. С помощью сострадания революционно настроенная гуманность восемнадцатого века пыталась достичь солидарности со всяким несчастьем и горем – и тем самым проникнуть в исконную сферу братства. Но вскоре выяснилось, что этот вид человечности, чистейшая форма которого – привилегия парий, не подлежит передаче и его нелегко присвоить тем, кто к числу парий не относится. Здесь мало и сострадания, и даже реального соучастия в страданиях. Мы не можем сейчас обсуждать тот вред, который сострадание причинило современным революциям, пытаясь улучшить участь несчастных вместо того, чтобы установить справедливость для всех. Но чтобы взглянуть на себя и на современный способ чувствовать несколько со стороны, нужно вспомнить, что думал о сострадании и человечности братства древний мир, намного более опытный во всех политических вопросах, чем мы.
Эпоха Нового времени и античность согласны в одном пункте: для обеих сострадание есть нечто вполне естественное, от чего человеку не дано избавиться, как, например, и от страха. Тем поразительней, что точка зрения античности резко противоречит тому почтению, которым сострадание окружено в Новое время. Ясно сознавая аффективную природу сострадания, которое охватывает нас, подобно страху, и которое мы так же не в силах отстранить, древние считали, что самый сострадательный человек заслуживает звания наилучшего не в большей степени, чем самый пугливый. Во всяком случае, обе эмоции, будучи исключительно пассивными, делают действие невозможным. Поэтому Аристотель и объединял страх и сострадание. Однако было бы совершенно ошибочно сводить сострадание к страху (как если бы чужие страдания возбуждали в нас страх за себя) или страх к состраданию (как если бы, испытывая страх, мы чувствовали сострадание к самим себе). Мы еще сильнее удивляемся, когда узнаем (Цицерон. Тускуланские беседы. III. 21), что на одну ступень стоики ставили сострадание и зависть: ибо человек, страдающий от чужого несчастья, страдает и от чужого благополучия. Сам Цицерон подходит значительно ближе к сути дела, когда спрашивает (Там же. IV. 56): «Почему лучше сострадать, чем помогать, если ты можешь помочь? Разве без сострадания мы не можем быть щедрыми?» Иными словами, неужели люди настолько скаредны, что не могут поступать человечно, если их не побуждает и, так сказать, не принуждает собственная боль при виде чужих страданий?
Оценивая эти аффекты, нельзя не поставить вопрос о бескорыстии или, точнее, вопрос об открытости другим, которая, в сущности, является предпосылкой «человечности» во всех смыслах этого слова. И как раз в отношении открытости соучастие в чужой радости очевидным образом абсолютно превосходит соучастие в страдании. Разговорчива радость, а не горе, и подлинно человеческий диалог отличается от простой болтовни и даже обсуждения тем, что он насквозь пронизан удовольствием от другого человека и от того, что он говорит. Можно сказать, что такой разговор настроен на радостный лад. Препятствует этой радости зависть – наихудший порок в области человечности; но собственная противоположность сострадания – не зависть, а жестокость, которая является аффектом не в меньшей степени, чем сострадание, ибо она есть извращение – удовольствие, испытанное тогда, когда естественно было бы чувствовать боль. Решающий фактор – что удовольствие и боль, подобно всему инстинктивному, молчаливы, и хотя вполне могут издавать звуки, к речи и тем более к диалогу они не располагают.
Все это – лишь иной способ сказать, что человечность братства вряд ли пристала тем, кто сам не принадлежит к униженным и оскорбленным и способен причаститься этой человечности лишь посредством сострадания. Право на теплоту, дарованное гонимым народам, нельзя распространить на тех, на кого иное положение в мире налагает ответственность за мир, не позволяя им участвовать в веселой беззаботности парий. Верно, однако, и то, что в «темные времена» теплота, заменяющая париям свет, обладает сильной привлекательностью для всех, кому так стыдно за мир, каков он есть, что им хочется укрыться в невидимость. А в невидимости, в той темноте, где человек, спрятавшись сам, может уже не смотреть и на видимый мир, лишь теплота и братство тесно сгрудившихся людей могут возместить ту жуткую ирреальность, какую человеческие отношения приобретают всякий раз, когда развиваются в абсолютной безмирности, не соотнесенные с общим для всех людей миром. В таком состоянии безмирности и ирреальности нет ничего естественнее вывода, будто общее для всех людей – это не мир, а «человеческая природа» того или иного рода. Какого именно рода – это уже зависит от интерпретатора; при этом безразлично, ставится ли на первый план разум как всеобщее достояние или какое-то общее для всех чувство, например, способность сострадать. Рационализм и сентиментализм восемнадцатого века – лишь две стороны одной медали; и тот и другой одинаково могли привести к всплеску энтузиазма, при котором индивид ощущает узы братства со всеми людьми. В любом случае эта рациональность и эта сентиментальность служили лишь психологическим, расположенным в сфере невидимости, возмещением за утрату общего видимого мира.
Итак, эта «человеческая природа» и сопровождающие ее чувства братства проявляются только в темноте и, следовательно, не могут быть распознаны в мире. Более того, в условиях видимости они, подобно призракам, рассеиваются без остатка. Человечность униженных и оскорбленных никогда еще не переживала час освобождения даже на минуту. Это не значит, что она вообще не имеет значения, – ведь она действительно делает унижение и оскорбление переносимыми; но это значит, что в политических категориях она абсолютно несущественна.
Эти и подобные вопросы о верной позиции в «темные времена», разумеется, особенно хорошо знакомы тому поколению и той категории людей, к которым принадлежу я. Если согласие с миром, неотъемлемый элемент принятия почестей, в наши времена и в условиях нашего мира ни для кого не было самоочевидным, то уж для нас – тем более. По праву рождения почести нам точно не принадлежали, и было бы неудивительно, если бы мы уже оказались неспособны на ту открытость миру и непринужденность, какие требуются, чтобы с простой благодарностью принять то, что мир дает от чистого сердца. Даже те из нас, кто решался выйти со своими речами и текстами в публичную сферу, поступали так не из-за какой-то изначальной страсти к публичности и едва ли ожидали или надеялись получить печать публичного одобрения. Гораздо естественнее для них было даже и в публичной сфере держаться лишь по-человечески, что, на самом деле, невозможно; во всяком случае, даже публично они обычно обращались лишь к своим друзьям или к тем незнакомым разрозненным читателям и слушателям, с которыми всякий говорящий и пишущий невольно чувствует неясную братскую связь. Боюсь, в своих усилиях они чувствовали очень слабую ответственность перед миром; скорее, их усилиями руководила надежда сберечь какой-то минимум человечности в ставшем бесчеловечным мире и в то же время, насколько возможно, противостоять жуткой ирреальности чистой человечности, то есть безмирности, – каждый на свой лад, а некоторые – еще и пытаясь, насколько в их силах, все-таки понять даже бесчеловечность и мысленно примириться даже с чудовищным.
Так настойчиво подчеркивая свою принадлежность к группе евреев, в относительно раннем возрасте изгнанных из Германии, я хочу предвосхитить недоразумения, слишком легко возникающие, когда говоришь о человечности. В этом контексте я не могу умолчать о том, что в течение многих лет единственным уместным ответом на вопрос: «Кто ты?» – я считала ответ: «Еврейка». Лишь такой ответ учитывал реальность гонений. А позицию, которая на приказание: «Подойди поближе, еврей!» – отвечает (по сути, а не дословно), как Натан: «Я человек», – такую позицию я бы сочла гротескным и опасным уклонением от реальности.
Позвольте мне кратко разъяснить и другое возможное недоразумение. Произнося слово «еврей», я не имею в виду какой-то особенный человеческий тип, как если бы еврейская участь была или представительной, или образцовой для участи человечества. (Без идеологических искажений подобный тезис можно было бы хоть сколько-нибудь убедительно защищать только в последний период нацистского режима, когда, действительно, евреи и антисемитизм эксплуатировались лишь для того, чтобы развязать и поддерживать в силе расистскую программу уничтожения, составлявшую ключевую часть данной формы тоталитарного режима. Хотя нацистское движение с самого начала имело тоталитарную тенденцию, в свои ранние годы режим Третьего рейха тоталитарным отнюдь не был. «Ранними годами» я называю первый период, который длился с 1933-го по 1938-й). Отвечая «еврейка», я имела в виду даже не какую-то исторически нагруженную или отмеченную реальность. Я просто признавала политическую ситуацию, в результате которой моя принадлежность к данной группе перевешивала все другие способы личной идентификации или, точнее, предрешала их в смысле анонимности, безымянности. Сегодня такая позиция показалась бы позой. Сегодня, следовательно, легко было бы указать, что те, кто реагировал подобным образом, не очень далеко продвинулись в школе человечности, угодили в расставленную Гитлером ловушку и, соответственно, по-своему подчинились духу гитлеризма. К сожалению, здесь имел силу сам по себе очень простой, однако как раз в эпоху клеветы и гонений с трудом усваиваемый принцип: сопротивляться можно лишь в том самом качестве, в каком ты являешься объектом нападения. Те, кто отвергает подобную идентификацию со стороны враждебного мира, могут ощущать восхитительное превосходство над этим миром; но подобное превосходство действительно будет уже не от мира сего, будет превосходством более или менее хорошо укрепленного воздушного замка.
Когда я так прямо раскрываю персональную подоплеку моих размышлений, то тем, кто знает о судьбе евреев лишь с чужих слов, может показаться, что я говорю из какой-то школы – школы, которую они не посещали и уроки которой их не касаются. Однако в тот же самый период в Германии существовал феномен, известный как «внутренняя эмиграция», и те, кому знаком этот опыт, конечно, узнают некоторые вопросы и конфликты, родственные тем проблемам, о которых я говорила, не только в формально-структурном смысле. Как ясно из самого термина, «внутренняя эмиграция» была своеобразно двойственным феноменом. С одной стороны, она подразумевала, что некоторые люди в Германии живут так, словно уже не принадлежат этой стране, словно эмигранты; и с другой стороны, она подразумевала, что в реальности они не эмигрировали, но удалились во внутреннюю сферу, в невидимость мышления и чувства. Было бы ошибкой считать, что такая форма эмиграции, уход из мира во внутреннюю сферу, существовала только в Германии, – и такой же ошибкой было бы полагать, что эта эмиграция закончилась вместе с концом Третьего рейха. Но в то – самое темное – из времен и в Германии, и за ее пределами особенно сильным было искушение перед лицом казавшейся невыносимой реальности удалиться из мира и его публичного пространства во внутреннюю жизнь или же просто игнорировать этот мир ради мира воображаемого, «каким он должен быть» или каким он некогда был.
В последнее время в Германии много спорят о слишком широко, к сожалению, распространенной тенденции: вести себя так, словно периода с 1933 по 1945 год вообще не было; словно эту часть немецкой и европейской, а значит, и всемирной истории можно спокойно вычеркнуть из учебников; словно дело лишь в том, чтобы забыть «негативные» аспекты прошлого и подменить ужасное сентиментальностью. (Всемирный успех «Дневника Анны Франк» ясно показал, что пределами Германии эта тенденция не ограничена.) Сложилась гротескная ситуация, когда от немецкой молодежи скрывают факты, известные любому школьнику, живущему по другую сторону границы. За всем этим, разумеется, кроется искренняя растерянность. И вот эта неспособность прямо посмотреть на факты прошлого, вполне возможно, непосредственное наследие внутренней эмиграции так же, как, несомненно, в большой мере и более непосредственное следствие гитлеровского режима – то есть как следствие организованной вины, в которую нацисты вовлекли всех жителей немецких земель, как внутренних эмигрантов, так и убежденных членов партии и колеблющихся попутчиков. Именно эту организованную вину союзники попросту включили в свой роковой тезис о коллективной вине. В этом причина той глубокой неловкости немцев при любом обсуждении вопросов прошлого, которая бросается в глаза любому иностранцу. Насколько трудно отыскать здесь разумную позицию, яснее всего выразилось в том клише, что прошлое все еще «не преодолено», и в убеждении, свойственном как раз благонамеренным людям, что первоочередная задача – «преодоление прошлого». Наверное, преодолеть нельзя вообще никакое прошлое, но уж прошлое гитлеровской Германии – безусловно. Самое большее, на что здесь можно рассчитывать, – это точно знать, чем прошлое было, и терпеть это знание, а затем ждать, что из этого знания и терпения выйдет.
Возможно, я смогу лучше это объяснить на менее болезненном примере. После Первой мировой войны мы пережили «преодоление прошлого» в настоящем половодье описаний войны, самого разного рода и качества; разумеется, это происходило не только в Германии, но и во всех странах-участницах. Тем не менее потребовалось почти тридцать лет, чтобы появилось произведение искусства, так прозрачно выявляющее внутреннюю правду событий, что стало возможно сказать: да, вот так все и было. А в этом романе – в «Притче» Уильяма Фолкнера – очень немногое описано, еще меньше объяснено и совсем ничего не «преодолено»; его финал – слезы, которыми плачет и читатель, а кроме этого остается лишь «трагический эффект» или «трагическое удовольствие» – потрясение, позволяющее человеку примириться с тем, что такая вещь, как эта война, вообще могла произойти. Я сознательно упомянула трагедию, так как она лучше, чем другие жанры, изображает процесс познания. Трагический герой становится знающим, заново переживая содеянное им теперь уже в форме претерпевания, страдания, и в этом «патосе», в претерпевании содеянного, взаимосвязь поступков впервые превращается в событие, в значимую целостность. Трагедия изображает перелом от действия к страданию – в этом и состоит трагическая перипетия. Но даже нетрагические сюжеты становятся подлинными событиями, лишь когда они в форме страдания заново пережиты обращенной вспять, познающей памятью. Такая память может заговорить, лишь когда негодование и праведный гнев, побуждающие нас к действию, умолкнут – а на это нужно время. Преодолеть прошлое так же невозможно, как отменить его. Но можно с ним примириться. Форма, в которой это происходит, – поминальный плач, возникающий из всякого воспоминания. Как сказал Гёте:
- Der Schmerz wird neu, es wiederholt die Кlage
- Des Lebens labyrinthisch irren Lauf.
- (Воскресла боль, и повторяет плач
- Плутавшую, как в лабиринте, жизнь.)
Трагическое потрясение от повторения-плача затрагивает один из ключевых элементов всякого действия; оно устанавливает его смысл и то прочное значение, которое и входит в историю. В отличие от других присущих действию элементов – прежде всего, в отличие от предумышленных целей, побудительных мотивов и руководящих принципов, которые все становятся видимы в ходе самого действия, – смысл совершенного поступка раскрывается лишь тогда, когда само действие завершено и стало пригодной для рассказывания историей. В той мере, в какой «преодоление» прошлого вообще возможно, оно заключается в повествовании о случившемся; но и такое повествование, формирующее историю, не разрешает проблем и не утишает страданий; оно ничего не преодолевает окончательно. Скорее, пока смысл событий жив – а смысл этот может сохраняться в течение очень долгого времени, – «преодоление» прошлого может принять форму вечно повторяющегося рассказывания. Перед поэтом (в самом широком смысле слова) и перед историком (в самом конкретном смысле слова) стоит задача – запустить процесс рассказывания и вовлечь в этот процесс нас. А мы, в большинстве своем не поэты и не историки, хорошо знакомы с природой этого процесса по нашему собственному жизненному опыту: ведь и нам нужно вспоминать важные события нашей собственной жизни, пересказывая их себе и другим. Так мы постоянно готовим путь для поэзии в широком смысле – как человеческой возможности; мы постоянно ждем, что она прорвется в каком-то человеке. Когда это случается, вспоминающее пересказывание событий на какое-то время прекращается и временно завершенный рассказ, как еще одна вещь, вещь мира среди других вещей мира, прибавляется к мировому запасу. Овеществленное поэтом или историком, повествование истории обретает прочность и постоянство. Так рассказ получает место в мире, где он переживет нас. Там он и может жить – еще одной историей среди многих. У этих историй нет вполне отделимого от них смысла – и это тоже нам хорошо знакомо по нашему непоэтическому опыту. Никакая философия, никакой анализ, никакой афоризм, сколь угодно глубокий, не сравнятся по интенсивности и богатству смысла с правильно рассказанной историей.
Я отвлеклась от темы лишь внешне. Вопрос стоит так: сколько реальности должно сохраниться в мире, который стал бесчеловечным, чтобы человечность не свелась к пустой фразе или призраку? Или, иными словами: до какой степени мы остаемся должниками мира, даже будучи из него изгнаны или уйдя сами? Поскольку я, разумеется, не утверждаю, что «внутренняя эмиграция», бегство из мира в сокрытость, из публичной жизни в анонимность (когда это действительно было бегством, а не просто предлогом для того, чтобы делать то же, что и все остальные, но с внутренними оговорками, которые бы спасали твою совесть), не были оправданной – а во многих случаях единственно возможной – позицией. В темные времена бессилия бегство из мира всегда оправданно постольку, поскольку мы не закрываем глаза на реальность, но постоянно имеем ее в виду как то, от чего мы бежим. Когда люди выбирают этот путь, частная жизнь тоже способна сохранить отнюдь не незначительную действительность, хотя и остается бессильной. Важно только сознавать, что реальность этой действительности заключается не в ее внутренне-личностном характере и возникает не из приватности как таковой, а благодаря связи с тем самым миром, из которого мы ушли. Нужно сознавать, что мы постоянно убегаем и что бегство есть та действительность, в которой нам сообщает о себе мир. Поэтому же подлинная сила эскапизма берется из гонений и личная сила убегающих растет с ростом гонений и опасности.
В то же время нельзя не заметить ограниченность политического значения такого существования, даже когда оно поддерживается в чистоте. Его ограниченность предопределена тем, что сила и власть – не одно и то же; что власть появляется лишь там, где люди действуют совместно, а не там, где они становятся сильнее как индивиды. Никакая сила не бывает настолько большой, чтобы заменить власть; когда бы сила ни сталкивалась с властью, сила всегда капитулирует. Но даже сила убегать и в бегстве сопротивляться – как раз лежащая в сфере еще возможного для отдельного человека в его человечности – не может возникнуть тогда, когда человек перескакивает или забывает реальность, – считаем ли мы себя слишком хорошими и благородными, чтобы вообще вступать в схватку с таким миром, или же не имеем сил вынести абсолютную «негативность» господствующих сейчас в мире условий. Как соблазнительно было, например, просто игнорировать невыносимо глупую болтовню нацистов. Но как бы ни хотелось поддаться такому искушению и уютно укрыться во внутреннюю жизнь, результатом всегда будет утрата – заодно с действительностью – и самой человечности.
Так, в случае дружбы между немцем и евреем в условиях Третьего рейха не было бы знаком человечности, если бы друзья сказали: разве мы оба не люди? Это было бы просто уклонением от реальности и от общего для них обоих в это время мира, но отнюдь не сопротивлением миру, как он есть. Закон, запрещавший всякое общение между евреями и немцами, люди, отрицавшие реальность такого различия, могли обходить, но не игнорировать. В соответствии с человечностью, не утратившей твердой почвы реальности, с человечностью посреди реальности гонений, они должны были бы сказать друг другу: да, немец и еврей – и друзья. Но всякий раз, когда такая дружба сохранялась в то время (разумеется, в наши дни все иначе) и поддерживалась в чистоте, то есть без ложного комплекса вины с одной стороны и ложного комплекса превосходства или неполноценности с другой, действительно создавалась частица человечности в мире, ставшем бесчеловечным.
Пример дружбы, который я привела, так как по нескольким причинам она мне кажется имеющей особое значение в вопросе человечности, снова возвращает нас к Лессингу. Как известно, древние считали, что друзья – необходимая часть человеческой жизни, более того – что без друзей вообще не стоит жить. При этом то соображение, что помощь друзей нужна нам в несчастье, не играло никакой роли; наоборот, они полагали, что счастье невозможно, если нашу радость не разделяет друг. Конечно, есть правда в поговорке, что настоящие друзья познаются в беде; но настоящими друзьями и без проверки бедой мы обычно считаем тех, кому не боимся признаться в нашем счастье и на чье сорадование рассчитываем.
Мы привыкли считать дружбу феноменом исключительно личной близости, когда друзья раскрывают друг другу душу, свободные от мира и его притязаний. Не Лессинг, а Руссо – лучший защитник этой точки зрения, которая так хорошо согласуется с фундаментальной позицией современного индивида: отчужденный от мира, он может по-настоящему раскрыться лишь в частной и личной близости встречи лицом к лицу. Поэтому нам так трудно понять политическую значимость дружбы. Когда, например, мы читаем у Аристотеля, что «филия», дружба между гражданами, – одно из основных условий для благополучия полиса, то нам кажется, что он имеет в виду просто отсутствие партийных распрей и гражданской войны. Но для греков сущность дружбы заключалась в разговоре. Они считали, что только постоянное собеседование объединяет граждан в полис. В разговоре проявляется политическая значимость дружбы и присущей ей человечности. Такая беседа (в отличие от интимного разговора, в котором индивидуальные души говорят о себе), пусть и пронизанная удовольствием от присутствия друга, относится к общему миру, который остается «бесчеловечным» в самом буквальном смысле слова, если люди его постоянно не обсуждают. Ибо человечным мир является не потому, что создан людьми, и становится человечным не потому, что в нем звучит человеческий голос, – но лишь тогда, когда становится предметом разговора. Как бы сильно нас ни затрагивали вещи мира, как бы глубоко они нас ни возбуждали и ни побуждали, человечными они становятся для нас лишь тогда, когда мы можем обсудить их с равными. Все, что не может стать предметом обсуждения – будь оно возвышенно, или ужасно, или жутко, найди оно даже человеческий голос, посредством которого прозвучит в мире, – человечным в строгом смысле оно не является. Происходящее в мире и в нас самих мы очеловечиваем, лишь говоря об этом, а в процессе такого говорения мы и учимся быть человечными.
Ту человечность, которая реализуется в дружеской беседе, греки называли «филантропия», «любовь к людям», поскольку она проявляется в готовности разделить мир с другими людьми. Ее противоположность, мизантропия, или ненависть к людям, состоит в том, что мизантроп не находит никого, с кем бы ему хотелось разделить мир, что он никого не считает достойным вместе с собой порадоваться миру, и природе, и космосу. Став римской humanitas[9], греческая филантропия претерпела некоторые изменения. Важнейшее из них соответствует тому политическому факту, что в Риме могли получить гражданство люди самого разного происхождения и тем самым вступить в разговор образованных римлян о мире и жизни. Именно этот политический фон отличает римскую humanitas от того, что называют гуманностью люди Нового времени, имея в виду обычно всего лишь феномен образования и воспитания.
Что гуманность должна быть трезвой и холодной, а не сентиментальной; что человечность проявляется не в братстве, а в дружбе; что дружба не интимно личностна, но выдвигает политические требования и остается связана с миром – все это кажется нам настолько специфическим для античности, что мы удивляемся, встретив вполне сходные черты в «Натане Мудром» – в пьесе хотя и Нового времени, но которую с известным правом можно назвать классической драмой дружбы. Нас изумляет в этой пьесе фраза «Мы должны, должны быть друзьями», с которой Натан обращается к Храмовнику – да, в сущности, ко всем, кого встречает; ибо эта дружба, очевидно, настолько важнее для Лессинга, чем любовная страсть, что он может резко оборвать любовную историю (любовники – Храмовник и приемная дочь Натана, Реха, – оказываются братом и сестрой) и превратить ее в отношения, в которых дружба обязательна, а любовь исключена. Драматическое напряжение пьесы держится исключительно на конфликте между дружбой и человечностью с одной стороны и истиной – с другой. Это обстоятельство, наверное, еще сильнее удивит современного человека, но оно опять-таки странным образом близко принципам и конфликтам, известным нам из античности. Мудрость Натана в конечном счете состоит исключительно в его готовности пожертвовать истиной ради дружбы.
Относительно истины у Лессинга, как известно, были крайне неортодоксальные взгляды. Он отказывался принять даже исходящие свыше истины и никогда не считал себя подвластным истине, исходит ли она от других или от его собственного рассуждения. Если бы он столкнулся с платоновской альтернативой doxa
