Неслучайные люди
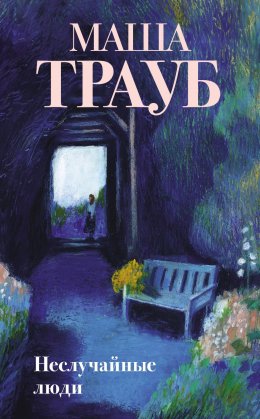
© Трауб М., 2024
© Оформление. ООО Издательство «Эксмо», 2024
По судьбе
Эта история произошла в те времена, когда в помещениях можно было курить не только в курилках, а также выпивать и закусывать, не выходя из кабинетов. Когда никто не знал слова «харассмент» и секретарши вполне счастливо выходили замуж за начальников. Служебные романы между коллегами считались нормой и тоже, как правило, заканчивались свадьбами. Когда праздник на работе еще не назывался корпоративом. Скорее, давно забытым словом «сабантуй». Или попросту гулянкой.
В редакции одной газеты готовились отмечать Новый год. Как водится, еще с утра бросили жребий – кто будет дежурить с первого на второе января. Да, в те времена свежая газета выходила второго, значит, на работе нужно было появиться утром первого. В этом году решили тянуть спички – короткую и длинные, чтобы сломать традицию. Обычно тянули бумажки из шапки – кому достанется с крестиком, тот и дежурит. Но два года подряд бумажку вытягивал Антон, что его вполне устраивало – хороший повод сбежать на работу от жены и ненавистной тещи, которая всегда приезжала на Новый год и делала все, чтобы ее любимая дочь уже прозрела и бросила такого неудачного мужа. Но в этом году Антон, лучший репортер криминального отдела, хотел сбежать не на работу, а в другой город, где у него появилась дама сердца. Он ездил в командировку, освещая какое-то преступление, и познакомился там с девушкой. Впрочем, девушка была не первой пылкой любовью Антона. Он был романтик, настоящий. Любил это состояние – когда хочется свернуть горы, свалиться на голову возлюбленной, осыпать ее цветами. Антон вовсе не был подлецом – жену он тоже искренне любил. Как, впрочем, и всех женщин. Было у него такое качество, которое завораживало – влюбляться с первого взгляда и в каждой женщине видеть богиню. Он не просто лил в уши комплименты, а делал это абсолютно искренне. С каждой. И умел с каждой своей возлюбленной расставаться прилично, без скандалов, слез, оставляя ее в состоянии богини, которой он не достоин. Девушки, надо сказать, даже спустя годы вспоминали короткий роман с Антоном с благодарностью – ведь в те недели, месяцы они верили, что самые красивые и самые умные и все мужчины должны лежать у их ног.
Со многими Антону удавалось дружить, по-человечески. Не только с ними, но и с их новыми избранниками, ставшими мужьями. Когда предполагалась очередная командировка, Антону, как правило, не требовалась гостиница – он останавливался у бывших. Потом начальник что-то там подписывал, и Антон получал квартальную премию из тех сэкономленных на гостиницах денег. Честно приносил домой, отдавал жене, которую, как всем честно же и заявлял, очень любил, ценил, боялся обидеть. Разводиться? Нет, конечно! Ни за что! Это другое. В смысле жена. А влюбленности – это жизнь, дыхание, страсть, творчество. Если у Антона случался роман во время командировки, он всегда привозил блестящий репортаж. Если без романа – просто хороший. А когда появилась новая возлюбленная, получился гениальный текст. Даже главный редактор хмыкнул и выдвинул Антона на премию как лучшего молодого журналиста. Тот, признаться честно, не помнил, в каком трансе написал тогда репортаж. Хотел побыстрее закончить, чтобы бежать навстречу новым вспыхнувшим чувствам. Писал чуть ли не на скорость, на эмоциях. Наверное, поэтому и текст получился страстным, чувственным.
Он писал о суде над женщиной, убившей мужа – по неосторожности, защищаясь. Но прокурор просил максимальный срок. Никто не желал разбираться с ситуацией: муж регулярно избивал жену, часто бывал пьян, соседи не раз слышали крики женщины, но предпочитали не вмешиваться. После статьи в центральной газете выяснили все подробности и женщину оправдали – необходимая самооборона. Один оправдательный приговор на тысячу случаев. Чудо. Антон тогда не верил, что у него это получилось. Новая возлюбленная им восхищалась. Ему льстило, что она смотрит на него как на героя. Под ее взглядом он и сам себя считал таковым. Это была не просто обычная влюбленность, а посерьезнее. Антон хотел еще хоть раз пережить тот момент триумфа, увидеть тот самый взгляд. Почувствовать, что сделал не просто свою работу, а что-то по-настоящему важное и значимое.
Возлюбленная ему писала. Как и женщина, которую благодаря его статье оправдали. Для Антона были важны эти письма, приходившие на адрес редакции. Он хранил их в ящике стола и иногда перечитывал. Для вдохновения, что ли. Возлюбленная им восхищалась, писала, что скучает, покупает газету в надежде увидеть его текст. А когда видит, вырезает и сохраняет. Писала она откровенно плохо, но Антону, который это, конечно же, замечал, было наплевать. Она писала, что он герой. Ее герой. И ничего не требовала – ни приехать, ни пригласить ее в столицу. Ничего. Просто восхищалась. Такое с ним было впервые. Как и то, что она догадалась, что он женат, нисколько этому не удивившись.
Обручальное кольцо у Антона, конечно же, было. Но он настоял не на традиционном золотом, а на серебряном, со вставкой из черной керамики. Жена пожала плечами и согласилась. Когда у Антона случался роман, он надевал кольцо на мизинец, а не на безымянный палец. Кольцо не выглядело обручальным, скорее стильным, необычным. Никто из возлюбленных не задавал вопросов, почему он носит кольцо на мизинце. Корреспондент из столицы, видимо, там такая мода. Только она, эта последняя его любовь, спросила напрямую: «Ты женат? Специально кольцо на другой палец надел? Не стоит. Вдруг забудешь вернуть как было?»
Он тогда, приехав домой, действительно забыл.
– Почему у тебя кольцо на мизинце? – спросила жена.
– Палец распух, – ответил Антон.
Жена кивнула. У нее тоже часто отекали пальцы, но она просто отказывалась от колец, которые уже не налезали.
Антон не думал, что его отговорка пройдет так успешно. Он и не замечал, что жена часто страдает от отеков – на руках, ногах. Тогда он почувствовал себя виноватым – возил жену по врачам, дарил цветы без повода, купил браслет. Смеялся – если что, она браслет на палец наденет, и он все равно будет ее любить. Говорил искренне, заботился тоже искренне. Но на работе первым делом читал письма, присланные возлюбленной. Потом писал ответ, бежал и бросал письмо в ящик, благо тот находился прямо на выходе из редакции. Почти год длился этот роман в письмах. И вот появилась возможность увидеться.
Антон мечтал сделать сюрприз – приехать к возлюбленной на Новый год. То есть сказать семье, что опять дежурит, а сам на поезд и – в новую, счастливую жизнь. Пусть и на два дня. Антон и предложил сломать систему и тянуть не спички.
– Тоха, а вдруг ты заявишься, а там тоже теща? – иронизировал спортивный обозреватель Михаил Александрович, которого все уважительно называли Саныч. Он был легендой – в свои далеко за шестьдесят мог перепить любого молодого, а с утра уже бегать на лыжах или играть в хоккей в дворовой команде или, в теплый сезон, в футбол. Саныч пил легко и регулярно, но так же регулярно занимался спортом и мог, опять же, дать фору молодым.
– Ох, лишь бы Серега снова не выбил окно. – В кабинете появилась заведующая редакцией Надежда. Всегда слегка заполошная, нервная и переживательная. Но это было только с виду. Только Саныч и главный редактор знали, что Надежда умеет быть такой жесткой, что все мужики пойдут нервно курить в угол. Когда случались форс-мажоры, Надежда переставала быть ранимой завредакцией, а становилась менеджером-убийцей. Корреспондент опять не прислал вовремя материал? Уволить, если нет уважительной причины, найти другого. Кто-то не вышел на работу, сорвав график? Пусть больше и не выходит. Дизайнер нахалтурил? Штраф. Даже главный, прежде чем принять то или иное решение, советовался с Надеждой.
– Надюха! Компас мой земной! Не дрейфь! – Саныч подхватил Надежду и усадил на колени. – Прослежу за ним!
Надежда, которой тоже было за шестьдесят, похихикала, вырвалась из объятий Саныча и убежала выкладывать мясную нарезку.
– Надюх, водочку я отправил! – крикнул ей вслед Саныч, демонстрируя вывешенные в авоське за окно для охлаждения три бутылки водки.
Всем было известно, что только Надежда могла пить наравне с Санычем и удивительным образом не пьянеть. И пила она исключительно водку, игнорируя шампанское и вино. Если Саныч на следующее после попойки утро выходил на лыжню, то Надежда готовила внукам завтрак, успев с вечера нарезать салаты, напечь пирожки и заквасить капусту. Внуки были единственным ее слабым местом, ради них она и жила.
Эти двое – известный обозреватель и завредакцией – будто существовали в другом измерении, где никто не знал про похмелье, головную боль, проблемы с давлением и перееданием. Надежда и Саныч считались бессмертными. Великими. Они никогда не брали больничных, всегда были на месте. Надежда, кажется, даже в туалет не выходила. Они были главными хранителями и редакции, и здания, как домовой и домовушка. Домовушка, кстати, согласно легендам, была законной женой домового, и именно она принимала все решения. Об этом Надежда рассказывала всем стажерам. Мол, если хватит ума, поймете, кто тут главный.
Еще был Леха – охранник, по совместительству водитель, бывший милиционер. Именно он умел виртуозно отобрать ключи у тех автомобилистов, которые после всего выпитого все же решали сесть за руль. Вызывал такси для барышень и сопровождал до дома в особо сложных случаях. Леха умел врать так же легко, как дышать, все подтверждал и был своеобразным гарантом: мог убедить самую ревнивую жену, что муж напился и тут же уснул. Вот он, Леха, лично его с дивана сгребал, и муж не то что не дошел до молоденькой корреспондентки, но даже посмотреть на нее не успел. Еще у Лехи имелся знакомый врач, который приезжал в любое время и ставил капельницы, если требовалось кого-то срочно привести в норму. Леха считался таким же символом редакции, как Саныч и Надежда.
– Саныч, умоляю, проследи за Серегой! – появился на пороге Леха. – Ну моих связей уже не хватает! Кто в бизнес-структуры ушел, кто в охране. Не отмажу!
– Прослежу, – пообещал Саныч. – Зуб даю! – Саныч сделал характерный жест, щелкая большим пальцем по зубу и проводя кистью по горлу.
– Да, дорогой, сегодня Серега на тебе. Мне домой надо. Внучка затемпературила, – сообщила, пробегая мимо с тарелкой, Надежда.
– Ну вы чего? – Саныч развел руками. – Бросаете меня, что ли? Надюх, а водочка как?
– Наливай, только быстро. Леш, там есть в запасе бутылка? Принеси, пожалуйста. С собой возьму, внучке на компресс. Да и этим охламонам меньше достанется. Глядишь, обойдется, – сказала Надежда.
– Яволь, Маргарита Пална, – хохотнул Леха и убежал за бутылкой.
– Ну что, за нас? – неожиданно грустно поднял рюмку Саныч. – Сколько мы еще тут пропыхтим, а? Как думаешь?
– Ты чего, дорогой, разнюнился? – удивилась Надежда, опрокинув рюмку, даже не поморщившись. – Я на пенсию не собираюсь. У меня ж внуки. А это что значит? То и значит – деньги нужны. Сам понимаешь, какая у меня ситуация.
– Да… ты боец. У тебя хоть внуки… а у меня никого.
– А как же эти охламоны? Как они без тебя? А Серега? – Надежда показала на молодежь, крутившуюся вокруг. Серега – невероятно обаятельный парень, прекрасный рассказчик, заводила в любой компании, был главным. Сейчас он играл на гитаре. Девушки, сгрудившиеся рядом, подпевали, норовя присесть поближе.
– Он мне как сын, да, – признался Саныч. – Люблю его. Талантливый, зараза. Только просрет свой талант, если не одумается.
– Ты с ним поговори, – посоветовала Надежда.
– Ну я ж не отец. Не могу ему подзатыльник отвесить, хотя очень хочется. Ну посмотри на него.
– Красивый парень и умный. Только от спиртного ему надо подальше держаться. Не умеет пить совсем.
– Слушай, почему у нас таких проблем не было? Пили, курили, ели, что хотели. А этим ничего нельзя. Девки молодые на диетах, парни вон хилые пошли. Ни дунуть на них, ни плюнуть. Водку с соком мешают! А виски с этой колой. Как вообще можно такую гадость пить? Сто раз говорил Сереге – пей водку в чистом виде. Не надо намешивать. Не слушает.
– Не знаю, Саныч, не знаю. Вот мой Федя с чего такой стал? В детстве да, болел часто. Но тогда все болели – то свинка, то ветрянка в детском саду. Никто с ума не сходил. Обычный ребенок. Видимо, я что-то упустила. Врачи говорили, давно должна была заметить. Мол, поздно что-то делать. Время упущено. А я, выходит, не заметила. Потом… никто не знает, как это происходит. Недоглядела я за ним.
– Ты-то и не доглядела? Надюш, да ты орел! За всеми всегда успевала! – заверил Саныч.
– Выходит, за всеми, кроме собственного сына. – Надежда подставила рюмку. Саныч налил. Они выпили молча. – Хорошо, хоть внуков успел мне родить. Только за это Бога благодарю. В церковь начала ходить. На Крещение воду набрала.
– Надюш, ты же этот… как его… атеист, агностик… Ну какая вода-то? Хотя, может, сюда принесешь, побрызгаем в кабинете. Глядишь, Серега перестанет окно выбивать? – рассмеялся Саныч.
– Вот ты смеешься, а я уже об этом думала. Но в этом году не успеем. Только на следующий, – серьезно ответила Надежда. – А заодно надо попросить у главного вставить пуленепробиваемое стекло, что ли.
– Леха уже просил. Стекло стоит как самолет, – отмахнулся Саныч. – Давай святой водой попробуем. Ну а вдруг? Тогда я и сам поверю во всех святых.
– Ой, дорогой, ты до них не достучишься. Видимо, тоже заняты. Может, у них такая же редакция, как и у нас. Бегают, суетятся, не успевают на все запросы отвечать. Иногда путаются в адресатах. Сколько я просила за Федю, не отвечают. Или не тем святым за него молилась. Кто знает, кто у них за такие случаи отвечает. В храм стала ходить, хороший. Правда, батюшка там… Каждый раз, когда проповедь читает, хочу ему замечание сделать. Плохо говорит, ошибки речевые делает. Я и на молитве не могу сосредоточиться из-за его ляпов. А он… старается, конечно, но проповеди не его жанр, уж точно. Как ему исповедоваться? Очень я хочу в церковь, по-настоящему, пока не получается. И в хор церковный хотела, но там молодежь. Старательные дети. А нот не знают. Говорю им: «Вы сначала ноты хотя бы выучите, чтобы понимать, что поете». Они отвечают, что петь надо душой, а не по нотам.
– Надюш, спой для меня, а? Как раньше, – попросил Саныч.
– Да ну. Мне к внучке пора. Да и вон твой Серега девок гитарой соблазняет, – отмахнулась Надежда.
– Ну пожалуйста. Давай покажем молодежи, на что пенсионеры способны. Серега, ну-ка быстро дай сюда гитару! – крикнул он подопечному.
Надежда запела. Для ее возраста у нее был удивительно молодой голос. Когда она пела «А напоследок я скажу» из «Жестокого романса», в кабинете воцарилась гулкая тишина. Никто не жевал, не смел даже отхлебнуть из бокала, чтобы не нарушить это мгновение. Наконец на последнем аккорде Саныч захлебнулся, будто откашливаясь. Его давили слезы. Надежда тоже пела сквозь слезы. Каждый плакал о своем. Саныч – о своей, по сути, никчемно прожитой жизни, в которой оставил пять жен и ни одного ребенка. Точнее, был один, от первой жены, которого он видел раза два или три от силы. Жена уехала в другой город, а может, и в другую страну, забрала сына, тогда еще младенца. Саныч его вначале не искал, а когда захотел найти, то вроде бы уже смысла не было. Да и все контакты давно утеряны. Леха, который знал про наследника, предлагал Санычу помощь, так сказать, органов, но тот отмахнулся. Не надо, поздно уже искать и связи налаживать. Поезд ушел.
Надежда, погруженная в заботы о внуках, никому не говорила, что ее любимый единственный сын Федор, которого она воспитывала одна, без помощи мужа, был давно болен. Шизофрения. Знали только Саныч и главный редактор. Только благодаря связям главного Федя поступил в институт на факультет журналистики и устраивался в разные газеты, журналы. Но Федя не хотел писать. Он ничего не хотел в принципе. Был мирным, ласковым мальчиком – Надежда следила за тем, чтобы он вовремя принимал препараты. Но иногда Федя срывался, и тогда она устраивала его в клинику, там его стабилизировали до следующего приступа. А потом появилась Анюта. Надежда приняла ее со всей теплотой. Она была рада, что сын нашел себе девушку, живет как нормальный мужчина. Анюта поселилась в квартире Надежды, родила двоих детей-погодок и уехала в Питер искать себя. Про болезнь мужа она не знала – Надежда так и не смогла ей признаться, – то есть причина была не в этом. На попечении Надежды остался не только сын – опять безработный, – но и маленькие внуки. Они были чудесными и абсолютно нормальными. Идеальными. Надежде все говорили, что ее внуки – «подарочный вариант»: спали по часам, ели что дают. В садике вели себя идеально. Вообще никаких проблем не создавали. Анюта звонила по праздникам, обещала приехать, но не могла – говорила, что работает гримером в кино, все время на съемках. На самом деле перебивалась случайными заработками. Надежда не понимала, как можно бросить двоих детей на свекровь, по сути, чужую тетку. Она снимала внуков, отправляла фото сбежавшей невестке в надежде, что та образумится и вернется. Но Анюта вежливо отвечала «спасибо» и не спешила покупать обратный билет.
Федя после бегства супруги совсем замкнулся. Детьми не занимался. Даже на работу не хотел устраиваться. Дети считали отца, скорее, еще одним ребенком, но точно не папой, взрослым. Надежда тянула всех троих на себе. Внуки иногда называли ее мамой. Надежда всегда поправляла – бабушка, я ваша бабушка, мама работает в другом городе, скоро вернется. Но даже дети в это не верили. Федор иногда выпрастывался из собственного мира, играл с детьми, гулял в парке. Те радовались таким мгновениям. Потом Федор ложился на кровать, и снова ни на что не реагировал. Надежда говорила внукам, что их папа болеет, но скоро поправится. Дети не верили ни в возвращение матери, ни в исцеление отца. Они верили в бабушку.
– Кажется, это мой крест. Тянуть всех до пенсии, причем до пенсии внуков, – призналась она Санычу.
– Слушай, ну ладно внуки. Но Федор-то уже здоровый мужик. Хоть его выпихни. Пусть работает, зарабатывает, – заметил Саныч.
– Ты бы своего выпихнул? – тихо спросила Надежда.
Саныч промолчал.
– Ну, поговори с главным. Может, пристроит его куда, – наконец сказал он.
– Нет, ресурс исчерпан. Давно. Не могу я ни о чем просить. Федя… он, знаешь, в детстве болел часто. Помню, когда младенцем еще был, только кефир пил, а молоко нет. А тогда на молочных кухнях молоко выдавали, а кефир редко. Я в пять утра вставала, чтобы успеть кефир оторвать. Он, бедный, вечно в корках, коростах. То на ручках, то на ножках. К тому времени, когда в школу после детского сада переходил, его медицинская карта была размером с том советской энциклопедии. Мне говорили, что он не сможет хорошо учиться. Так и получилось – перекатывался с двойки на тройку. Память у него была плохая. Совсем не мог ничего запомнить. Учила с ним стихи, по сто раз повторяла. Без толку. Не виноват он, что такой. Есть дети всегда радостные, довольные, смеются, улыбаются на фотографиях, а Федя всегда был грустным. Ни одной фотографии нет, где он хотя бы улыбается. Да и не помню я, чтобы он смеялся. Может, бывает детская депрессия, которая во взрослую перерастает, как думаешь? Я твержу ему, что у него двое прекрасных детей, пусть ими займется, это ж смысл жизни. Нет, не хочет. Лежит, кино какое-то смотрит. Твержу: поищи работу, он в ответ, что не хочет писать на заказ, под чью-то дудку плясать. Говорю ему: а ничего, что я под чужую дудку всю жизнь пляшу и вас на это кормлю? Отвечает, твой выбор. Он бы хоть, как его Анюта, уехал, вырвался, мечтал о чем-то. Мне кажется, у него этот, как сейчас у многих, аутизм, а не шизофрения. Тогда, когда он маленьким был, не было такого диагноза. Всех, кто не вписывался в норму, сразу в шизофреники определяли. А я теперь думаю, что он никакой не шизофреник, просто особенный. Сейчас не хочет даже на улицу выходить. Ему страшно, я это вижу. Потеет, понос начинается. Как это… мне девочки рассказывали… панические атаки. Но тогда таких диагнозов не ставили. Федя сидел в углу, катал машинку. Главное, никого не бил, игрушки не отнимал. В детском саду его считали хорошим мальчиком, послушным. Делал что говорят. А потом… Это я ему жизнь сломала, моя вина. Не стала стучаться по всем врачам, хотя возможности и связи были. Отпустила ситуацию, надеясь, что само как-то пройдет. В поликлинике врач так и сказала, может, пройдет, израстется. И я ей, дура, поверила. Этой недоучке. Ничего само не проходит, не израстается. Мне сказали – шизофрения, я и кивнула. Не стала докапываться. Таблетками его кормила и только хуже делала. Моя вина, что сына не вытянула. Мой грех.
– А его отец? Он никогда не хотел узнать? – спросил Саныч.
– А ты, отец, никогда не хотел узнать? – отрезала жестко Надежда. Сколько раз за эти годы она убеждала Саныча найти сына, сделать первый шаг. Столько же раз он кивал, соглашаясь, но ничего так и не сделал.
– Надюх, не злись, ты же знаешь, что я отец никакущий, – ласково сказал Саныч, – навалял дров и даже разгрести не могу. Не хватает смелости. Это ты у нас герой. Никто бы так не смог, как ты. Иногда думаю, а вдруг сын меня искал, спрашивал? Или, наоборот, ему было все равно, кто его отец?
– Пока не спросишь, не узнаешь, – пожала плечами Надежда. – Или ты боишься, что он работает грузчиком и ничего не достиг? Тебе хочется найти просто сына или успешного сына?
– Надюх, ну почему ты такая всегда напролом, а?
– Потому что мне много лет. Все родители хотят гордиться своими детьми. Тем, что они стали успешнее родителей. Если бы твой сын стал профессором, известным журналистом, врачом, исследователем, ты бы мог им гордиться. А если бы он работал в магазине уборщиком, вряд ли. Поэтому ты и не хочешь его найти. Боишься, что твой сын стал уборщиком.
– Зачем ты так? – отмахнулся Саныч.
– Сказала правду? Разве не так? Поэтому ты так цепляешься за Серегу. Он талантливый парень и считает тебя своим наставником, вторым отцом. Ты им гордишься, поэтому и носишься с ним. Не сердись на меня. Ты знаешь, что я не со зла так говорю. Сама живу с этим грехом на душе много лет. Я ведь Федю своего тоже, считай, бросила. Для меня работа всегда была важнее. Мы оба сделали выбор – как было проще и легче нам. Мы о себе думали, а не о детях. Не о том, чтобы дать им семью, заботу. Федя же мой в коррекционной школе учился, в обычную его не взяли – очень медленно соображал. Надо было его лечить, бросить работу, только им заниматься. Тогда бы был результат. А я не смогла. Убеждала себя, что все оплачу, надо зарабатывать. Да, надо было отца его заставить признать сына. Платить алименты хотя бы. Заткнуть свою гордость в одно место и жить ради ребенка. И сейчас надо. Я наконец так и живу – ради внуков. Только им папа и мама нужны, а не работающая бабушка. Я столько лет себя корила за то, что не смогла Феде любовь дать. Теперь думаю, что и невестка моя такая же. Ей тоже любви в семье не дали. Поэтому она и уехала. Не умеет она в семье жить, получается. Не знает, как должно быть. Так что я не могу ее судить. Остается надеяться, что рано или поздно она вернется.
– Она бросила на тебя двоих детей – это ничего? Ты готова ее простить? – напомнил Саныч.
– Какая разница? Одного ребенка ты бросил или двух? Не важно. Да, я прощу и приму в любой момент. И ты, идиот, должен написать своему сыну, пока не поздно. Пока ты не скопытился. Дай ребенку историю своей семьи, а не только материнской. Попроси своего Серегу или Леху – пусть найдут твоего сына. Напиши ему.
– А если он не ответит?
– Тогда ты не будешь себя корить за то, что не сделал. Все, я уехала. Следи за Серегой. Он тоже, считай, иногда младенец. Не знаешь, чего от него ждать. Точнее, знаешь и все равно оказываешься не готов.
Каждый год на новогоднем празднестве Серега, напившись, швырял стул в окно. Никто не понимал, в какой момент это могло произойти и с чего вдруг. Пять минут назад сидел, пел под гитару, был нежным, ласковым, подливал вино девушкам и вдруг срывался. Становился агрессивным. Мог опрокинуть на стол бокал, оттолкнуть сидящую рядом коллегу. Потом кидался в соседний кабинет, хватал стул и отправлял его в окно. После этого падал и засыпал. Из его зарплаты вычитали штраф, Серега миллион раз извинялся и твердил, что ничего не помнит с того вечера. Вот вообще ничего.
– И меня тоже не помнишь? – спросила как-то Лена, стажерка из отдела культуры.
– Нет, – честно признался Серега.
Лена побежала плакать в туалет.
– У нас с ней что-то было? – спрашивал Серега у коллег. Те хмыкали. – Блин, да скажите уже!
Коллеги говорили, что вроде как только целовались, замок в соседнем кабинете Серега вскрывал в одиночку. Без Лены.
Поскольку здание находилось в центре города, кабинет на четвертом этаже, замять инцидент с разбитым окном не удавалось. Только благодаря бывшим милицейским связям Лехи, обаянию Надежды и умению споить кого угодно в любых количествах Саныча обходилось без протокола и задержания. Сереге объявляли строгий выговор и самое последнее предупреждение. Серега каялся, клятвенно обещал, что больше никогда, но на следующий Новый год история с выбрасыванием стула в окно повторялась.
Серега, можно сказать, был воспитанником, подопечным Саныча, который его взял в отдел, обучал ремеслу, защищал и оберегал. Проблема была в одном – градусах. Когда Саныч только разгонялся, Серега уже лежал лицом в пол от количества выпитого. Если Саныч в состоянии опьянения становился милым, добродушным, ласковым и нежным, Серега превращался в буйного подростка – крушил мебель, причем с размахом. Разбитой тарелки ему оказывалось недостаточно, не тот масштаб. А вот вынести стулом здоровенное стекло в центре города – самое оно.
В том же кабинете Антон от радости едва сам не выбил стекло раньше времени. Он наконец вытянул длинную спичку, то есть не дежурил.
– На какие поедешь? – пожал Саныч руку радостному герою-любовнику.
– Я же не успею подписать в бухгалтерии! – ахнул Антон.
– Поэтому пойдем сейчас к Ирине Михайловне! – объявил Саныч.
– Это кто? – испуганно спросил Антон.
– Молодежь… Всему вас надо учить. Начальство не обязательно знать в лицо, оно меняется, а вот главного бухгалтера знать нужно – и в лицо, и по имени-отчеству! Пошли, тряхну стариной в рамках обучения молодых кадров. – Саныч поднялся, достал бутылку водки из авоськи, висевшей за окном для охлаждения, чтобы сэкономить время и не бежать в столовку на другой этаж, где стоял холодильник, и пошел по коридорам. Антон старался не отставать.
В это же время в другом конце здания к празднованию готовилась бухгалтерия.
– Ну что, начнем? Пока порежем, поставим… – предложила главный бухгалтер Ирина Михайловна, посмотрев на часы. Они показывали начало пятого. – Девочки, накрывайте на стол.
Девочки, младшей из которых, Рите, было сильно за двадцать, но пока еще не тридцать, что тогда считалось для женщины совсем критическим возрастом для устройства личной жизни, с энтузиазмом стали шуршать пакетами. Рита выкладывала фигурно сыр, втыкая веточки петрушки, и тупым ножом пыталась порезать колбасу. Получались огромные ломти, которые она решила прикрыть остатками петрушки. В комнате пахло семгой, лимоном и духами Ирины Михайловны, которыми та щедро поливала подмышки и грудь. Запах духов главного бухгалтера не могла перебить даже килька, которую та любила страстно и в одиночестве. Только для нее делали бутерброды с килькой. Остальные «девочки» рисовали губы и начесывали затылки. Ни для кого. Для себя.
– Над столом-то расческами не трясите, – прикрикнула на подчиненных Ирина Михайловна и щедро, прямо над семгой, облилась лаком для волос. Рита начала чихать.
– Ирина Михайловна, у нас штопора нет, – сказала Рита, отчихавшись на тарелку с колбасой, – как вино открывать?
– Выйди, найди мужчину, – велела Ирина Михайловна.
– Мужчину? Зачем? – не поняла указания сотрудница.
– Затем. Проткнет пробку вилкой внутрь и шампанское откроет.
– А где его искать? – испугалась Рита, которая за двери бухгалтерии выходила редко и мало кого в редакции знала.
– Вот поэтому ты до сих пор не замужем, – заявила начальница. – Давай, губы подкрась, включи обаяние – и вперед! В курилку иди, чтоб наверняка.
Рита покорно пошла искать мужчину. В коридоре столкнулась с начальником какого-то отдела. Какого именно, она не помнила, но его самого помнила прекрасно – Илья Альбертович, в отличие от остальных сотрудников, всегда тщательно пересчитывал выданные аванс или зарплату, до последней копейки. Задерживал очередь и искал повод для замечания или, еще лучше, скандала. Лишь однажды он появился в бухгалтерии с самой дешевой коробкой шоколадных конфет и направился прямо к Ирине Михайловне.
– И что надо, стесняюсь спросить, за такую щедрую плату? – хмыкнула главный бухгалтер. Илью Альбертовича она терпеть не могла. «Да не мужик он», – отмахивалась она. А когда он пришел с конфетами, ее как прорвало: – А ты не охренел ли вконец? В жопу себе засунь эти справки. Что? Будешь на меня жаловаться? Да на здоровье! Я такое про тебя расскажу, что сам пожалеешь! Вон пошел, это мой кабинет! Да, имею полное право. Сегодня зарплату не выдают!
Завотделом, продолжая что-то говорить, попятился к выходу. Ирина Михайловна схватила увесистый степлер и бросила в него. Промахнулась. Попала в дверь.
– Я этого так не оставлю! – взвизгнул тот и убежал.
– Это я так не оставлю. Скотина, – рявкнула Ирина Михайловна. Она села за стол, достала сумку и начала в ней рыться.
– Ирина Михайловна, вам помочь? – чуть ли не на цыпочках вошла в кабинет Рита.
– Да, найди мне капли. Были в сумке. Накапай пятьдесят и водичкой разбавь.
Рита быстро нашла капли, накапала в рюмку, дала начальнице выпить.
– Довел все-таки, – тяжело вздохнула та. – Теперь пойдет стучать. Вот ведь говнюк.
Рита, оказавшись в редакции, где каждый пусть не третий, но пятый сотрудник считался гением, не могла понять, почему редактор – говнюк. Для нее все пишущие люди были инопланетянами, великими. Она не понимала, как можно писать такие тексты. Над некоторыми она плакала, перечитывала.
– Ты думаешь, раз они делают то, что мы не умеем, значит, исключительные во всем, да? – хмыкнула Ирина Михайловна, заметив удивление на лице Риты.
– Да. Они же… почти писатели… разве нет?
– Нет. Многие писатели тоже были в жизни говнюками, хотя писали прекрасные тексты. Запомни – если человек гениальный врач, журналист, художник, это вовсе не значит, что он ведет себя прилично в жизни. Не надо путать профессиональные достоинства и личные качества.
– Хорошо, не буду, – покорно кивнула Рита.
– Вот ведь говнюк. За последнюю копейку удавится. Всегда такой был. Держись подальше от таких мужиков. Скупердяй и подлец. И находят ведь себе таких женщин, которые их поддерживают.
– Чего он хотел? – спросила Рита.
– Того, что и раньше. Не платить алименты детям, вот что. У него бывшая жена и ребенок. Теперь новая и ребенок. Еще один ребенок от любовницы, которая через суд потребовала алиментов. Вот он и размахивает тут справками, что ребенок не его, любовницу знать не знает, бывшая жена тратит алименты на себя, а не на ребенка.
– А нынешняя что?
– Видимо, поддерживает. Или не знает, – пожала плечами Ирина Михайловна. – Пусть сам со своими бабами разбирается, но, если детям положены алименты, пусть платит, я так считаю. Все равно копейки получаются, так пусть хоть эти копейки выплачивает.
– А если он пожалуется?
– О, это обязательно. Он профессиональный стукач, – хмыкнула Ирина Михайловна, – всегда на всех строчит. Жалко его по большому счету. Отец, Альберт Аркадьевич, был вежливый, настоящий интеллигент, я его знала, тогда еще как ты была, молоденькой, только пришла на работу. Вот тот был талантливым. И вел себя со всеми на равных. Никогда не заносился, хотя, в отличие от сынка, имел полное право. Только в память об отце я Илью и терплю. Он совсем не похож на Альберта Аркадьевича, видимо, в мать пошел наглостью и хабальством. Не знаю. Но если бы не его отец, хрена с два он стал бы редактором отдела. Вообще бы в журналистику не попал. Его держали на факультете из уважения к заслугам Альберта Аркадьевича, тот там тоже преподавал и оказался не только блестящим журналистом, но и отличным преподавателем, лектором. Его любили студенты, обожали коллеги. В нем была харизма, но не яркая, а скрытая. Он всегда тихо говорил, почти не слышно, отчего все замолкали. При этом был бесконечно добрым, никого никогда не заваливал на зачетах и экзаменах. Приходил всегда на полчаса раньше всех, но никогда не выгонял за опоздание. Улыбался сочувственно. Просил приходить вовремя. В Илье ни одного отцовского качества не нашлось – всегда опаздывает, хамит, делает подлости. Первым в институте на всех доносил в ректорат – кто был на лекции, кто прогулял, кто подрабатывает в ущерб учебе, кто по чужим конспектам экзамены сдает. Если отца все любили безусловно, сына дружно ненавидели. Сам-то он – пшик, никчемность, бездарь.
Мать Ильи, Карина, была простой женщиной. Вот совсем. Из южной деревни. Образование – восемь классов. Она не понимала, с кем живет. Ходили слухи, что она родила Илью не от законного мужа, который, опять же по слухам, не мог иметь детей. Не знаю, свечку не держала, анализов ДНК тогда не существовало. Может, и так. Карина тоже всегда выгоду искала, любви в том браке не было. Никогда не забуду, как она со скандалом требовала подарочные продуктовые наборы. В магазинах такое не купишь, а в редакции только самым именитым выдавались. Так Карина выясняла, кому какую колбасу положили, какие конфеты, и кричала, что ее мужа обделили. Ну и, чтобы не связываться, выдавали ей лишнюю банку икры или палку колбасы. Она такая гордая ходила, считала, что отстояла свое, что ее обманули, а она еще больше всех обманула. Ведь прекрасно знала, что кому полагается – эти продуктовые наборы на все праздники выдавались. Новый год, Восьмое марта, Двадцать третье февраля. Но ей было важно устроить скандал и забрать побольше. Скандалистка по натуре. Потом, думаю, ей было плохо в городе. Не смогла она прижиться. Мужа не ценила, вообще не понимала, что он делает. В деревне все понятно – базар, огород, соседки. А тут… Но терпела ради сына. Вот его она очень любила. Почти сразу стало понятно, что Илья не тянет – ни элитную школу, в которую его устроил Альберт Аркадьевич, ни тем более институт. Но Карина требовала, устраивала скандалы мужу, говорила, что он недостаточно делает для сына. Альберт Аркадьевич ходил серый, почти черный. Никогда не умел просить, если считал это неправильным. Мог биться за талантливого студента, в которого верил, в котором видел настоящий дар, но за сына просить не мог, до невралгии. Ходил, еле передвигая ноги, но, к счастью, ему не приходилось унижаться. Из уважения к имени отца Илью отправляли в академический отпуск, восстанавливали, позволяли досдать сессию. Отец тянул его как мог. Последнее, что он сделал, – устроил сына в газету. Пошел к главному и попросил за него. Приехал домой и в тот же вечер умер – инфаркт. От унижения, признания, что сын не умеет писать.
Много раз Альберт Аркадьевич говорил жене, что этот раз, когда он пользуется собственной репутацией ради сына, – последний. Илья не хочет учиться, не хочет работать. Ничего не хочет. А ему, отцу, стыдно просить за такого сына. Пусть тот делает что хочет, ищет себя. Только пусть его отцу, известному журналисту, больше не придется кланяться в ноги институтскому начальству, да никому вообще.
– Ты ему не отец! – кричала Карина.
– Я знаю, – спокойно отвечал Альберт Аркадьевич.
В тот раз Карина замолкла. Ее практичный деревенский ум дал знак – не стоит раздувать скандал. Муж, которого она считала тряпкой, как и всех интеллигентов, работников умственного труда – за что им только деньги платят, – может и взбрыкнуть. Ей-то хватило мозгов закрыть рот, а вот Илье – нет. Он пришел к отцу на работу и заявил, что всем расскажет про его связь со студенткой. Да, своими глазами видел их в институтском кафе. Как ее зовут? Света? Вот и расскажет руководству факультета, как отец, великий журналист и преподаватель, спит со студенткой.
– Ты не можешь, – сказал Альберт Аркадьевич, до этого отказывавшийся верить слухам, что Илья – стукач. Заправский. Любящий это дело. Что он пишет доносы и докладные на всех и по каждому поводу. Что деканат уже устал от его сообщений. Всё бы сразу выбрасывали в мусорную корзину, но он требовал, чтобы его докладную секретарь непременно зарегистрировала должным образом, с печатью и подписью. Тогда точно обязаны передать декану, а потом, возможно, и ректору университета.
– Света – талантливая девочка. С удивительным чутьем к слову. Она может стать большим писателем. Я просто хочу ей помочь. Понимаешь, таланту, настоящему, тоже нужна помощь. У меня нет с ней никакой связи, кроме профессиональной, – ответил Альберт Аркадьевич.
– Это ты потом на собрании факультета расскажешь – и про талант, и про связь, – хмыкнул Илья. – И как ты хочешь ее пристроить в газету и за какие такие ее заслуги. Конечно, ничего не докажут, но нервы тебе попортят конкретно. А за твоей Светой шлейф будет тянуться. Всю ее жизнь. Сплетни долго живут. Правды никто не помнит.
– Кое-чему ты все же научился. Про сплетни и правду хорошо сказал. Только не своими словами. Так чего ты хочешь? – тяжело вздохнул Альберт Аркадьевич.
– Устрой меня в свою газету, – потребовал Илья.
– Я не могу. Это называется кумовство, разве ты не знаешь? Это неприлично. Я не могу просить за собственного сына и другого родственника.
– Да мне наплевать, как это называется. Я хочу работать в газете, занять твое место.
– У тебя не получится. Ты не умеешь писать, – ответил Альберт Аркадьевич. – Если бы умел, я бы горой за тебя стоял. Но, прости, не могу. У кого-то есть дар, кого-то можно научить ремеслу, но у тебя нет ни того, ни другого. Тебе нужно найти свой путь. Не в журналистике.
– Это мы еще посмотрим.
– Ты мне угрожаешь? – Альберт Аркадьевич потер ребра. Опять болело где-то внутри. Сильнее, чем обычно.
– Конечно, а что, не заметно? – рассмеялся Илья.
– Илюш, не надо, пожалуйста, портить себе репутацию. Тебе это будут вспоминать много лет. Любой твой плохой поступок. Как ты сам будешь с этим жить?
– Нормально. Просто прекрасно. Сначала сошлю твою Свету туда, откуда она вылезла, на помойку, а потом займу твое место. Ты же у нас великий. Кто ж будет спорить с фамилией? Если ты загнешься раньше времени, только спасибо тебе скажу. Достал уже своими правилами, нравоучениями. А в память о тебе мне любую должность дадут. Не станут же отказывать сыну великого журналиста! Так что лучше сдохни.
– Ты не мой сын, – тихо сказал Альберт Аркадьевич.
– И слава богу. А то я не знаю! Маме хватило мозгов не рожать от тебя! Она права – вы все такие гении, а кто вас такими признал? Кто решил, что ты великий, а я писать не умею? Чем мои тексты от твоих отличаются? Да ничем! Только тебя на руках носят, а об меня ноги вытирают и тобой все время тыкают. Мол, такой отец, такой отец. Достало уже.
– Ты можешь выбрать свой путь. Не идти по моим стопам.
– Ну уж нет. С паршивой овцы хоть шерсти клок. Я тебя использую по полной. За все свои унижения. Когда ты сдохнешь, они сами ко мне придут. За твоими записями, дневниками, за именем, в конце концов.
– Я не должен был тебя признавать, – сказал Альберт Аркадьевич, – ты вырос чудовищем.
– Но по документам – я твой законный сын. Вот такое чудовище ты породил. Так что постарайся побыстрее умереть. Желательно от инфаркта, чтобы долго нас не мучить. Мать тоже тебя еле терпит, ждет не дождется твоей смерти.
– И что? Зачем тебе моя смерть? – Альберт Аркадьевич держался за грудь. Вдохнуть не мог. На сердце лежал здоровенный камень.
– О, после смерти ты станешь не просто великим журналистом, а чуть ли не гением, классиком, и тогда мне будет открыта дорога вообще везде, куда захочу. Надоело сидеть в дыре, куда ты меня пристроил. Газета Подмосковья? Серьезно? Корреспондент в отделе новостей? Великая должность! Я задолбался писать про фиалки, которые выращивает у себя на балконе Марья Ивановна, и про детскую площадку, которую лично соорудил пенсионер Петр Иванович.
– Тебе нужно научиться работать. Набраться опыта. Понять, что новость не бывает важной или не важной. Ты должен хорошо ее отработать. Скажи спасибо, что Гена, то есть Геннадий Валентинович, тебя терпит.
– Так значит терпит? А я думал, он должен мне в ноги кланяться за то, что я вообще появляюсь в этой убогой газетенке! Платят три копейки, а спрашивают, будто я им каждый раз шедевр должен выдавать.
– Да, терпит. Гена мой давний друг, и он – блестящий журналист. А спрашивает, потому что хочет тебя научить. И да, ты должен каждый текст, пусть и про фиалки, писать как шедевр, как последний текст в твоей жизни. Ты должен жить своим героем, его проблемой или успехом, увлечением. Пока ты этого не поймешь, ничего в профессии не достигнешь. Можно и про фиалки написать так, что статья встанет на первую полосу. Гена дает тебе хорошую, самую лучшую школу. Жаль, что ты этого не понимаешь и не ценишь.
– Здесь ты меня поучаешь, там твой Гена – такой же старпер. Ну, написали вы когда-то сто лет назад свои гениальные тексты, на этом и сидите. Время сейчас другое! – закричал, не сдержавшись, Илья.
– Время всегда одно. Если умеешь писать, любишь свою профессию и людей, о которых пишешь, ты пробьешься. Если нет – ничего не получится. У тебя, видимо, не получится, – пожал плечами Альберт Аркадьевич.
– Это еще почему? – Илью трясло от злобы на отца и бессилия.
– Ты и людей не любишь, и, уж прости – писать не умеешь, да и учиться не хочешь. Любого человека можно научить складывать слова в предложения. Ты мог бы стать уверенным новостником. Без взлетов, но с навыками. Но ты не желаешь учиться, не хочешь ничего слышать. В тебе нет уважения к труду. В этом твоя проблема. – Альберт Аркадьевич чувствовал, что боль в подреберье становится сильнее. Но он устал врать себе, Гене и остальным, прося за сына. Пора было сказать правду. – И смени тон. Или мать тебя не научила хорошим манерам? Дай мне таблетку, пожалуйста. В портфеле.
– Сам бери свою таблетку. Мать? А кто еще? Ты и ее считал ничтожеством, деревенщиной, не ценил. Она для тебя была вроде обслуги. И сейчас ты мне про манеры рассказываешь? А где были твои манеры, когда ты изменял ей во всех своих командировках? Ты видел ее слезы? Нет. А я видел. И она терпела, молчала! Ты не был хорошим отцом, а хорошим мужем уж подавно.
– Не тебе судить. – Альберт Аркадьевич с трудом встал и открыл окно. Пытался вдохнуть, но в груди будто лежал камень, который перекрывал доступ и воздуха, и жизни. – Твоя мать терпела ради моих денег. Ради этих продуктовых наборов, ради статуса. Чтобы козырять перед родственниками. Да, я надеялся, что она хоть чему-то научится, захочет учиться. Но нет. Она так и осталась хабалкой. Подлой и жадной. Необразованной, мелкой. И тебя таким воспитала. Да, я не уважал твою мать, не за что было. Но я сделал то, о чем она просила – дал тебе образование, работу. Всю жизнь соломку подкладывал. Школы, институт, работа. Ты все получал на блюдечке, как и она. Ничего сам не заслужил.
– В общем, так – или ты разговариваешь с главным и переводишь меня сюда из той подзаборной газетенки, или я все рассказываю про тебя и твою Светочку. Ее отчисляют, и она едет в свою деревню. Выбирай.
– Не думал, что ты опустишься до шантажа. Хорошо, я поговорю, – кивнул Альберт Аркадьевич. – Только пообещай, что не сделаешь плохо Свете. Не мсти мне таким способом.
– Да плевать мне на нее, – рассмеялся Илья. – Да, если не сложно, некролог свой посмотри. Я его, кстати, уже написал. Ты ведь такой прекрасный редактор. Ну и тебе же важно, чтобы я, твой единственный сын, опубликовал приличный, как ты выражаешься, текст и не опозорился. Глянь на досуге, пока сердце не прихватило, – Илья положил на стол лист.
– Откуда вы все это знаете? – спросила Рита у Ирины Михайловны.
– От верблюда. Своими ушами слышала. Принесла Альберту Аркадьевичу документы на подпись и сидела в предбаннике. Он попросил подождать. Мы же бухгалтерия, считаемся вроде как стульями, столами. Как уборщицы. При нас можно все. Мы для них – аванс, зарплата, окошко, купюры. А еще справки. Не люди, в общем. Что мы можем понимать в их чувствах? При своих они не говорят, при нас соловьями разливаются. Если хочешь узнать подноготную человека, иди в бухгалтерию. Мы не говорим, мы бумажки на стол выкладываем. Но и по этим бумажкам становится все понятно – кто, что, за сколько и когда. Бухгалтерия – здесь не бывает тайн личной жизни. Точнее, все можно посчитать и доказать при желании. Или не заметить и посчитать не так. Вот журналисты, писатели, которыми ты так восхищаешься, утверждают, что видят людей по деталям их быта, одежды, поведения. Так и мы, бухгалтеры. Мы видим людей по тому, какие справки они приносят, сколько хотят урвать, как пересчитывают купюры, как ведут себя в очереди, как общаются с нами. Очень многое можно сказать о человеке, видя его через окошко кассы. Понаблюдай в следующий раз, кто как получает аванс, как разговаривает. Сама станешь писателем, если захочешь. У нас тут такие драмы разыгрываются, что на роман потянут. Хотя бы этот Илья – идеальный персонаж. Только ты права – мы не они. Мы на бумагу можем цифры выводить, а они слова. Они могут сделать себя лучше, красивее, талантливее, а мы – нет.
– И что случилось с Альбертом Аркадьевичем? – спросила Рита.
– Поехал домой, сел за рабочий стол – и все. Инфаркт. Видимо, разговор с сыном его окончательно доконал. Вызвали «Скорую», но уже было поздно.
– Какой кошмар! – ахнула Рита.
– Да нет, обычная жизнь. Тут в каждом кабинете по трупу имеется. Почти всех великих журналистов отсюда вперед ногами выносили. Альберт Аркадьевич хоть не в редакции умер, спасибо ему за это. Опять бы всех на допросы вызывали, – сказала Ирина Михайловна. – А потом все как положено: в газете опубликовали некролог, написанный Ильей, плохой, просто отвратительный, но написал сын, поэтому решили поставить в номер. Похоронили со всеми почестями на престижном кладбище. А Илью взяли в редакцию. Не на место отца, но с перспективой. Теперь, видишь, он своего добился. Стал тем, кем не должен был, без таланта, даже способностей. Выехал на имени отца. Говно он и как человек, и как журналист. Об этом все знают.
– А почему тогда его терпят? – удивилась Рита.
– Потому что он оказался стукачом, прирожденным. Пишет во все инстанции, докладывает обо всех нарушениях. Бравирует связями в верхах.
– Это неправильно, несправедливо, – горько сказала Рита.
«Он не может, не способен, – твердил жене Альберт Аркадьевич, – сколько бы я его ни тянул».
Карина, посвятившая свою жизнь нелюбимому мужу и обожаемому сыну, открыто никогда не спорила. Но по ее лицу все было понятно. И по молчанию. Она умела молчать сутками, исполняя положенные, как она считала, супружеские обязательства. Альберт Аркадьевич долгие годы убеждал себя, что это забота, внимание, неравнодушие. И был за это благодарен супруге. Он чувствовал себя виноватым и снова переступал через себя – опять просил за сына, надеясь, что жена скажет хоть одно ласковое слово. Да, он принимал обязанности, которые исполняла Карина, за проявление любви. Даже когда жена на его прямой вопрос, любила ли она его хоть один день, хоть один час, честно ответила «нет», Альберт Аркадьевич не нашел в себе сил поверить:
– Так ведь не может быть – столько лет, каждый божий день. Никто не сможет так жить. Пусть без любви, но чтобы вообще без всяких чувств?
Карина пожала плечами:
– Все женщины так живут. И я тоже. У меня есть уважение, статус, любимый сын. Я жена известного, уважаемого человека. Сын учится в лучшем московском вузе. У меня счастливая судьба. При чем тут любовь?
– Ты хоть что-нибудь чувствуешь? – спросил однажды Альберт Аркадьевич.
– Да, мне хорошо, когда ты уезжаешь в командировки, – честно ответила Карина, – меньше готовить.
Каждое утро она вставала в семь утра, чтобы приготовить завтрак для мужа и сына. Потом ехала на автобусе на рынок за продуктами. Альберт сто раз ей говорил, что не надо тащить продукты, пусть дождется выходных, он сам поедет и все привезет, но Карина отвечала, что он купит не то. Только она знает, какое мясо любит Алик.
– Алик? – удивилась Рита.
– Карина назвала сына в честь отца. Так было принято в их роду. Альберт Альбертович Григорян. Когда Альберту-младшему исполнилось восемнадцать, он сменил и имя, и фамилию, став Ильей Альбертовичем Григорьевым.
– Зачем ему это понадобилось? – удивилась Рита.
– Чтобы, с одной стороны, уйти, отойти от отца, не иметь с ним ничего общего, а с другой – в нужный момент напомнить, чей он сын. Тщеславие. Гордыня. Все пороки. Или, наоборот, слабость. Может, он думал, что получится добиться успеха, не упоминая имени отца, но не получилось. Или сделал так назло – Альберту Аркадьевичу было очень больно. Он не понимал, за что сын так его ненавидит, что готов отказаться даже от имени. Ведь всегда хотел для него только самого лучшего. Да, они были совсем разными, на генетическом уровне. Альберт Аркадьевич интеллигент, умнейший, при этом бесконечно благородный и благодарный. Он всех уборщиц знал по именам и не переставал говорить «спасибо». Ни разу в жизни не позволил себе высокомерия или заносчивости. Его сын оказался другой породы – возможно, пошел в мать, возможно, в неизвестного биологического отца – наглый, хам. Для него все люди были второго сорта. К тому же его отличала жестокость – мелкая, бытовая, что еще противнее. Он мог пройти по коридору и будто случайно опрокинуть ведро с водой, чтобы пожилая уборщица убирала пролитую воду и тащила новую. Мог разбросать мусорную корзину в кабинете и смотреть, как уборщица ползает на коленях, собирая скомканные листы. Ему нравилось наблюдать, как люди унижаются. Илья Григорьев оказался бездарным журналистом, о чем все знали. И этого он не мог простить отцу – того, что его все равно сравнивают и признают: на сыне природа отдохнула. Во всех смыслах.
Так или иначе, он добился, чего хотел.
– Да? – Илья поднял трубку рабочего телефона.
– Алик, это я, – услышал он голос матери. И сразу понял, что произошло что-то страшное. Но страшнее было услышать свое настоящее имя, данное ему при рождении. Имя, которым его всегда называла мама.
– Папа умер, – сообщила мать. – Ты приедешь? Я не знаю, где его хоронить. Мне звонят какие-то люди. Алик, что мне делать?
Мама говорила как маленькая девочка, наступившая в грязную лужу в белых туфлях. Она была растеряна и думала, что ее могут наказать за неправильное решение, как за плохое поведение.
– Мама, о чем ты говоришь? Как умер? Все было хорошо. – Илья не знал, что делать. Не привык ничего решать. И уж тем более не ожидал, что отец умрет сейчас, до того, как поговорит с главным о его трудоустройстве. До того, как Илья сможет всласть насладиться своими возможностями. До того, как он уничтожит Свету на глазах отца, чтобы тому стало невыносимо больно. Отец своей смертью сорвал все планы. Все его тайные мечты. Что еще беспокоило Илью? Некролог, который отец так и не посмотрел и не отредактировал. Наверняка все решат, что Илья написал отвратительно, и будут шушукаться за его спиной.
Он встал и пнул кресло. Потом раскидал мусорную корзину.
– Алик, ты меня слышишь? – голос матери звучал в телефонной трубке слишком громко. Илья предпочел бы не слышать ее вовсе. Он умер. Сейчас? Опять сделал будто назло. Специально. Даже умереть вовремя не смог. – Я не знаю, что им отвечать. Алик, ты слышишь? Они говорят, что он был известным человеком, знаменитым. Имеет право на хорошее кладбище. Мне звонили из какого-то союза. Говорили, что могут похлопотать о могиле. Как это? Я не понимаю. Какая разница, если он уже умер? Они твердят, что мне будет удобнее ездить, если близко и кладбище хорошее, а какая мне разница, куда к нему ездить? Я вообще не собиралась к нему ездить! Зачем мне его могила? Мой дом уже как могила. Я каждый день за ним ухаживала – приносила, подавала, убирала. Алик, я так устала. Приезжай, пожалуйста. Я хочу спать, а они все звонят и звонят. Я больше не могу слушать, какой он был великий человек. Они все говорят «соболезнуем». Почему? Я так рада, что он наконец умер. Мне не придется больше с ним жить. Готовить для него. Я смогу готовить только для тебя. И комната его освободилась. Ты сможешь жениться и привести в дом жену. Будете жить в его кабинете. Мы все оттуда вынесем, поставим новую кровать, занавески красивые повесим. Разве это не хорошо? Почему они думают, что я должна плакать? Да, я плачу. Но от радости, что мы теперь с тобой без него остались. Как думаешь, может, обои в его кабинете тоже переклеить? Если бы у тебя была невеста, я бы с ней это обсудила. Но они все звонят, спрашивают, какие я хочу поминки, хочу ли панихиду. Алик, я ничего не хочу. Я так устала. Алик, дорогой, давай ты решишь, я в этом ничего не понимаю.
– Да, мама, я все решу, не беспокойся, – ответил он.
Прах отца захоронили в колумбарии очень престижного кладбища. На прощании собралось много людей, которые говорили речи в микрофон. Илья сидел рядом с матерью, держал ее за руку.
– Алик, что говорят эти люди? Я не понимаю, – шепотом сказала мать.
Он перешел на язык, на котором говорил в детстве, который почти не знал его отец. Это был их с матерью родной язык. Сейчас он переводил матери, что говорят выступавшие. Она кивала.
– Папа был великим журналистом, писателем, – шептал Илья матери.
– Алик, почему все так долго? Когда они наконец закончат? – спросила мать. – Я хочу его отпустить. Наверняка он давно устал. Всегда уставал от длинных разговоров. Поэтому мне редко звонил. Мне хотелось поговорить с ним подольше, но он всегда вешал трубку. Я еще долго говорила – про то, что приготовила на ужин, что уже все остыло и я два раза подогревала. Если третий раз подогреть, будет совсем невкусно. Спрашивала, хочет ли он завтра пирог или нет? Мне же нужно было тесто с вечера поставить. Он не понимал. Я говорила в трубку, в которой уже были короткие гудки. Но мне и этого хватало. Так я сама решала, печь ли назавтра пирог для него или делать для тебя пирожные.
– Пирожные ты всегда пекла, – улыбнулся Илья.
– Да, потому что ему не нужны были мои пироги. Ничего не нужно. Он хотел есть в своей столовой, а не дома, – отмахнулась мать. – А ты так радовался, когда я пекла пирожные. Такой счастливый ходил. Крем по пальцам стекал, ты облизывал и смеялся. И я счастливая была. Алик, что с нами дальше будет?
– Все хорошо, не переживай. Я займу место отца.
– Ох, дорогой, он всегда говорил, что ты не сможешь.
– Поэтому я это сделаю. Ему назло.
– А если колумбарий, мне надо к нему приходить?
– Нет, мама, не надо. Это не могила. Не надо убирать, цветы сажать.
– Это хорошо, правильно. Не хочу к нему сюда ходить. Плохо мне тут. Такие все важные и торжественные. И могилы у них одинаковые.
– Да, потому что их не родственники убирают.
– А кто тогда?
– Специальная служба. Ты только платишь, а они следят, чтобы цветы были высажены, гравий подсыпан, старые цветы убраны.
– Это как-то странно. Разве не родственники должны убирать могилы?
– Ты же сама этого не хочешь.
– Да, но есть правила.
– Так вот, по местным правилам, ты не должна сюда ездить и убирать тоже не должна. Они сами все сделают.
– Это хорошо, удобно. Но со мной так не надо. Когда я умру, похорони меня по-человечески, в гробу, в земле. И приезжай с женой на родительский день. Я хочу, чтобы ты заботился о моей могиле. Тогда я смогу с тобой поговорить. Пока ты оградку станешь красить или жена твоя цветы сажать, я с вами буду.
– Да, мама, обещаю.
– Простите, вы не могли бы, извините, у нас там… – начала мямлить Рита.
– Что? – огрызнулся Илья. – Я занят!
Рита понуро двигалась в сторону курилки. Еще дважды ей на пути попадались мужчины, но на вопрос о штопоре отвечали отрицательно. Попросить мужчин зайти в бухгалтерию и проткнуть пробку Рита так и не решилась.
«Вот поэтому я и не замужем», – думала она и чуть не плакала. Сегодня по случаю праздничного ужина они не пошли обедать, и у Риты сосало под ложечкой от голода. Слезы были того же происхождения. Она честно дошла до курилки, в которой никого не было, и повернула назад. Уже в коридоре было слышно, что в бухгалтерии «все началось».
Ирина Михайловна, зажав между толстыми ляжками бутылку вина, пыхтя и тужась, давила вилку. Вокруг столпились охающие и подбадривающие ее «девочки». На полу рядом со стулом стояла уже пустая бутылка из-под шампанского.
– О-о-о-о-о! Ура! – закричали «девочки». Ирина Михайловна, тяжело дыша, разливала вино.
– Налейте мне, – велела она, – а то самой себе нельзя. Примета плохая.
– Ирина Михайловна, мужчин нет, – призналась начальнице Рита.
– Вот это ты права! Хорошо сказала! Девочки, у всех нолито? У Ритули тост. Мужиков нет. Давайте за нас, бабоньки! Таких красивых! Умных! Молодых! – прокричала Ирина Михайловна. – Пусть плачут те, кому мы не достались, пусть сдохнут те, кто нас не захотел!
Ирина Михайловна собиралась выпить бокал вина до дна, но на пороге появился Саныч. За его спиной маячил корреспондент криминального отдела Антон.
– Ирина Михайловна, дорогая! Ну вы просто сейчас нанесли оскорбление всему мужскому полу в моем лице! Почему сами? Почему не позвали? Как можно? Вы же такая утонченная дама, леди! – Саныч виртуозно открыл еще одну бутылку шампанского и вина заодно.
– Михаил Александрович, а вы тут какими судьбами? – всполошилась главный бухгалтер. – Проходите, садитесь. Салатик?
– Из ваших рук что угодно! – ответил Саныч. – Но у меня встречное предложение. Давайте ваши прекрасные барышни присоединятся к нашему скромному торжеству. А вы, дорогая, присоединитесь ко мне. Будете моей спутницей на сегодняшний вечер. Хотя бы на этот. И я не смогу поверить собственному счастью, если вы согласитесь. Но я был бы несказанно рад, если бы смог рассчитывать на продолжение.
Ирина Михайловна поперхнулась вином и закашлялась.
– Тоха, помоги дамам переместиться, так сказать, – велел Саныч, деликатно постукивая главного бухгалтера по внушительному загривку. Отложения солей в шейном отделе, так всем сообщала Ирина Михайловна. Лишний вес, артрит – это все соли, во всем они виноваты.
– Как самочувствие в целом? – спросил Саныч. – Как дети, внуки? Сто лет с вами не общались!
– Ну, не сто лет. Поздравляли на Восьмое марта, – заметила слегка взволнованно Ирина Михайловна. Тогда ей показалось, что Михаил Александрович как-то особенно ее обнимал и прижимал. С подтекстом, так сказать. Ирина Михайловна была не против и восприняла это как аванс. Только зарплаты так и не дождалась. Пока. Но она не отчаивалась. И вот Михаил Александрович появился в их отделе и спрашивает про самочувствие.
– Без вас никак, дорогая Ирина Михайловна. Только вы сможете сделать праздник праздником! – балагурил не замолкая Михаил Александрович. – Пойдемте, у нас там и водочка стынет, и все будут рады вас видеть. А уж как я буду рад!
Антон, помогая собирать и переносить тарелки и стулья, то и дело косился на Саныча.
– А что с Антошей? Какой-то нервный, – заметила главный бухгалтер.
– Молодежь, что с них взять? Любовь накрыла. Вот хочет жене сюрприз устроить. Новогодний, так сказать. До этого он всегда на дежурство оставался, а в этом году повезло – не дежурит. Длинную спичку вытянул. Так чего не пьем-то? Тоха, где наша, холодненькая? – воскликнул Саныч.
Антон услужливо налил в стопки водки.
– Хорошо сегодня. И год был хороший, – сказала Ирина Михайловна.
– Да, дорогая. И вы, как всегда, прекрасны. Будто заморозились лет двадцать назад, – ответил искренне, учитывая выпитое, Саныч. Он всегда говорил, что все женщины красивы и привлекательны. Но насколько – зависит от количества выпитого. Сделал знак Антону, чтобы «освежил», то есть подлил.
– А давайте выпьем за невозможное! – предложил тост Саныч. – Вот пусть сегодня сбудется все, что загадали! А, Ирина Михайловна, как вам?
– Прекрасный тост, – ответила главный бухгалтер с интонацией Алисы Фрейндлих из «Служебного романа». Она, собственно, рассчитывала на продолжение, глядя на Михаила Александровича и думая, что он все же очень интересный мужчина.
Бухгалтерия радостно поддержала тост.
– Нет, Ирина Михайловна, я вас не достоин! Какая вы все-таки удивительная женщина! – воскликнул Саныч. – Вот смотрю на вас, наслаждаюсь и уже счастлив. Преимущества моего возраста. Но вам этого, конечно, не понять.
– Почему это не понять? – зарделась Ирина Михайловна.
– Да потому что вы меня лет на пятнадцать моложе! А то и на двадцать! Сейчас вспорхнете и убежите!
– Ой, никуда я не убегу, не девочка уже, – отмахнулась кокетливо Ирина Михайловна.
– Нет, дорогая, вы еще очень молоды – это читается во взгляде, порывах, жестах. Вон, посмотрите на Тоху, он мечется. Жалко его. Так хочет к жене уехать, – горестно заметил Саныч.
– Так почему не едет? – удивилась Ирина Михайловна.
– Так потому, что вежливый очень и воспитанный. Ему командировку подписали, а денег нет.
– Как это нет? – возмутилась Ирина Михайловна.
– Так в бухгалтерии надо подписать! – ответил Саныч.
– А я кто? – возмутилась Ирина Михайловна.
– Вы прекрасная женщина! Не перестаю вами восхищаться! – горячо заверил ее Саныч.
– А еще я главный бухгалтер! И рабочий день еще не закончился! Рита, принеси мне бланк и бумаги – возьми у Антона!
Ирина Михайловна подмахнула выдачу командировочных и отправила Риту их немедленно выдать. Антон не верил собственному счастью. Саныч, довольный собой, шепнул ему: «Учись обращаться с женщинами».
– Ирина Михайловна, дорогая, я могу пригласить вас на танец? – Саныч галантно поклонился. Главный бухгалтер выпорхнула из-за стола и позволила увести себя в танце.
…Все собрались в кабинете главного. Серега, еще не очень пьяный, что-то рассказывал. Рита смеялась, Серега ей нравился. Остальных сотрудников она толком не знала.
– Все, мне пора, – сказала Инна, работавшая стенографисткой и машинисткой в редакции. Там еще оставались корреспонденты, которые писали репортажи от руки, а потом их надиктовывали. Инна умела с ними общаться, записывала быстро, правила и согласовывала исправления на ходу – уникальный дар. Как и редакционная политика, не требовавшая, чтобы мэтры, заслуженные интервьюеры в солидном возрасте, осваивали новые навыки записи, отправки. В те годы машинистки были неотъемлемым звеном творческого процесса. Некоторые становились ближе жен, другие делали карьеру в качестве литературного редактора. Инна не хотела делать карьеру, хотя ей много раз предлагали. Она работала в редакции по графику, уходила и приходила всегда вовремя. Никогда не задерживалась, даже если очень просили. Но умела сделать надиктованный текст готовым к печати – то есть идеальным. Даже именитые корреспонденты не понимали, как так она поправила текст – будто и не вмешивалась в него. Когда Инна уходила на больничный, вызывали Анечку – молодую, не очень умную, но старательную девушку. Она хорошо стенографировала, но не владела навыком правки. Если корреспондент, диктуя текст, говорил «эээ» или «ммм», Анечка это тоже стенографировала и распечатывала, не упуская ни «эээ», ни «ммм». Инна сто раз ей объясняла, что так делать не нужно, надо просто подождать, когда автор говорит: «Сейчас, минуточку, другое предложение будет». И ждать иногда приходится не минуточку, а все десять, поэтому стоит помолчать и не мешать творчеству. Еще у Анечки была привычка переспрашивать у автора, правильно ли она поняла слово. Это ее Инна научила. Мол, не хочешь развивать словарный запас, не понимаешь, лучше переспроси. Но эффект получался обратным. Когда Анечка уточняла, верное ли слово, автор, как творческая натура, начинал сомневаться. Если уж стенографистка не поняла, значит, не поймет кто-нибудь еще. И в отчаянии пытался подобрать синоним, знакомый Анечке. Статья от этого не выигрывала. В общем, страдали все – и Анечка, и автор, и редактор, который не понимал, с чего вдруг мэтр журналистики стал писать как первокурсник журфака. Те из мэтров, кто однажды попал к Анечке, уходили на больничный, пока не возвращалась Инна. Когда вместо Анечки редактор хотел пригласить другую стенографистку, не такую аккуратную и старательную, Инна вставала на защиту своей протеже. Обещала научить.
– Инка, ты сама-то в это веришь? – как-то спросил редактор, который сто лет знал Инну и ценил ее больше всех в редакции.
– Не верю, конечно. Но она же ребенок. Ее нельзя обижать. Нельзя, чтобы она плакала, – ответила, нежно улыбнувшись, Инна.
Редактор тяжело вздохнул.
– Дети не уложены. Поздно уже, – объяснила Инна свой уход с коллективного празднования.
– Да, до свидания, – ответила Рита.
– Возьму им конфет. Все равно никто не ест. – Инна вывалила содержимое вазы в сумку.
Рита улыбнулась.
– Нет у нее никаких детей, – хмыкнула секретарша Юля, подливая себе шампанское.
– Как нет? – ахнула Рита. – Она же рассказывала, что четверо: Сева, Нюся, Викуля и Кирюха.
– Ага, только это не дети, а мягкие игрушки. Ну, собака, зайчик, кот, пингвин – не помню точно, – хмыкнула Юля. – Инна чокнутая на детях. Своих не могла родить, вот завела игрушечных. Их и убегает баюкать и укладывать. Сижу с ней в одной комнате, у меня тоже начинает ехать крыша. Она им звонит, сказки читает. Не знаю, как ее муж терпит. Он же за все игрушки отвечает. Работать не может, инвалид. Работал в Чернобыле, еле жив остался после той аварии. Не может иметь детей, а Инка не может его бросить. Это вроде как предать. Вот он и разговаривает с ней разными голосами. А что ему остается, если она его содержит? Она этим игрушкам одежду покупает в магазине для младенцев, смеси, чтобы кормить. В общем, больная на всю голову. Зачем она нужна, когда уже можно все на диктофон записать? Но ее главный держит – он давний друг ее мужа. Вроде бы еще школьный. И редактор ценит – только Инка может со старперами общаться. Этими, которые не знают, куда тыкнуть в компьютере. По старинке привыкли. А Инка, считай, за них тексты пишет – где что нужное вставит, где лишнее уберет. Был такой один – вроде бы в прошлом чуть ли не великий журналист, а потом все, кирдык.
– Умер? – ахнула Рита.
– Нет, но можно считать, что умер – деменция, развивалась быстро. Слова забывал, родных перестал узнавать. Только Инку и помнил. Так ей два года удавалось скрывать, что у того деменция. За него, считай, писала. Знала и стиль, и все эти прибамбасы.
– Это… очень трогательно, удивительно, – заметила Рита.
– Ну да, очень трогательно платить за чужую деменцию. Мне так никто не заплатит, – хмыкнула секретарша. – Если ты свой, глаза закроют, если нет – уволят.
– Но ведь хорошо, что поддерживают человека… – заметила Рита.
– О да, у нас вообще богадельня! – зло рассмеялась Юля. – Вон, видишь мужика? – Она показала на стоявшего в дверях мужчину. – Это Игорь, муж нашей машинистки Нади. Когда-то она диплом нашего главного редактора перепечатывала. И курсовые за него писала. Наш главный ее держит, помня прошлое. Надя запила. Вроде как сейчас зашитая, но, когда развязывается, уходит в запой. Если на больничном, значит, в наркологической клинике лежит. Главный ее куда только не отправлял – она все равно слетает с катушек.
Надю Рита помнила. Как-то та появилась в бухгалтерии, принесла творожную пасху, такую, какую Рита ела в детстве – сладкую, вкусную, как делала бабушка. И кулич тоже был тот самый, из детства. С глазурной корочкой сверху, мягкий, не сухой – бабушка для сладости пропитывала сиропом. Надя поздравила всех с Пасхой, потом еще принесла тарелку с яйцами, которые сама красила – луковой шелухой, с обрезками кружев, чтобы на скорлупе появился узор.
Рита не могла себе представить, что эта милая улыбчивая женщина – запойная алкоголичка. Наверняка секретарша наговаривает.
– О, мой пришел! – подскочила Юля и кинулась к двери. Там появился молодой человек, не сильно подходящий под интерьеры – все-таки все были нарядные: мужчины в костюмах, женщины в вечерних платьях, а он стоял в жутком свитере, явно уже пьяный. Юля кинулась к молодому человеку на шею. Тот отстранился. Она дернулась, будто ее ударило током, побежала и принесла ему вина. Он выпил. Юля снова кинулась к накрытому столу и сгребла на тарелку все, что могла. Он ел брезгливо и презрительно. Юля стояла рядом и заглядывала ему в глаза.
– Это ее любовник, – подошла к столу Ирина Михайловна. – Никто и звать никак. Она считает его великим музыкантом. Приходит, как шавка какая-то, объедки собирает. Ее ни во что не ставит, а она влюбилась. Вот по-настоящему. Бывает… Даже завидую. Она ему деньги дает, а он ноги об нее вытирает. Любовь…
– А я думала, что Юлия замужем, – ответила Рита.
– Замужем, да. Но кому это когда мешало? – хмыкнула Ирина Михайловна. – Дозвониться только иногда невозможно.
Юля, пользуясь рабочим телефоном, вела долгие разговоры с любовником. Читатели, которые хотели высказать претензии по поводу вышедшего в газете материала, висели на линии. Кажется, Юля первая изобрела голосового робота и музыку на телефоне. Пока она выясняла отношения с любовником, всех переводила на вторые и третьи линии, которые настроила самостоятельно. По вечерам она спускалась в редакционный бар, выпивала несколько банок мартини – этот напиток тогда упаковывали в банки, как энергетики, – и иногда могла случайно ответить на звонок. Почему Юлю не увольняли? Все важные разговоры она умудрялась принять в нетрезвом виде, сидя в редакционной столовой. У нее было особое чутье на звонки – какие игнорировать, а какие принять. И все важные Юля принимала. Даже в ночи. Если Инна обладала талантом редактора, эмпатией, трепетным отношением к чужим текстам, то Юля умела чувствовать людей, реагировать на речь, сразу замечая и отсеивая ненормальных, чокнутых. Она же по голосу могла определить, что речь идет о важном событии. Могла почувствовать звонок. Особый навык. Именно поэтому Юлю, как и Инну, не увольняли – талант, уникальный навык. Где найдешь другую секретаршу, которая не переключит звонок на начальника, потому что ругается с любовником, а пока ругается, ситуация решится сама собой. А начальник окажется вроде как на нейтральной, то есть верной стороне.
– Юлька меня трижды спасла от карьерного краха, – говорил главный редактор на каждой вечеринке, – потому что просто не отвечала на звонки. Идеальная секретарша!
– Надюш, нам пора, – ласково говорил муж машинистки Нади, пытаясь ее увести.
– Не хочу, понимаешь, ничего не хочу. Лучше сдохнуть, – закричала она и хлопнула рюмку водки. Все замерли и замолкли. Надя схватила полную бутылку и начала пить из горла.
– Леха, вызывай «Скорую», – тихо сказал Саныч охраннику.
Надю увезли. Муж держал ее за руку и говорил, что все будет хорошо. Она поправится.
Через неделю Надя умерла. Но это было через неделю. А в тот вечер…
Любовник секретарши Юли после съеденного и выпитого вроде как оттаял, и они исчезли на некоторое время. Потом появились. Юля сверкала глазами. Ее бойфренд налегал на еду.
– И куда в него столько влезает? – хмыкнула Ирина Михайловна. – На глисты бы его проверить. Жрет как не в себя.
– Вам что, жалко? – Юля оказалась рядом и подслушала.
– Мне нет. Хотя да, жалко. Тебя. Зачем тебе такой глистогон? Ну посмотри, волосья не мыты, сам драный, сраный. Фу. Еще и прыщавый, как подросток.
– Он меня любит, – ответила Юля, все еще сверкая глазами.
– Тогда да, понимаю. Ты ему уже сколько заплатила? Небось уже и премию сегодняшнюю отдала? – спросила Ирина Михайловна.
– Это на творчество, на музыку! – воскликнула Юля.
– Если на творчество, то это святое.
– Ирина Михална, – на стул обрушился, по-другому и не скажешь, Антон. – А можно как-то назад все?
– Антон, что назад? – переспросила главный бухгалтер.
– Ну все назад. Я никуда не еду. И не дежурю. Домой поеду – к жене и теще. – Антон налил себе водки и выпил.
– Так ты ж вроде к жене и собирался? – хмыкнула Ирина Михайловна.
– Я это, да, то есть… – залепетал Антон.
– Все понятно. Если к жене и теще, то пить больше не стоит, – заметила главный бухгалтер. – А что случилось?
– Она меня не ждет, – понуро ответил Антон.
– Так ты вроде сюрприз хотел сделать. Свалиться на голову?
– Да… У нее там мама… Здесь мама, там мама…
– Антон, в следующий раз ищи себе женщину-сироту или с мамой в Магадане, – усмехнулась главный бухгалтер.
– А есть такие? – возбудился Антон.
– Ты бы это, выпил кофе, и домой. С билетами твоими и командировочными потом решим, – ответила Ирина Михайловна.
– Она меня любит. – Антон налил себе еще стопку.
– Кто? Мама? – уточнила Ирина Михайловна.
– И мама тоже. Поэтому я чувствую себя такой сволочью, – кивнул Антон.
– Михаил Александрович! – крикнула Ирина Михайловна Санычу. – Там торт в холодильнике. Выдайте этому герою-любовнику, и пусть Леха отправит его домой, а не в командировку. Вот, еще цветы пусть возьмет для тещи, которая законная, не перепутайте. – Главный бухгалтер вытащила из вазы букет.
– Она меня любит. Понимаете? Но у нее своя жизнь, у меня своя. – Антон опять потянулся за бутылкой.
– Кто? Вторая теща? – Ирина Михайловна рассмеялась, не удержавшись.
– И она тоже, – кивнул Антон. – Понимает меня. Не то что эта. Но та – там, далеко, я с ней даже не знаком, а эта дома ждет. Что мне делать?
– Ты же хотел устроить сюрприз, вот и устрой. Поезжай домой, возьми тортик, букет. Дома жена ждет, любит, теща тоже ждет и тоже любит, – говорила Ирина Михайловна, передавая корреспондента в заботливые руки Лехи.
– Да, они хорошие. И вы хорошая. Я вас люблю. – Антон начал целовать руки Ирине Михайловне. – Спасибо вам огромное!
– Давай потихоньку. Леш, влей в него кофе или в сугроб головой засунь по дороге, чтобы очухался, – велела Ирина Михайловна.
– Будет сделано в лучшем виде! – козырнул тот.
– Только там за салатами не засиживайся! Мало ли что тут у нас еще случится, – наказала она.
– Типун вам на язык, Ирина Михайловна, при всем уважении, – отмахнулся Леха.
– Да, типун, – Ирина Михайловна поплевала через левое плечо. Но, как показали дальнейшие события, это не помогло.
Следующие полчаса прошли относительно спокойно – все выпивали, закусывали, танцевали, разбредались по углам покурить.
Рита сидела на большом кожаном диване и слушала рассказ о командировке какого-то корреспондента. Рассказ был неинтересный, как и сам корреспондент. Вдруг за главным столом начал назревать скандал. Женщина нависла над девушкой, сидевшей за столом, и что-то кричала, пытаясь переорать музыку. Девушка начала плакать. Рита заметила, что к ней кинулась Ирина Михайловна.
– Извините, – сказала Рита и направилась к столу, радуясь, что появился повод избавиться от занудного рассказчика.
– Вы за это ответите. Сразу после праздников, – кричала женщина над ухом девушки.
– Пошла ты… – выругалась Ирина Михайловна. Подбежавшая Рита застыла как вкопанная. Ни разу в жизни она не слышала, чтобы начальница повышала голос или материлась.
– И вы ответите! На вас тоже напишу! – объявила женщина.
– Что случилось? – спросила Рита.
– Чай крепкий и сладкий сделай. Быстро! – велела главный бухгалтер.
Рита бросилась исполнять просьбу. Потом отпаивала рыдающую и трясущуюся девушку сладким чаем. Та норовила упасть в обморок, но Ирина Михайловна, подхватив ее, когда она уже сползала со стула, и заботливо уложив на диван, померила ей давление. Откуда взяла тонометр, никто не знал. В то время это был не электронный аппарат, который заодно измеряет пульс, а механическое устройство, с фонендоскопом – который врачи засовывали в уши, – с часами и самим тонометром. Руку при этом сжимало так, что она буквально отваливалась от передавливания. Но главный бухгалтер знала, что делала, – следила по часам, действовала профессионально. Будто всю жизнь работала медсестрой.
– Обойдемся без «Скорой», – выдохнула она с облегчением. – Катюша, давайте домой, да? Михаил Александрович, Леха вернулся? Катюху надо отвезти. Совсем никакая. Давление девяносто на шестьдесят. Не пьяная. Говорит, вообще не пила, и я ей верю. Когда такие чувства, зачем водка, да? Катюша, ну что ты? Все, прекращай тут слезы лить. Все хорошо будет, обещаю. Ты хоть шоколадку в сумке носи или сахар кусковой. Ну куда это годится?
– Она… меня уволят… точно… и у него… тоже проблемы будут… – всхлипывала девушка.
– Ой, дорогая, ну сейчас, слава богу, другие времена. На партсобрание не вызовут, прилюдную порку не устроят. Ничего не будет, – успокаивала ее главный бухгалтер.
– Я не хочу, чтобы ему плохо было, – лепетала девушка.
– Всем будет хорошо, не волнуйся. А на эту… как бы помягче ее назвать… не обращай внимания. Потявкает и заткнется. У самой рыло в пуху. А тетя Ира за тебя заступится, если что. Давай еще чаек хлебни. Вот молодец.
– А кто такая тетя Ира? – спросила девушка.
– Ха, так это я! – рассмеялась Ирина Михайловна. – Можешь так меня и звать. Знаешь, сколько лет я здесь работаю? Ого-го! Мы тут банда, если что. Михаил Александрович с нами, Леха, вот Рита, кажется, вливается потихоньку. Что, мы с ней не справимся? Говно она, а не человек, я так тебе скажу. Не в первый раз такое устраивает.
– Она обозреватель, а я кто? Стажерка. А если на кафедре узнают? Меня из института выгонят, да? – опять заплакала девушка.
– Так, я бы дала тебе таблетку, но у тебя и без того давление ниже плинтуса. Давай. Утро вечера мудренее. Дома поспи. Проснешься, и все уладится, да?
– Да? – переспросила девушка и потеряла сознание.
– Да твою ж мать! – воскликнула Ирина Михайловна. – Рита, ты сколько сахара в чай положила?
– Один, вы же сказали – сладкий, – опешила Рита.
– Надо было четыре! Молодежь, блин, всему вас учить надо. Ладно, давай потихоньку, никто тут не умирает. – Ирина Михайловна отвесила щедрую пощечину упавшей девушке. Та очнулась.
– Ой, больно. – Она потерла щеку.
– Ну извини, иногда перебарщиваю. Значит, сахар в рот – и встаем, да? – командовала главный бухгалтер.
Только что вернувшийся Леха подхватил девушку и на руках понес в машину.
– Леш, чай в нее влей и укрой двумя одеялами или что там есть. Потеплее, в общем. Тощая, одни кости. Небось и не ела сегодня. Да, захвати бутерброды со стола – впихни в нее, если получится. Бери с колбасой и красной рыбой! И с икрой тоже! И пирожные тоже возьми.
– Будет сделано, – ответил тот.
– Что с этой девушкой? И кто та женщина? – спросила Рита, когда Ирина Михайловна налила себе водки и залпом выпила.
Нависающей женщиной оказалась обозреватель отдела культуры Дарья. Катюша – стажерка в отделе политики. Третий курс журфака. У Катюши, которую все сразу же полюбили и только так и называли – уменьшительно-ласкательным именем, за природную смешливость и обаяние, – случился роман с заместителем главного редактора газеты. Сравнительно молодым, талантливым, известным журналистом. Женатым, конечно же. Но все как-то делали вид, что не замечают, потому что Катюша очень ему подходила, а пока еще не бывшая жена – совсем нет. Все знали, что замглавного сбегает с Катюшей в кино, в кафе, на свидания.
– У них ничего такого не было, только романтика, – рассказывала Ирина Михайловна. – Влюбленность, настоящая, понимаешь? И у нее, и, главное, у него тоже. Он дышать на нее боится. Трястись начинает, когда ее видит. Это не адюльтер, не какой-то там служебный роман – у них чувства. А жена нашего зама совсем его запилила – злая, нервная, очень неприятная женщина. Контролирует каждый его шаг. Он аж пригибается, даже когда по телефону с ней разговаривает. А та названивает, отчета требует.
– Так, может, не зря жена-то переживает, раз у мужа новые чувства вспыхнули, – заметила Рита. – Жена, наверное, не третьекурсница и не стажерка. В глаза не заглядывает, не восторгается, да и походом в кино ее не поразишь. Может, когда ваш зам женился, тоже любовь там была.
– Да, ты все верно говоришь, – кивнула Ирина Михайловна.
– Тогда почему вы за эту Катю вступились? – удивилась Рита.
– Не знаю. Чувствую – и все тут. Не важно – выйдет у них что-то, не выйдет, но эта зараза Дарья не должна вмешиваться в чужую личную жизнь. Не терплю этого. Нельзя лезть в чужой карман и в чужую постель. Правило такое. И жизнь нельзя другим портить, лучше своей заняться. Любовь, не любовь – видно будет. Но когда девочка рыдает и в обмороки тут падает, это совсем нехорошо. Она маленькая еще, растоптать можно легко. А ей дальше жить. И как-то в людей верить. Вот и пусть верит, что всегда найдется тетя Ира, Михаил Александрович, Леха, которые ее защитят. На этой обозревательнице великой уже крест можно ставить. Душа там прогнила давно. Личные обиды на других вымещает. Всегда была злобной, завистливой. Терпеть таких баб не могу. А у Катюши душа светлая, чистая. Нельзя ее ногами в живот бить. Нельзя лицом в грязь. Так я думаю… – Ирина Михайловна выпила еще стопку и продолжила: – Знаешь, моя бабушка, царствие ей небесное, не давала мне посуду мыть. Всегда сама у мойки. Я помочь хотела, просила: «Бабушка, давай я помою». А она всегда отвечала: «Намоешься еще, не дай бог». Бабушка посудомойкой работала, хотя окончила московскую консерваторию. По классу скрипки. Никогда больше к инструменту не притрагивалась. В ссылке, куда она за дедом уехала, не нужны были скрипачи, а посудомойки требовались. Дед должен был в лагере сидеть, лес валить, но его в колонию-поселение отправили. Он не верил до конца, а бабушка верила и за ним поехала. Он умолял ее развестись, чтобы не ломать себе жизнь, но она с ним после этого почти год не разговаривала. Поехала следом, обживалась, а ему – ни слова. Обиделась за то, что он вообще посмел ей такое предложить. Так год выживали, молча. Я спросила бабушку, почему она молчала-то, почему скандал не устроила. Она ответила, что обида – это одно, а долг – другое. Обижаться можно, предавать нельзя. Никого. Ни близкого, ни постороннего. Доносить нельзя, в чужом белье – грязном или чистом – нельзя копаться. Поэтому я так эту Дарью, которая вроде как за культуру отвечает, не люблю. Ей предать и нос в чужую жизнь засунуть – только в радость. У самой ничего в личной жизни не получилось, значит, и другим нужно отравить. Вот Илья из той же породы – никчемных и завистливых, ревнующих к талантам других. Это самое страшное, когда люди завидуют чужому таланту, не признают его. Талантом надо восхищаться. Как и порядочностью, честностью, преданностью. Так моя бабушка говорила, а я запомнила и много раз убеждалась – права она была. Сто раз права… Бабушка иногда доставала скрипку, трогала ее, будто ласкала, и укладывала назад в чехол. Говорила, что надо было учиться играть на баяне. Баян требовался, ценился, скрипка – нет. Не понимали ее. Кому нужны нежность и тайная страсть, когда жрать нечего? Под скрипку самогон не станешь пить. Частушки матерные не споешь. Даже картоху промерзлую в глотку не запихнешь, когда скрипка рыдает. Я бабушку помню, хотя еще маленькая была. Мне она казалась совсем старенькой, хотя ей было под семьдесят. Я вот работаю, на пенсию не собираюсь. А она была такой старушечкой. Совсем седой. Руки всегда красные, в топорщащихся венах. Но пальцы длинные, тонкие, красивые. Бабушка никогда не делала маникюр. Отстригала ногти чуть ли не под мясо. Говорила, не удобно с ногтями, а смысла в лаке нет. Все равно сойдет, стоит два раза посуду помыть. А мне кажется, она так привыкла – из-за скрипки – и надеялась однажды снова взять инструмент в руки.
Она всегда со мной. И ее скрипка – она мне ее передала по наследству, как и веру в любовь, – в любом месте, самом неприспособленном для чувств. Моя мама родилась, когда бабушке было под сорок. Сумасшедшая, ненормальная. Но мама осталась единственным ее выжившим ребенком. Было еще два сына – оба умерли в младенчестве. А мама выжила. Считай, родилась чудом, выжила чудом. Я хотела пойти в музыкальную школу играть на скрипке, как бабушка, но мне ее талант не передался. Слуха нет. Никакого, в принципе. Зато с математикой хорошо. Вот, выучилась на бухгалтера. Мама рассказывала, что мой дед был бухгалтером, поэтому его и на поселение, а не в лагерь отправили – ценный кадр для строящегося поселка. Он так и умер в поселке. Там и похоронен. А бабушка с моей мамой в Москву вернулись. Вот такая история. Считай еще счастливая для тех времен…
– Так что случилось с Катюшей? Почему на нее эта обозревательница накинулась? – спросила Рита.
Дарья случайно увидела замглавного и Катюшу целующимися на эскалаторе и возмутилась. Тут же побежала и доложила главному редактору. Тот отмахнулся. Дарья не успокоилась и пошла по редакторам отделов, сообщая, что замглавного порочит честь редакции, раз целуется с какими-то стажерками в метро. Редакторы тоже отмахнулись, но Дарья не успокаивалась. Она пришла к секретарше Юле с требованием дать ей домашний телефон замглавного. Юля отмахнулась, поскольку ее любовник уже два дня не выходил на связь и она пыталась ему дозвониться. Но, как назло, жена замглавного неожиданно появилась в редакции собственной персоной. Тут-то Дарья ей все и сообщила. Жена кричала, требовала устроить показательное разбирательство, немедленно уволить стажерку-разлучницу. Пока в редакции стоял дурдом, замглавного и Катюша гуляли по бульварам держась за руки. Ели мороженое. Большего им и не требовалось. Да, Катюша заглядывала ему в глаза, смотрела снизу вверх, восхищалась, не могла поверить собственному счастью. Все так. Он вдруг забыл обо всем, стал юным, дерзким, подающим надежды. Ему нравилось, как Катюша на него смотрит. И все вокруг нравилось – зелень, пруды, люди. Катюша благодарила за то, как он поправил ее текст, и за отзыв для института. Он ее обнимал, целовал и говорил, что она невероятно талантлива.
Когда они вернулись в редакцию, там стояла гулкая тишина. Юля попросила замглавного зайти к шефу. Сейчас.
– Ты это, заканчивай со своими шашнями, – добродушно хмыкнул главный. – Ну, или не знаю что делай. Но чтобы больше без этого цирка в редакции.
Заму рассказали, что произошло, пока он ел мороженое и был счастлив. Катюша плакала в женском туалете.
Дарья тогда рвала и метала, что вся история заглохла. А Катюша и замглавного продолжали встречаться. Вроде как. Ходили сплетни. Но сейчас Дарья решила все накопившееся у нее высказать самой Катюше, напрямую. Отчего девушка и лежала в обмороке. Где был замглавного в это время? Почему он не защитил от нападок любимую женщину? Где его вообще носило? Хорошие вопросы. Их задавала и Ирина Михайловна. Он точно был не дома, его видели вроде как в коридоре. Бежал куда-то.
– Мужики все одинаковые. Когда они нужны, их нет. Когда не нужны, пожалуйста, – возмущалась Ирина Михайловна. – И где носит Михаила Александровича? Кто-нибудь его видел?
Присутствующие пожали плечами.
– Хотите, я поищу? – спросила Рита.
– Да, будь добра. Только тихо. Мало ли что, – попросила Ирина Михайловна.
Мало ли что не получилось. Рита зашла в соседний кабинет и увидела главного редактора, замглавного и Саныча. Они стояли и смотрели в окно, разбитое вдребезги. Рядом валялся опрокинутый офисный стул.
– Ой, – сказала Рита.
– Лучше и не скажешь, – заметил Саныч. – Только пока никому.
– Меня Ирина Михайловна отправила, – тихо прошептала Рита, поскольку мужчины продолжали рассматривать улицу из разбитого окна.
– Позовите ее сюда, пожалуйста. Если вас не затруднит, – попросил главный редактор. Рита выскочила из кабинета и кинулась в соседний.
– Вас зовет главный, – шепнула она на ухо главному бухгалтеру.
– Куда? – уточнила та.
– В соседний кабинет.
Дальше Рита услышала такую ненормативную лексику, о существовании которой даже не подозревала. Ирина Михайловна выбежала из комнаты. Кажется, был белый танец. Дамы приглашали кавалеров…
Это было старое здание, историческое. Большие массивные деревянные двери, на каждой чудом сохранились таблички с именами тех, кто сидел в том или ином кабинете. И не просто таблички, а, можно сказать, табличищи – под бронзу, а может, и на самом деле бронзовые. Имена выбиты будто на века. Кабинеты редактората – огромные, с панорамными окнами, выходящими на бульвары, всегда гудящую улицу. Они были спланированы по одной схеме – предбанник с секретарем. Хотя, как хмыкал Саныч, у многих квартира размером с такой предбанник. Секретарь полагался каждому заму главного, члену редколлегии и выдающимся обозревателям. Дальше направо, если удастся миновать бдительного секретаря, стоящего на страже спокойствия большого начальника, и преодолеть еще одну массивную дверь, можно было попасть в кабинет. Там в непременном порядке стояли диван для отдыха, десертный стол, кресла, рабочий стол, перед ним стулья для посетителей. Еще книжный шкаф или полки. На десертном столе – вазочка с баранками и конфетами – от шоколадных батончиков до карамелек. Чай или кофе готовила секретарь и приносила на большом подносе под серебро. Чайный сервиз непременно был фарфоровым. На двенадцать персон. Сервизы дарились ведущим редакторам и обозревателям по случаю очередного юбилея. Это было разумно – посуда билась, поэтому чашек и блюдец на двенадцать персон как раз хватало до следующей круглой даты. Корреспонденты, младшие и старшие, обычно подкармливались у мэтров, подъедая сушки, не успевавшие засохнуть, и загребая в карманы конфеты из вазочки. Мэтры смотрели на это с нежностью – на сушки и конфеты существовал отдельный бюджет, но секретари иногда подкармливали начальников, принося из дома пирожки, печенье или даже торт.
Лучшим секретарем всех времен и народов когда-то считалась Лариса Николаевна. Это была редакционная легенда, а не секретарь. Она служила – ее собственное выражение – у прекраснейшего обозревателя, никто не помнил, по какому региону и темам, Леонида Валерьевича. Леониду Валерьевичу было далеко за восемьдесят, и он считался живым классиком. К нему в кабинет чуть ли не экскурсии из стажеров водили. Тишайший, милейший и невероятно галантный и вежливый Леонид Валерьевич совершенно терялся в присутствии Ларисы Николаевны, которая, как заправская супруга с многолетним стажем, отвечала на вопросы, не давая начальнику и слова вставить. Она же контролировала время общения с классиком и режим его питания. Кормила только принесенными из дома блюдами. Иногда Леониду Валерьевичу удавалось сбежать от неусыпного пригляда секретаря, и он, как свидетельствовали многие, по лестнице, не дожидаясь лифта, несся на второй этаж, где находилась столовая. Там было дешево и скудно – сосиски, макароны, подгоревшие котлеты, остывшее пюре. Горошек к сосиске, соленый огурец к котлете. Мутный серый бульон с одиноко плавающей половинкой яйца, зато хлеб, который повариха Людмила резала крупными ломтями, – бесплатно. Резала, кстати, можно сказать, на себе – всегда на груди, укладывая батон как на возвышение, а там имелось, на что укладывать. Говорила, что так резали хлеб и ее мама, и бабушка. Она по-другому не умеет. Но от Людмилы можно было получить и дополнительную сосиску, и, неожиданно, яичницу. Или, под настроение, Людмила заваривала в огромной «кастрюляке», опять же, ее слово, не чай или цикорий под видом кофе, а какао. И за это какао можно было отдать жизнь. Слух о том, что повариха сварила какао, разносился мгновенно, и в столовую стекались со всех этажей – урвать хоть стакан. Шли со своими чашками, потому что выносить посуду категорически запрещалось. За этим повар следила третьим глазом и всегда помнила, кто уволок стакан и не вернул. Как некоторые обозреватели припоминали, кто когда вынес из кабинета книгу и не вернул, и эта память жила годами. Людмила также помнила, кто заныкал стакан или тарелку, выданные по доброте душевной. Главное было не смотреть на ее руки с изувеченными ногтями. Людмила страдала грибком, но лечила его исключительно народными средствами. Например, святой водой, набранной на Крещение – внутрь и наружно. Она не скрывала проблему и с радостью готова была обсудить новые нетрадиционные средства лечения. Перчатками она не пользовалась, потому что в те времена повара вообще никогда не пользовались перчатками. И одна ложка для снятия пробы была для всех блюд. Правда, иногда Людмила вытирала ложку о фартук.
Те, кто добивался карьерного роста, переходили в кафе на седьмом этаже. Там уже был ресторанный уровень. Ну, почти. Подавали мясо по-французски, варили кофе, пекли кексы, что-то еще. Здесь было дорого, не всегда вкусно, но престижно. Появиться в кафе на седьмом считалось повышением статуса. Но все начальство питалось в соседнем корпусе, где находился настоящий ресторан – столы с белоснежными скатертями, водка в графинах, вино в хрустальных бокалах, жульен в кокотнице с закрученной бумажкой на ручке и все прочее. Официанты были всегда трезвы и услужливы. Салфетки накрахмалены. В этот ресторан вообще-то мог зайти любой сотрудник, никакого запрета на посещение не существовало, но все боялись и на всякий случай не рисковали. Да и цены там были в два раза выше, чем на седьмом этаже.
Так вот, Леонид Валерьевич, по статусу имевший право питаться в ресторане, причем, учитывая личные заслуги перед газетой, за счет редакции, всегда сбегал к Людмиле на второй этаж.
– Люсенька, это я, – сообщал он о своем приходе. Повариха, зардевшись, тут же забывала об остальных посетителях и кидалась лично накрывать стол.
– Люсенька, я так соскучился, – говорил Леонид Валерьевич.
– И я тоже, – шептала повариха.
Ходили слухи, что у них когда-то был роман, но Людмила, однажды услышав подобные сплетни, так прилепила половником тому, кто их распускал, что тот еще долго ходил с алым пятном на лбу. Но они действительно были давно знакомы – Людмила, тогда Люся, только нанялась на работу в редакцию и страшно боялась опозориться, но, как назло, все время то пересаливала, то выдавала подгоревшее. И только Леонид Валерьевич, тогда еще тоже молодой, но подающий большие надежды корреспондент, заступался за нее перед тем еще главным редактором, который давно умер. Редактор считал Леню практически сыном, хихикал, подтрунивал над симпатией к юной поварихе, но Людмилу не увольнял. И своему преемнику велел этого не делать. Сохранить кабинет Лени и должность Люси. Последняя просьба, которую нельзя не исполнить. Возможно, у них – Людмилы и Леонида что-то и было в юности, но сейчас они стали просто родными людьми.
Повариха, уставив весь стол тарелками, садилась напротив.
– Ленечка, как ты? – спрашивала она.
– Потихоньку, Люсенька, потихоньку, – отвечал он, с бесконечным удовольствием съедая котлету с соленым огурцом или сосиску с зеленым горошком.
Людмила бежала варить какао, которое так любил Леонид Валерьевич. Или доставала откуда-то тесто и через сорок минут ставила перед Леонидом Валерьевичем тарелку, на которой лежали пирожки с капустой и яйцом.
– Люсечка, ты помнишь, какие я люблю, – чуть не плакал тот.
– Конечно, помню.
– Только ты так умеешь. Из ничего сделать. Волшебница. Когда же ты успела? – восхищался мэтр, по сути, одинокий пожилой человек, у которого ближе Люси никого не осталось. Только она помнила, какие пирожки он любит, что предпочитает именно какао, а не кофе, пюре всегда сначала давит вилкой, пусть там даже нет ни одного комочка, и только потом ест. Люся сидела и смотрела на своего Ленечку – возможно, любовника юности, возможно, просто близкого друга, который все эти годы ее оберегал.
Кафе много раз намеревались закрыть, но оно так и продолжало работать. Людмилу не уволили, хотя тоже сто раз собирались.
Но этой идиллии всегда наступал конец. На пороге кафе появлялась секретарь Лариса Николаевна, ахала, охала и вытаскивала своего начальника из-за стола.
Кто-то из молодых корреспондентов однажды подслушал их разговор. Невольно, конечно же.
– Люся, что ты творишь! Ты же знаешь, что ему нельзя! – кричала Лариса Николаевна, тыкая пальцем в чашку с какао и тарелку с пирожками.
– Никому нельзя, но Ленечке было вкусно, – ответила повариха.
– Когда же ты одумаешься. Ну сделай ему свой капустный салат или этот, который с овощами и сметаной, – твердила Лариса Николаевна.
– Он ел и радовался, разве я могу отказать ему в радости?
– Ну ты-то хоть немного включи мозг! – кричала Лариса Николаевна. – Нельзя ему. Диабет. Ты ему про уколы напоминаешь? Или ты их делаешь?
– Прости, Ларочка, я не хотела. Будешь пирожок?
– Иди ты в жопу со своим пирожком!
– Пойду. Только ты его иногда отпускай сюда, хорошо? Очень тебя прошу. Он тут вроде как отдыхает, в прошлое возвращается, улыбается, как раньше.
– Да, десять минут счастья, а мне потом месяц его восстанавливать. Всегда только о себе думала. Давай сюда этот пирожок. С утра не ела.
– Так давай еще бефстроганов с пюрешкой, да? – подскакивала повариха.
– Ненавижу тебя, – отвечала Лариса Николаевна, с радостью принимая тарелку и с нескрываемым удовольствием съедая порцию.
– Очень вкусно, спасибо, – говорила она.
– На здоровье, Ларочка, на здоровье. – Повариха забирала тарелку и выдавала секретарю пакет с пирожками.
– Ты меня или его хочешь убить? – смеялась Лариса Николаевна, глядя на помутневший пакет с еще теплыми пирожками. Повариха клала десять штук, не меньше.
– На здоровье, Ларочка, – говорила Людмила, тоже улыбаясь. Она опять победила. Накормила и своего Ленечку, и Ларочку. В этом было ее счастье.
Опять же, по слухам, Лариса Николаевна тоже была любовницей Леонида Валерьевича. Приблизительно в те же годы, что и Людмила. Кто там кому пришел на смену, никто не знал. Но эти две женщины берегли и опекали одного мужчину. Всю его жизнь. Выходит, счастливый был человек. Иногда никого не остается. Не то что жены или любовницы – даже детей не дозовешься.
Когда Леонид Валерьевич заболел и больше не мог приходить в редакцию, Лариса Николаевна на общем собрании объявила, что не позволит снять с двери табличку с его именем. Да, вряд ли Леонид Валерьевич поправится и сможет работать, но табличка останется. Опять же, никто не посмел уволить секретаря, потому что даже главный редактор боялся с ней связываться. Кабинет приспособили под «приют», как называла теперь это место Лариса Николаевна. Но вроде как именной. Оттуда вынесли десертный столик и стулья, поставили дополнительные столы. Диван, по настоянию секретаря, оставили. Сюда сажали всех стажеров, практикантов, корреспондентов, подающих надежды. Пытались поставить дополнительный стол в предбанник – а туда бы вошли сразу три, – но Лариса Николаевна испепелила взглядом главного редактора, и тот отказался от этой идеи. Секретарь присматривала за молодежью, приучая к дисциплине, заведенному редакционному порядку и правилам. «У вас, Лариса Николаевна, не кабинет, а католический колледж», – смеялся главный редактор.
Леонид Валерьевич иногда приходил в свой бывший кабинет и радовался, что там столько молодых людей. Улыбался. Потом Лариса Николаевна приводила своего бывшего начальника на второй этаж и передавала в руки Людмиле, которая его кормила. Эти две женщины продлили ему жизнь на целых четыре года. Врачи давали три месяца. Людмила готовила, Лариса Николаевна читала вслух, заставляла выйти на прогулку, вытаскивала на выставки и концерты.
Леонид Валерьевич умер во сне в своей постели в возрасте восьмидесяти девяти лет, полгода не дожив до девяностолетнего юбилея, который успела организовать Лариса Николаевна – был запланирован и фуршет, и выступления, отпечатана и брошюра со статьями мэтра. Все это было использовано на пышных поминках. Лариса Николаевна скончалась через две недели после своего бессменного и любимого шефа. Но ей не полагались пышные поминки, поэтому Людмила, нагрузившись едой человек на пятьдесят, поехала в дальний район Москвы, где в однокомнатной квартирке собрались четыре соседки и дворник. Близких и родных у Ларисы Николаевны не нашлось. Да и друзей, подруг тоже не оказалось.
