Потаённые страницы истории западной философии
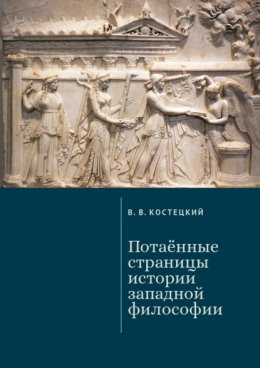
Предисловие:
«Открывая тайные страницы философии Запада»
Когда вы беретесь за чтение монографии автора, то становится ясно, что это не просто книга, но и яркое собрание эстетических зарисовок творчества мыслителей прошлого. Вам предлагают путешествие по потаенным страницам истории западной философии. Как и каждое путешествие, оно сочетает в себе известные и ожидаемые восторги. Процесс передвижения в путешествии связан с неожиданными поворотами, странными случаями, непредсказуемыми встречами и радостью ожидания чего-то чудесного. Всё это при умном чтении представляет работа Виктора Валентиновича Костецкого.
Это неординарный труд. Что потайного находит автор монографии в известных философских работах? Его привлекает пересказ, неверно истолкованный (пересказанный) известными авторами учебников и монографий. К примеру, «прекрасный поступок» в этике Аристотеля не устремлен к наслаждению и удовольствию. Такая трактовка есть результат ошибочного пересказа цитаты из текста Аристотеля, вырванной из контекста. Прекрасный поступок благороден, и потому чаще всего трагичен. Сила духа становится «благом», если есть «люди чести». Прекрасные поступки служат основой воспитания при условии, по Аристотелю, что в ответ на прекрасный поступок у окружающих должна возникать эмоция радости. Если она не возникает, то у людей в их собственном духе нет совести, – об этом продолжит писать Сенека в своих философско-педагогических сочинениях.
Есть темы, которые в истории западной философии даже не представлены, например, «Эстетика улицы в ранней античности». Правда, есть упоминание в «Рыцарь и буржуа: Исследования по истории морали», Марии Оссовской (1969/1987), однако в специальных работах типа «Античная эстетика» Владислава Татаркевича (1977), или «Эстетика поздней античности» В.В. Бычкова (1981) проблема обойдена молчанием. Автор же работы обосновал тот факт, что улица была и сценой, и даже частью домашнего интерьера; это было «сакральное пространство», вызывающее восторг и всенародный патриотизм граждан полиса. Между тем, во всей исторической литературе все разговоры ведутся об «агоре». Именно через улицу раскрывается связь истоков западной философии со спецификой «полиса». Очень важно, что автор монографии показал культурологическое значение улицы в античности, ибо она располагала к общению на ходу, когда слушались рассказы путешественников: о войнах, болезнях, праздниках, религиях, о животных и растениях, об обычаях у разных народов. Новые люди повествовали новые истории и несли новые знания. Так возникла новая плеяда рассказчиков о природе – «фисиологи», складывался «образовательный досуг» («схолэ») – своего рода школа на свежем воздухе в свободное время. Что важно отметить, Виктор Валентинович показал, что в «эпоху архаики» миграции населения часто носили не этнический («родоплеменной»), а сословный характер. И соседние народы все без исключения были тоже разносословными «переселенцами». В разных типах культуры типы поселения были разными, разными были и «улицы».
Примером уникального рассказчика на улицах представлен Сократ. Школа Платона функционировала на спортивной площадке вокруг статуи Аккада, Аристотеля – в парке вокруг статуи Аполлона Ликейского, а Зенона – в галереях портика Пёстрого. Одна из причин «уличного» источника философии связана с тем, что улицы были благоустроеннее интерьера зданий, плюс доступность, публичность, зрелищность всех контактов. Когда городская жизнь была подточена кризисом семьи, а алчность до денег смела патриотизм, спасла улица: встречались, обсуждали, горевали, смеялись. Потом принимали сообща решения. Философия, наука, искусства появлялись по случаю, но замечались, приветствовались и вдруг становились общей культурой.
Далее автор работы касается проблемы Пифагора в истории философии. Этот легендарный мыслитель живет в устном творчестве, но его реальное влияние сказывается в платонизме, в христианской философии, в античной науке, в философии Гегеля и Ницше, в передаче учений «великих посвященных», в современных представлениях об «измененных состояниях сознания». В чем же его сила? Она в том, что Пифагор рвет связи как с мифологическим мышлением, так и с тривиальным рационализмом своих современников. После Пифагора рационализм логичен у Парменида; поэтичен у Гераклита. Пифагор синтезирует рецептурные знания Древнего Востока и юридической практики Запада в форме «доказательства». Так натурфилософия переводилась из атмосферы мастерских в атмосферу орфизма и дионисизма, за которыми, в свою очередь, скрывались рецептурные знания жрецов Древнего Востока. По утверждению автора, философия Пифагора реконструируется только с термином «экстаз», под которым понимается «смещение», или переход в «измененные состояния сознания». Но это не одержимость, мания, гипноз, камлание, транс; это – тактичность, вдохновение, настроение, воодушевление, катарсис, энтузиазм. Рядом стоят такие термины, как эмпатия, симпатия и синергия, т.е. «вчувствование», содействие. Связи человека и природы на основе симпатии и синергии выражаются физически в форме неустойчивого равновесия «в точках бифуркации», когда сколь угодно большие изменения могут вызываться и регулироваться сколь угодно малыми силами. При симпатических отношениях человека и природы случайность и информация объединяются на пользу человеку, порождая эффект «везения», «удачи».
Автор монографии вскрывает значение «бытия» в философии Парменида, подготовленного пифагорейским открытием иррациональности в геометрии и арифметике. В философии Парменида мгновение есть синтез бытия и небытия. Мгновение для людей есть такое настоящее, которое появляется, исчезая, а исчезая, появляется вновь. Дух парменидовской философии адекватно представлен у М. Хайдеггера («Бытие и время», «Время и бытие»). По утверждению автора монографии, Хайдеггер, как ранее Гегель, заново открывает понятие «бытие» в зимний семестр 1921–1922 гг. в лекциях «Феноменологические интерпретации Аристотеля». Правда, у него «бытие» есть «присутствие» – естественная дифференциация трансцендентного. В человеческом опыте «прошлое» и «будущее» сами по себе суть «небытие». Но парменидовское «небытия нет» наводит на мысль, что «прошлое» и «будущее» тоже есть («присутствуют»). Их «присутствие» Хайдеггер определяет, как «четвертое измерение» времени. Хайдеггер посчитал, что кроме настоящего, прошедшего и будущего есть еще четвёртое измерение, не зависящее от предыдущих трех. Его, собственно, открыл Парменид, назвав «бытием», «то, что есть». Суть в том, что с точки зрения «богов» все три времени видны одновременно. Это означает, что «времени нет»; вместо времени – «бытие». Суть философии Парменида в смене точки зрения. Понять его, не меняя кардинально «точку зрения», невозможно.
Автор работы выступает против традиционного изложения философии Платона наподобие обзорной экскурсии, в которой акцент делается на термин «идеализм», упуская из виду саму технику мышления. Платоновские «диалоги» предназначены для читательских упражнений в технике мышления. Для философии Сократа-Платона-Аристотеля фразерство софистов, публицистов и литераторов является ложным мудрствованием. Что же в наших знаниях, суждениях и утверждениях является действительным, а что кажется таковым? Для ответа на этот вопрос сформировался новый стиль мышления – философия.
Слово и знак в философии Аристотеля требует специальных исследований. Традиционно считается, что язык – система знаков и результат общения. Как утверждает автор монографии, Аристотель нигде не опровергает эту традицию, но её не придерживается. Когда Хайдеггер пытался разобраться с пониманием языка у Аристотеля, то высказался так: «Путь к языку как языку длиннейший из всех, какие можно помыслить». Под влиянием демокритовских трактатов Аристотель различает слово и знание, отличает мысль о вещи от самой вещи. Сама философия Аристотеля начинается с обращения к словам. А слово – знак? Для софистов да, для Аристотеля нет. Особенность философии Аристотеля в том, что мир он воспринимает как выставку, которая удивляет. Слово у него обозначает не вещь, а серию рассказов о ней. Знание по своему способу существования аналогично выставке, демонстрации. Логос, это знание от выставки. Слово зарождается через рассказы о некоей вещи-с-выставки. Именно по этой причине слово всегда картинно и предполагает визуализацию. Слово всегда больше, чем «язык». Это проявилось у Хайдеггера «артистичной герменевтикой» в сфере философской терминологии.
Продолжение тематики слова и знака прослеживается автором в трактате Аристотеля «Категории» – «манифесте аристотелевской философии». Здесь внимание направлено на ключевое слово, остающееся без внимания долгое время. Это слово «сказанное», о котором написал польский логик Ян Лукасевич (1878–1956) в работе «Аристотелевская силлогистика с точки зрения современной формальной логики». Взгляд Аристотеля на «знание» был свободен от сциентизма и восходил в общем виде к эстетике. Неясность «Категорий» и была связана с игнорированием идеологемы «сказанного». «Сказанное», «высказывающая речь», «утверждение и отрицание», – не имеют прямого отношения ни к речи, ни к языку. Это особая реальность (демонстрация), когда слово понимается через вещь, а вещь понимается через слово. Это возможно только в том случае, если слово не относится к знакам. И «метафизика» Аристотеля исходит из осмысления того, что «вещь всегда в слове, а слово-в-вещи». Здесь не смесь слов и вещей, а другое постижение «метафизики», как и философии языка.
Касаясь апологии гегелевской диссертации об орбитах планет, автор книги раскрывает истинный смысл этой работы немецкого классика. Защита предполагает диспут с авторитетом, которым избран И. Ньютон, с его «законом всемирного тяготения». Парадоксальная неприемлемость ньютоновской аналогии между движением планет вокруг Солнца и раскручиванием груза на веревке не требовала от Гегеля знания новейшей физики, или прозрений. Его критика имела символическое значение. Однако в рамках «философии природы» вопрос об орбитах планет касался качественного изменения физических процессов при смене их масштаба. Предполагаемая «Большая физика будущего» рассчитывала отказаться от привычной бессубъектности природы.
Проблема спекулятивности и языка в философии Гегеля рассматривается автором через анализ диссертация И.А. Ильина (1883–1954) на тему «Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека»» (1918 г.). При этом ключом к диссертации выступает небольшая статья Гегеля «Кто мыслит абстрактно?», в которой Гегель уловил двойственность языка. В дальнейшем этот феномен разработали Соссюр, Шпенглер, Хайдеггер, Фуко и другие. Здесь трактовка «спекулятивности» реализуется с точки зрения «хорошего вкуса». В философии Гегеля вкус остается эстетической оценкой, о чем свидетельствуют категории в «Науке логики». В монографии тонко подмечено, что «Науку логики» надо считать логической проверкой действительности с позиции принципов «хорошего вкуса».
В представленной главе «Анти-лингвистика М. Хайдеггера: путь Аристотеля» автор оригинален и предлагает иной способ понимания языка. Классическими являются подходы, связанные с семиотикой и социальными отношениями, что совершенно недостаточно. Известна попытка М. Хайдеггера понять язык как «дом бытия». Для понимания языка важное значение имеет субъектность вещей, которая способна отделяться от самой вещи, трансформируясь в слово, в язык, в образ. Примером здесь выступает «секс по телефону»: вся феноменология секса оказывается в дискурсе. Признание сакральности языка очень важно для философии. Хайдеггер призывает понимать язык через поэзию, в которой усматривается интенциональность богов. Этнографы представляют важные материалы по трансовым ритуалам первобытных культур, как и исследования «измененных состояний сознания, которые способствуют исследованиям на «пути к языку». Показательны работы Станислава Грофа «За пределами мозга» (1985/1993) и Франклина Мерелл-Вольфа (187–1885) «Пробуждение в сверхсознании» (2009).
Прочтение доклада М. Хайдеггера «Время и бытие» с ироничным замечанием «вместе с Сократом» оригинально раскрывает как особенности, так и занимательности хайдеггеровского текста. Техника философской мысли не столько загадочна, сколько поэтична и следует традиции немецкой философии – изыскивать иные понятия для известных вещей. Сказывается его преклонение перед античным мышлением и греческим логосом. Начиная выяснять, что такое бытие, Хайдеггер ссылается на Парменида. Целью является не апология Парменида и Зенона, а изменение картины мира. Как показывает автор монографии, Хайдеггер обосновывает потаенную мысль: язык, время и субъект в своей онтологии совпадают. Смысл доклада «Время и бытие» не в том, чтобы чем-то обогатить концепции времени по примеру теории относительности, а в том, чтобы создать «доказательство бытия бога» самому себе. Нечто подобное было уже сделано Парменидом в онтологической монотриаде «бытие – ничто – творение».
Естественным продолжением рассуждений о языке становится расшифровка загадки Ф. де Соссюра о языке. Швейцарский лингвист говорит о философии языка парадоксальными тезисами, которые не вписываются в гносеологию западной философии. Язык есть система знаков, которые не аналогичны всем другим знакам. Он существует непрерывно, его не создавали люди. Признаки генезиса языка в самом языке отсутствуют, а имеются только симптомы видоизменения языка во времени и пространстве. Соссюр настаивал на том, что язык не возникает из общения. Автор монографии объясняет это тем, что язык возник не в результате общения людей на виду друг у друга, а в качестве письменности в культуре жреческой трансовой гносеологии ради записи рецептурного знания от «культурных героев». Именно в этих условиях язык есть письмо (предписание), а не речь. В разговорные конфигурации общения язык-письмо перешагнул благодаря промежуточной форме – жреческой поэзии в форме однообразных псалмопений.
Продолжая линию философии языка, автор монографии анализирует забытую рукопись русского филолога и социолога Д.Н. Овсянико-Куликовского об экстазе в языке и культуре. Мифологическое творчество привлекало его внимание несуразностями, в котором он увидел признаки патологической «логики», чередующимися иллюзиями и галлюцинациями – сумасшествием, экстазом. Экзальтация, достигаемая культовым ритуалом, потреблением наркотических веществ в рамках экстатического культа, продуцирует новое бытие человека, и эта экзистенция находит свое выражение в понятии духа. Однако, итогом транса-экзальтации становится визуализация способа разрешения проблем в жизни человека – здоровья, промысла, общения. Овсянико-Куликовский считал, что сохранение культуры трансовых ритуалов в наши дни проявляется в праздниках, ритуалах религии, искусстве, труде, досуге.
Важным аспектом рассуждений автора о «таинствах» истории философии и литературы является его «Аллюзия философичности в произведениях Ф.М. Достоевского». Отношение к творчеству Ф.М. Достоевского в философии далеко не однозначно, Так Н.К. Михайловский говорит о «жестоком таланте», а Бердяев считает, что до «Записок из подполья» Достоевский гуманист, а после – сверх-гуманист, аналогично сверх-человеку в философии Ницше. Внешнее славянофильство писателя импонирует читателям на Западе и в России. Л. Шестов считает все «идеи» Достоевского «накануне» (смысла). Достоевский как художник часто создает иллюзии идейности. Герои его произведения заняты «идеями» и «сплетнями», отражающими симбиоз чувственности и рассудка. Все это далеко от философии, о чём предупреждал еще в 1929 г. М. Бахтин в «Проблемах поэтики Достоевского».
Статья «Анти-Хейзинга: другая философия игры» касается феномена игры. Об игре известно достаточно много. О сути и сущности игры выступали литераторы, поэты, психологи, психиатры, педагоги, лингвисты, социологи, искусствоведы и философы. Возникшая концепция игры подвергается автором логическому и онтологическому, культурологическому и эстетическому анализу. Лингвистическая сторона проблемы в том, что семантика слова игра покоится между существительным и глаголом: играть можно не в игру, а игру можно осуществлять, мастерить. В плане содержания игра связывает между собой дурачество и серьезное творчество. В истории культуры феномен игры отсутствует в первобытной культуре и появляется уже вместе с цивилизацией. Социальная роль игры и её место в культуре связаны с нормами экстатичности.
Александр Блок писал: Есть игра: осторожно войти /Чтобы вниманье людей усыпить;/ И глазами добычу найти;/ И за ней незаметно следить».
Статья «Анти-Пирс: критика абстрактной семиотики» занята поисками причин, препятствующие её развитию. Автор спорно утверждает, что такой науки, как семиотика, нет. Однако, затем говорит, что на протяжении всей истории западной философии она неоднократно заявлялась и исчезала. В области семиотики по крайней мере насчитывается пять основных направлений развития.: концептуалистская теория (Э. Кассирер), формалистическая теория (Карнап, Гильберт), реалистическая теория (Гуссерль, Рид, Рассел, Пирс, Фреге, Гёдель), прагматическая теория (Пирс, Джемс, Дьюи), общесемантическая теория (Чейз, Кожибский, Хаякава). В них не ведется разговор об универсализации знаков. Все значительно сложнее. Однако авторское исследование «теории значения» Аристотеля, не совпадающие с устоявшимися трактовками, дает возможность говорить о том, что проблемы с семиотикой связаны с ложным включением языка в «систему знаков» и неверным отождествлением знака и сигнала по примеру Ч. Пирса.
Тезисы автора «Анти-Маркузе: оборотная сторона цивилизации» касаются проблемы безумия, связанной с цивилизацией. После работ З. Фрейда сексуальная проблематика в социально-гуманитарных науках стала проходной, как у Г. Маркузе «Эрос и цивилизация» (1955г.). Логика выстраивается просто: цивилизация не существует без труда; труд подавляет либидо, а либидо отождествляется с Эросом как «принципом удовольствия», «влечением к жизни». Эрос в трактате Г.Маркузе понимается абстрактно, как и труд. Однако, эрос в цивилизации имеет репрессивную функцию, а физический труд – психотерапевтическую. Г. Маркузе, предлагая выход цивилизации из тупиков «одномерного человека», настаивал на свободе эроса и сублимации труда в игру. Но именно это ведет цивилизацию к навязчивым идеям сначала в области эротики, затем к психологии массового безумия.
В заключении хочется отметить важность сочинений, подобных данной монографии, для умного чтения и умного обучения, а автора похвалить за смелость утверждений и широкую эрудицию.
А.С. Колесников, доктор философских наук, профессор, профессор кафедры истории философии Института философии СПбГУ
От автора
Существуют философские рассуждения, устные или письменные, которые можно ясно и даже красиво пересказать. Например, Платон замечательно и художественно пересказывал Сократа – или рассказал за него. Прошли века, а диалоги Платона тоже можно пересказать, в том числе с корректными пояснениями «от себя». С Аристотелем этот номер в большинстве случаев не пройдет. Добавленное «от себя» будет, как говорится, «отсебятиной». Пересказать Г. Гегеля часто тоже не очень удаётся: возникает ощущение, что всё у Гегеля перевернуто с ног на голову (классики марксизма). Существуют и более крепкие выражения в адрес текстов Гегеля, неподдающихся пересказу: «пьяные спекуляции» (Л. Фейербах), «шарлатанство» (А. Шопенгауэр), «бормотание визионера» (У. Джеймс). Пересказывать М. Хайдеггера тоже будет занятием не благодарным в виду его «артистичной герменевтики» (Т. Васильева). Варианты философских рассуждений, которые не удается пересказать, не перевирая (прошу прощения за прямоту), я буду именовать «потаёнными страницами».
Конечно, потаенные страницы философии могут раскрыть свои смыслы, только в каждом отдельном случае требуется индивидуальный способ чтения. Чаще всего требуется иное прочтение ключевого термина в отдельном фрагменте текста, который есть, но неизвестно какой. Возможны и иные случаи, когда, например, фрагменты текста сохранились в виде цитат, но в цитатах ключевые термины отсутствуют. Возможно, когда в тексте ключевой термин определяется только по контекстам, причем, каждый раз по-разному. Например, понятие «дух» в философии Гегеля предполагается понятным при определенном способе образованности читателей. Кому изначально не понятен «дух», тому Гегель не желает его объяснять. Аналогичным образом Аристотель не счел нужным пояснить, что он понимает под «категориями».
У скептиков возникает закономерный вопрос: если существуют тексты, которые специалистам столетиями не удавалось понять, то кто из ныне живущих может претендовать на их понимание, с какой стати? По поводу такого рода вопросов иронизировал Ф. Ницше в своем трактате «О пользе и вреде истории для жизни»: дескать, все великие мыслители, полководцы, художники, пророки были исключительно в прошлом; куда нам сирым. Ситуация была знакома даже Сократу, которому современники адресовали тот же упрёк. Сократ нашёлся, обращаясь к тем, кто желает у него учиться мудрости: «Слушайте не меня, а того, кто во мне говорит с вами». На эту тему есть известная восточная притча. Два китайских монаха наблюдают в дворцовом пруду золотых рыбок. Один монах восклицает: «Как счастливы эти рыбки!» Второй задает вопрос: «Откуда тебе знать, счастливы ли они, ведь ты не рыба?» Первый в ответ замечает: «Откуда тебе известно, что мне дано знать – ведь ты не я».
Если говорить серьёзно, то методология науки не сводится к опыту. Есть формы познания, когда знание «приходит само», – к тем, кто готов к нему. Сократ полагал, что сверх-опытное знание приходит от «даймона» («гения»), что внутри души; Пифагор полагал, что знание приходит «сверху», с «космоса» (современный вариант: с «ноосферы»). Атеистам нравятся интуиция и подсознание.
Вопрос о том, откуда приходят к отдельным субъектам новые знания в виде идей, формул, технических решений, музыки, поэзии, религии, – по сути дела праздный. История человечества убеждает в том, что такой факт имеет место, – и это главное. Все технические и медицинские знания древних цивилизаций имеют вид «рецептов». На египетских математических папирусах методом решения задач были приказы: возьми то-то, делай так-то; в итоге вывод: «Молодец, ты нашел правильно!». И нет ни одного папируса с попытками вывода, пояснений, обоснования, тем более доказательства. Знание дано в виде готового рецепта «делать как» с достаточной степенью точности. Кем дано? Этнографы вынуждены вникать в мифы о «культурных героях» – эвфемизмы тех же «даймонов», «гениев», «энтузиастов», «шаманов», «пророков».
В истории философии, как часто бывает в истории, без готовности к «феории» (теории – созерцанию не глазами, а «умозрительно») делать нечего. В истории, по замечанию Новалиса, «чем поэтичнее, тем истиннее». Современные историки больше верят криминалистике, чем поэтике. Между тем, Аристотель писал. что «поэзия философичнее и серьёзнее истории. Ибо поэзия больше говорит об общем, история – о единичном» [Аристотель, 1984, с. 655]. В отношении аристотелевского философского языка есть замечательное наблюдение филолога и философа Т.В. Васильевой о том, что при переводе «Метафизики» переводчики испытывают «трудности, в известном смысле аналогичные тем, которые испытывают переводчики стихов» [Васильева, 2008, с.194]. Соответственно, если один и тот же философский текст читать «исторически» и «поэтически» одновременно, то возможны те самые когнитивные моменты, когда знание «приходит само». Девиз Архимеда «Эврика!» вполне уместно иногда брать эпиграфом к собственным работам.
Тексты монографии составлены из отдельных статей, ранее опубликованных в разное время в разных научных изданиях. Естественно, что возможны повторения, за что автор приносит извинения строгим читателям. Все статьи в монографии разделены на три части. В первых двух частях речь идет о тех «потаённых страницах» великих мыслителей, которые при пересказе выглядят почти нелепыми. В последней части, напротив, речь идет о произведениях, в которых читателю внушается вера, что перед ним великое произведение великого ученого, что не соответствует реальности. Большими мастерами внушения «науки» были такие обаятельные персонажи, как Й. Хейзинга, Ч. Пирс, Ф. Энгельс. Внушению поддавались миллионы образованных людей.
При подготовке монографии автора побуждало к историко-философским исследованиям личное убеждение в том, что «реконструкция» странной точки зрения, как правило, не имеет никакого отношения к «интерпретации». Чужая точка зрения, тем более чуждая известным «нарративам», не познаваема, но узнаваема. Как узнаваема речь при всех пороках дикции, как узнаваемы персонажи при всех карикатурных трансформациях. Яркую точку зрения не могут испортить не только плохие переводы с языка на язык, провалы в тексте, но даже полное отсутствие текстов. Единственное условие – не надо заниматься «интерпретацией». Конечно, всегда найдется такой читатель, особенно считающий себя профессионалом, который заявит: «У вас тоже интерпретация. Вы меня не убедили». Однако, надо понимать, что не всех можно убедить даже в очевидном. Полезно вспомнить известный исторический анекдот. Киник Диоген решил занять большую сумму денег у самого жадного жителя города. Естественно, что тот оказался в трудном положении. Отказывать знаменитому человеку не хотелось бы, а давать денег жалко. Скряга решил выйти из положения просьбой: «Ты убеди меня, что нуждаешься в деньгах». Диоген ответил шуткой: «Если бы тебя можно было убедить хоть в чем-то, я убедил бы тебя удавиться». После И. Канта появилось много философов, которых невозможно убедить в том, что не всякое знание – интерпретация. Между тем, если знание настоящее, оно узнаваемо при любых деформациях – подобно лицу человека при всех изменениях возраста, при шаржах и карикатурах.
Введение. О пользе метода физиогномики для истории
«Как знаменательна, например, у разных народов разница в погребальном обряде… Южный человек, итальянец, бежит от своего мертвеца… Мы не бежим от своего покойника, мы украшаем его во гробе, и нас тянет к этому гробу – вглядеться в черты духа, оставившего своё жилище…»
К.П. Победоносцев
Константин Петрович Победоносцев, воспитатель русских цесаревичей, обер-прокурор Священного Синода, про которого современники говорили «он знает все», обращает внимание общественности на один важный обрядовый факт: на Западе хоронят в закрытых гробах, в России в открытых. Победоносцев поясняет это тем, что русских людей тянет «вглядеться в черты духа» покойного человека [Победоносцев, 1996, с. 219]. В этой фразе заключен парадокс, принципиальный для понимания давно известного метода под названием физиогномика. Как можно вглядеться (глазами) в черты духа, тем более уже оставившего свое жилище?
Вопрос о физиогномике в плане методологии науки поставил еще Ф. Бэкон со ссылкой на Аристотеля и Гиппократа. «Учение о союзе души и тела может быть разделено на две части, – писал он, – …Первая часть, т.е. описание того, что можно узнать о душе исходя из состояния тела и что – о теле, исходя из акциденций души, дала нам два вида науки о предсказаниях, один из которых известен благодаря исследованиям Аристотеля, другой – Гиппократа… они покоятся на достаточно прочном основании… первое из этих искусств – физиогномика… но если кто захочет в этой связи вспомнить и о хиромантии, то пусть знает, что это абсолютно несерьёзная и пустая вещь…» [Бэкон, 1977 c. 242–243]. Союз души и тела, о котором писал Ф. Бэкон, имеет место в отношении не только человеческого лица. Есть союз души и тела у театра, у города, этноса, ландшафта, войны, праздника, музыки, живописи.
Само слово «физиогномика» (или «физиогномия») ныне требует своего комментария. В обыденном русском словоупотреблении непроизвольно возникают ассоциации то ли с физиономией, то ли с физиогномикой как искусством угадывания судьбы по чертам лица (ведущей свое происхождение от педагогики Конфуция). Между тем, значимыми являются совсем другие ассоциации. Древнегреческое слово «физиогномика» (или «физиогномия») происходит от слияния двух слов: «фисис» или «фюсис» – природа и «гномон» – знаток. При не совсем буквальном переводе слова «физиогномия» в нем различают три сопряженных между собой значения: 1) особые приметы; 2) индивидуальный облик; 3) лицо. Последнее значение закрепляется во французском языке в слове «физиономия», откуда и перекочевывает в русский язык в качестве сленгового словечка (например, про ребенка иронично говорят «испачкал физиономию» или про взрослых говорят «дать по физиономии»). Между тем, «внутренняя форма» слова «физиогномия» расходится с бытовым словоупотреблением и отличается необыкновенным богатством смыслов гносеологического содержания.
Дело в том, что однокоренные слова «гномон» (γνωμον – знаток), гнома (γνωμα – примета) и гномэ (γνωμη – мысль, изречение-сентеция) группируются вокруг слова «примета» с коннотациями «приметливость», «метка», «заметить», «сметка», «приметливый ум». В результате гномон-знаток приобретает особое значение, отличное от «знатоков» другого рода. В древнегреческом языке «знаток» был представлен разными словами в зависимости от характера знания. «Гностик» (γνωστης – свидетельствующий) – знаток, чьё знание происходит из авторитетных источников. «Математик» (μαθηματικος – прилежный в обучении) – знаток школьным знанием, разложимым на части. «Эпистэмон» (επιστημων – сведущий в деле) – знаток с опорой на профессиональный опыт. «Эпи-истор» (επι-ιστωρ – осведомленный в какой-то степени) – знаток посредством общения, разговора, рассказов.
При сравнении знатоков разным знанием, «гномон» предстает как человек приметливого ума, который по незначительным на первый взгляд приметам быстро доходит до истины, причем «своим умом». Он не нуждается в избыточной информации для того, чтобы сделать выводы. По отношению к нему вполне применимо выражение «умному достаточно» или ироничная русская пословица «для того, чтобы понять, не скис ли борщ, не надо съедать всю тарелку». Обязательной особенностью гномического познания является не только быстрота мыслительного процесса от примет к истине, но и стремительность словесного изложения раскрывшейся истины, то есть краткость изречения, его лаконичность и меткость. Так, эллинская философия начиналась с так называемой «эпохи семи мудрецов», представленной «гномами» (в латинском переводе «сентенциями») типа «не богатей дурными средствами», «с женой при чужих не ласкайся и не ссорься: первое – знак глупости, второе – знак бешенства», «о богах говори, что они есть». Гномы не доказываются, как и метафоры. Они предназначены тому, кто уже готов оценить их по достоинству, лично принять и им следовать в своем индивидуальном выборе.
Быстрота мышления и краткость изречения в гномическом познании обусловлены точностью начального и конечного путей познания. Познание начинается с внимания к «приметам», которые должны сложиться в «картину», и эта картина должна иметь характер «портрета» того или иного события, его «физиономии» или «лица». Истина гномического познания имеет вид лица того или иного события. При этом предполагается, что все вещи, события имеют свое лицо, икону, эйдос, идею, энтелехию, образ. С формальной точки зрения физиогномический метод познания можно назвать иконическим или иконологическим, эйдетическим, идеографическим, энтелехиальным, даже образным, – однако все эти и подобные им названия представляют физиогномический метод лишь косвенным образом. Дело в том, что истина при физиогномическом методе понимается не как отношение, соотношение чего-то к чему-то, а как акт созерцания, как не сокрытое зрелище, – что и закрепляется в таких словах древнегреческого языка, как «алетейя» и «теория». Истина для «гномона» всегда картинна, и её можно видеть с определенной точки зрения. Так и «красота» для Аристотеля немыслима без объемлимости одним взглядом. Техника физиогномического метода основана на поиске такой точки зрения, с которой истина становится очевидной в силу объемлимости одним взглядом, когда видно всё и сразу. Объективность очевидного, а без учета объективности не имеет смысла говорить и об истине, основана на понятии «гнома» – примета: маленькая, но о многом говорящая черта. Как писал наблюдательный Ф. де Соссюр, «…следует уяснить себе, что сокровенные подробности явлений как раз и заключают в себе их конечный смысл» [Соссюр, 1990, с. 38].
Гномон-знаток не выискивает приметы; он так настроен, что нужные приметы сами бросаются в глаза; дело в когнитивном настроении. Говоря старым марксистским языком, познание активно, но в данном случае не со стороны субъекта, а со стороны объекта. Точнее говоря, функцию субъекта берет на себя и объект. То есть истина события, чтобы быть истиной, должна раскрыться, должна выйти на свет из тени собственного бытия, должна сама подставиться взгляду, должна замкнуть на себе взгляд познающего посредством какого-либо неприкрытого места, которое и выступает «гномой», приметой. Настоящий «гномон» ожидает и поджидает: истина сама найдет и его, и способ обладания ею. Так настоящий поэт не гоняется за рифмами, они сами находят его порой в самые неподходящие моменты. Поэтому корневое слово «гнома» (бросающаяся в глаза примета) по сути дела нельзя изъять из названия метода «физиогномический» и, соответственно, назвать метод другим, вроде бы как формально схожим термином.
Значение «лица» в ряду других значений слова «физиогномия» вряд ли можно полноценно заменить словами идея, образ, вид, эйдос, сущность, ибо лицо есть семиотическая реальность, но особого рода. Для физиогномического метода важным представляется не тот факт, что на лице есть знаки и символы, а тот, что лицо есть. Современный человек делает себе лицо, носит лицо, теряет лицо, и при этом может совсем не знать своего настоящего лица. Напротив, в первобытной культуре имя человеку давалось по его настоящему лицу: точнее говоря, имя не давали, а узнавали, выпытывали в ритуалах инициации. На одной фотовыставке американского географического общества я видел такую сцену из обряда инициации. Пляж, море, солнце. На песке спиной вниз лежит молодой человек. Два папуаса фиксируют ладонями его голову и ноги. Третий старательно наставляет на передние зубы инициируемого клиновидный камень. Наконец, четвертый участник, седой кудрявый старик, в обеих руках держит тяжелый плоский камень, занесенный над тем камнем, который приставлен к зубам юноши. Очевидно, еще миг, и передние зубы молодого человека «оставят свое жилище». По лицу пробежит судорога, после которой на миг появится лицо труса или мученика, страдальца или героя, подлеца или человека благородного. Проявленное на миг выражение лица закрепится в метафорах имени: Заяц, Орел, Мустанг, Коготь, – с сопутствующими дескрипциями типа «белый», «красный», «сильный». В ритуалах инициации фиксируется то лицо, которое проявляется в экстремальной ситуации так называемого «состояния предсмертного опыта». И по лицу в экстремальной ситуации предсмертного состояния дается сакральное имя. При приближении смерти человек не делает себе лицо – и если оно есть, то само переходит, насколько успеет, в явь. Явь замеченного в инициации лица и есть его пожизненная сущность (личность, персона).
В рассказе Ж.-П. Сартра «Стена» один приговоренный к расстрелу наблюдает за другим приговоренным к расстрелу, молоденьким пареньком: «…паренек не вызывал у меня ни малейшей симпатии. У него было слишком тонкое лицо, и страх смерти исковеркал его черты до неузнаваемости…и я подумал, что, если б даже его отпустили, он таким бы и остался на всю жизнь… Хуан не проронил больше ни слова, он сделался землисто-серым: серыми стали руки, лицо» [Сартр, 2002, с. 9]. Когда о людях говорят «серость», то дело не в живописно-малярной метафоре. У лучших индейских воинов в имени часто присутствовали означенные цветом дескрипции: Красный Конь, Белый Орел. Цвет обусловлен психофизиологией: кровь приливала к лицу одного или, напротив, бледностью покрывалось чело другого. В обыденной жизни лицо прикрыто выражениями лица, тем не менее, оно есть. Физиогномический метод познания и в науке, и в искусстве исходит из этого факта.
В лице выделяются три реальности. Одна анатомическая, о которой в словаре В. Даля говорится «передняя часть головы от уха до уха». В бранном разговоре, отмечает Даль, её обычно называют «харя» или «морда». Вторая реальность лица представлена «выражениями лица». Выражения лица фактически скрывают третью реальность лица, а именно само лицо, настоящее лицо как духовную составляющую телесного человека. Именно его можно прятать, терять, обретать – оно онтологично и встроено в более масштабные реальности, чем собственное тело человека. Физиогномический метод изначально ориентирован на познание лица в контексте собственной онтологии того или иного события или вещи, касается ли это политики, экономики, физики или искусства. Собственно говоря, физиогномический метод универсален и для него безразлична специфика предмета, поскольку истина и ее приметы есть у любого события. Пожалуй, самая уязвимая часть физиогномического метода состоит в том, что на лицо нельзя долго смотреть: при контакте со взглядом оно мгновенно закрывается «выражением лица». Лицо мелькает на мгновенье – и тот, кто не готов с ним встретиться, ничего не заметит. Так и взгляд неопытного портретиста может зависнуть на том или ином выражении лица, порой деланном и случайном. Напротив, опытный портретист стремится за анатомией лица, за текущими выражениями лица увидеть («поймать») лицо как персону, личность, а в персоне, личности увидеть характерную черту общества и человечества или – еще шире – характерную черту сотворенного богами мира. Поразительный пример художественного прозрения представлен в портрете А.С. Пушкина кисти О.А. Кипренского. Сам Пушкин считал, что портрет ему льстит. Современники Пушкина не сомневались в том, что оригинал много безобразнее своего портрета. Однако, после гибели поэта посмертная маска Пушкина оказалась совершенно идентичной физиогномическому видению Кипренского. Портрет и маска совпали! Оригинал остался в стороне, и в этом обыватели оказались правы. Лицо не маячит пред глазами; оно, как и икона, не в доску втиснуто, и не в «морду» впечатано; оно далеко выходит за пределы телесности. Лицо человека есть его ответы на все возможные вопросы бытия. И всмотревшись пытливым взглядом в лицо иного человека, не трудно оценить степень его испорченности. Как говорили греческие мудрецы, «трудно быть хорошим» и «большинство – зло». Да и Кант вторил древним: «…для нас хорошим кажется уже и человек, злое в котором не выходит за обычные рамки» [Кант, 1965, с. 36] . Мы, люди цивилизации, не знаем своего лица, и даже знать не хотим, потому что боимся узнать о себе лишнюю правду. Провожая человека в последний путь, русские люди стоят у открытого гроба своего покойника, стоят с надеждой узреть те драгоценные черты, которые хоть в чем-то позволили вот этому человеку победить в себе зло, не быть «г-ом» в прожитой жизни, такой изобильной на провокации к низкому. «Черты духа», о чем говорил К.П. Победоносцев, это черты победы человека над провокациями жизни, смысл которых состоит в том, чтобы сравнять человека с материей в её нижайшем измерении. Такова уж онтологическая точка отсчета, с которой начинается лицо. В упомянутой повести Ж.-П. Сартра «Стена» основная забота главного героя – перед расстрелом не обоср… ся, – это и есть исходная забота о своем лице. «Я пощупал штаны и убедился, что они сырые… Я сказал себе: ты должен умереть достойно…умереть достойно, умереть достойно – больше я ни о чем не думал» [Сартр, 2002, с. 29]. И пушкинская «Дуэль» основана на том, что дуэль парадоксально бессмысленна, если человек под дулом пистолета ни мало не встревожен заботой о своем лице, ибо абсолютно уверен в том, что он его не потеряет. И тогда пушкинский герой сам берет на себя заботу о лице человека, который задолжал ему дуэльный выстрел. Дуэль – не только поединок, но и форма повседневной для того времени прижизненной иконописи лиц.
Метод физиогномики в гуманитарном познании Европы стал возрождаться с известного трактата Ш. Монтескье «О духе законов» (1748 г.). Монтескье – юрист, адвокат, председатель Законодательного собрания в Бордо, пишет научный трактат, посвященный законодательному творчеству. Почему бы не назвать свой труд, например, «Законы» (похвальная перекличка с Платоном), «Системы законов» (в след изданному в 1735 году трактату «Системы природы» знаменитого Карла Линнея), или связать каким-либо образом с историей народов по образцу Геродота или Плутарха? Монтескье ничего этого не делает и называет свой трактат «О духе законов». Понятно, что трактат не имеет отношения к религии; более того, автор прямо подчеркивает мирской характер духа законов, вплоть до климата и географии. Тогда зачем говорить о духе? Конечно, в названии трактата можно видеть авторскую поэтизацию своего научного произведения, нескромную патетику или амбициозность, впрочем, совершенно неуместные в отношении Монтескье.
Далее на протяжении полутора столетий способ озаглавливать свое произведение по примеру Монтескье начинает с неумолимостью повторяться. В. Гумбольдт напишет «О духе, присущем человеческому роду» и будет говорить о «духе человечества», о «духе народов», о «духе языка». Ф.Ницше даст название одной из первых своих крупных работ «Происхождение трагедии из духа музыки». Между прочим, дух музыки – это не сама музыка, не ее звуковая форма, тогда что же? Далее появится работа М. Вебера «Протестантская этика и дух капитализма». Опять возникает вопрос: что такое дух капитализма, если это не сам капитализм? Наконец, у нас, в России на аналогичную конструкцию реальности выходит Л.Н. Толстой в своих педагогических изысканиях. «Есть в школе что-то неопределенное, – писал Л.Н. Толстой, – почти не подчиняющее руководству учителя, что-то совершенно неизвестное в науке педагогики и вместе с тем составляющее сущность успешного обучения, – это дух школы… этот дух школы есть что-то быстро сообщающееся от одного ученика к другому, сообщающееся даже учителю, выражающееся, очевидно, в звуках голоса, в глазах, движениях, в напряженности соревнования, что-то весьма осязательное, необходимое и драгоценнейшее и потому долженствующее быть целью всякого учителя» [Толстой 1989, с. 172–173].
Очевидно, для Л.Н. Толстого «дух школы» это реальность, это присутствие и влияние, это сила и энергия, непосредственно воздействующие на людей. Это реальность, в энергийности которой нельзя сомневаться, но которая не представлена каким-то одним телом, – почему, собственно говоря, язык и предлагает термин «дух». В. Гумбольдт считал этот термин в его новом значении вполне удачным за его энергийные коннотации (сила духа, вдохновение, энтузиазм) и, одновременно, особую телесно-чувственную приближенность: дыхание, винный дух (спирт-спирит). «Было нелегко найти выражение, – писал Гумбольдт о «духе человечества», – которое передавало бы суть человека одновременно общим и все же специфическим образом, наподобие таких слов как сущность (Wessen) и сила (Kraft). Чтобы подобное выражение было пригодным, оно должно было бы одновременно напоминать о его чувственной и внечувственной природе и, кроме того, указывать на его господство в этих сферах. В обоих отношениях слово дух (Geist) казалось мне наиболее уместным из всех слов, которые можно было бы использовать…» [Гумбольдт, 1985, с. 343–344 ].
При познании «духа человечества» В. Гумбольдт ставил перед наукой вполне практичные вопросы:
• «В чем состоит этот дух?
• Как он распознается?
• Как он формируется?» [Гумбольдт, 1985, с. 343].
Интересный вариант ответа на эти вопросы будет представлен современным французским историком Ф. Броделем. Бродель рассматривает историю человечества через палетку с разным временным масштабом. Так, однодневная история есть политика. История с интервалом в десятки лет есть экономика. История с интервалом в тысячу лет иногда оборачивается неподвижной историей: что было, то и есть. «Неподвижную историю» Ф. Бродель называет «духом народа». Раз исторически сформировавшись, дух народа сохраняется как самостоятельная реальность сквозь многие поколения. Для Г. Гегеля «geist» (дух) есть не только реальность, но и предмет философии. Науки изучают вещи, философия исследует дух вещей. Есть дух народа и боевой дух, есть дух семьи и дух предательства. Дух предопределен обстоятельствами и есть сила обстоятельств. Дух и есть ничто иное, как сила обстоятельств, созревшая до векторного выражения своего действия. Вектор силы обстоятельств метит лицо этой силы, приводит к персональному имени. Сила обстоятельств работает не от случая к случаю, а ведет себя синергийно по отношению к процессам реальности, телеологично, проводит свою линию.
Собственно говоря, когда дух чего-либо зафиксирован в восприятии, то условное тело этого духа будет трактоваться как «культура». Путь к научному пониманию культуры идет через референцию более фундаментального понятия «дух чего-либо»: места, времени, народа, языка, учреждения, профессии. Всякий же другой путь профанирует культуру до произвольных определений, которые не лишены истинности, но не обладают никаким научным потенциалом. Почему бы, к примеру, не согласиться с Ф. Боасом, что культура – это все то, что может быть выставлено в музее? Или с Б. Малиновским: культура – не сами вещи, а социальные институты, в которых вещи только присутствуют? Совсем уж правдоподобно понимание культуры Л. Уайтом: культура – это экстрасоматическое поведение человека; то есть все, что в поведении человека выходит за рамки природы, относится к культуре. Эти и другие определения (а их в научной литературе уже около четырехсот) не лишены истинности, но бесполезны для развития науки. В них нет ни истории, ни логики культурологической мысли. Раз возникнув, такого рода определения культуры сразу уходят не в науку, а в прошлое, в историю мнений. (Многих подобная ситуация вполне устраивает: можно обрести если не науку, то себя в науке. Как говорили римляне, не можешь стать великим, стань хотя бы известным.)
Можно спорить с тем, удачным или неудачным является термин «дух чего-то», или «дух вещи», или «дух события», но культурология и исторически, и логически начинается с того понятия, которое стоит за этим термином, понятия, доступного пониманию немногих. Довольно забавно читать в издании «Культурология. ХХ век. Энциклопедия» в статье, посвященной В. Дильтею, о том, что «вклад Дильтея в философское осмысление культуры не был оценен по достоинству. Отчасти это случилось из-за старомодной терминологии – новому тогда понятию «культура» Дильтей предпочитал понятие «дух», что сразу же помещало его в традицию классического немецкого идеализма и романтизма первой трети 19-го века» [Культурология, 1998, с. 172]. Во-первых, непонятно, почему Дильтей не был оценен по достоинству, во-вторых, и это главное, почему автор решил, что понятие «культура» для того времени было новым? Еще Гердер считал слово «культура» слишком древним, поднадоевшим и затасканном, и в силу этого не особенно пригодным для нового научного познания. «Нет ничего менее определенного, – писал классик будущей «культурологии», – чем это слово – «культура», и нет ничего более обманчивого, как прилагать его к целым векам и народам» [Гердер, 1977, с. 6]. Сам Гердер, как известно, избегал употреблять слово «культура». Одним из первых он стал употреблять «картина чего-либо»: картина истории, картина ландшафта, картина климата, картина языка. Вроде бы нет большой разницы сказать «культура эпохи» или «картина эпохи», но для Гердера это разница принципиальная. «Культура эпохи» может включать в себя все что угодно, от археологических находок кухонного содержания до абстрактных богословских споров. «Картина эпохи» в понимании Гердера непосредственно примыкает к выражению «духа эпохи» – в терминологии «великого Монтескье», как отзывался Гердер о своем предшественнике. И оба термина: «дух события» и «картина события» теоретически сопрягаются между собой в понятие «лицо события», в физиогномику события. Так, например, Гердер писал: «Гений народа более всего открывается в физиогномическом образе его речи» [Гердер, 1977, с. 239]. Напомню, что греческое слово «гений» имело то же значение, что и дух, персональный дух. То есть дух народа можно открыто лицезреть по картине речи. Стоит еще раз подчеркнуть: не по культуре речи, а по физиогномической картине речи.
Термин «физиогномика» настолько приглянулся Гердеру, что он склонен был придавать этому подходу всеобщее значение: «…Почему я не могу назвать труд, который исполнил бы мечту Бэкона, Лейбница… о создании всеобщей физиогномической характеристики народов по их языкам? Материалы для такой книги найдутся в лингвистических трудах, в записках путешественников…В свое время новый Лейбниц найдет его» [Гердер, 1977, с. 239].
Спустя более столетия почти теми же словами будет высказываться Шпенглер в отдельном параграфе «Заката Европы» под названием «Физиогномика и систематика»: «Систематический способ рассмотрения достиг на Западе своей вершины и перешагнул её. Физиогномическому еще предстоит пережить свое великое время… Через сто лет все науки, возможно,… станут фрагментами единственной колоссальной физиогномии всего человеческого». В пояснение своей мысли Шпенглер писал: «Физиогномический такт, с помощью которого по одному лицу прочитывается целая жизнь, а по картине какой-либо эпохи исход целых народов, притом непроизвольно и без «системы», остается бесконечно далеким от всякого рода «причин» и «следствий». Кто осмысливает световой мир своих глаз не физиогномически, а систематически, умственно усваивая его посредством каузальных опытов, тому в конце концов неизбежно будет казаться, что он понимает все живое в перспективе причины и следствия, без тайны, без внутренней направленности…» [Шпенглер, 1993, с. 257].
Шпенглер совершено прав, противопоставляя физиогномический подход системному подходу, равно как и историческому, «каузально-историческому» как уточняет Шпенглер. Без этого противопоставления культурология не может быть самостоятельной и оригинальной наукой, наукой нового поколения. Не случайно бум культурологи в нашем образовании не только спадает, но сам проект её, не начавшись по существу, сходит на нет.
При физиогномическом подходе решающее значение имеют не система и история, а те операции, которые позволяют выделить приметы и по приметам восстановить картину события и, более того, лицо события. К операциям такого рода относится та герменевтическая процедура, которую Ф. Шлейермахер называл «герменевтическим кругом»: части познаются через целое, а целое познается через части. Этот прием является обычным в классической технике масляной живописи: набросок, эскиз, подмалевок, проработка деталей, восстановление общего колорита, снова работа над деталями. Аналогичным образом работает следователь над различными версиями преступления. Переход от примет к целому в простых случаях имеет характер «узнавания», как это имеет место, например, в телевизионной игре «Угадай мелодию». Человек, внутри которого «звучат» мелодии всех известных ему песен, угадывает мелодию «с трех нот». Третий случай перехода от «примет» к общей картине события можно видеть в герменевтике «такта и вкуса», – как их трактует Г.-Х. Гадамер. Наличие «такта и вкуса» позволяет получать точное знание в условиях недостаточной информированности. «Под тактом, – пишет Гадамер, – мы понимаем определенную восприимчивость и способность к восприятию ситуации и поведения внутри неё, для которой у нас нет знания, исходящего из общих принципов» [Гадамер, 1988, с. 58]. «Понятие вкуса, – поясняет Гадамер, – первоначально было скорее моральным, чем эстетическим…под знаком хорошего вкуса… развивается способность к дистанции относительно самого себя и частных пристрастий…Хороший вкус всегда уверен в себе; это означает, что по своей сути он всегда – точный вкус… Что же касается первоначального объема понятия вкуса, то очевидно, что им обозначается индивидуальный способ познания. Он относится к той области, где по единичному узнается общее, которому оно подчиняется, Вкус, как и способность суждения, – это определение единичного с учетом целого… Это нужно чувствовать, но это никак нельзя проследить и доказать» [Гадамер, 1988, с. 58]. Переход от примет к целому, вообще говоря, многовариативен: это и герменевтика, и эмпатия, и узнавание, и даже дедукция с индукцией, – именно поэтому физиогномический подход гибок и эффективен. Его своеобразие не в переходе от примет к образу, а в способе выделения примет и идентификации понятия образа с лицом.
Что такое «примета» при физиогномическом познании? Это не «свойство», «черта», «признак», характерные для сугубо рационального познания, когда субъект активен, а объект молчит. Примета – это весть объекта субъекту; это активность вещи себя показать такой, какой она есть. Европейская наука, а вслед за наукой и образование, отказали вещам в реальности такого рода активности, соответственно, физиогномика потеряла смысл. Между тем, реальность сугубо персоналистична, о чем настаивал в своей «Науке логики» Г.Гегель. Все, телесно представленное, имеет свое лицо. И город, и школа, и религия, и история философии.
Часть первая
Пересказ в философии: история одной ошибки
«Но я не могу не принять в соображение, что если, например, иной раз самое лучшее в философии Платона видят в его мифах, не имеющих научной ценности, то бывали также времена – а их называли даже временами восторженности, – когда аристотелевская философия ценилась за её спекулятивную глубину…»
Г. Гегель («Феноменология духа»)
Каждый, обученный грамоте, может читать. Образованные люди могут даже знать значение всех слов в прочитанном тексте. Но если специализация текста и читателя сильно разнится, то возникает комичная ситуация: прочитать текст можно, а пересказать нельзя – не получается. Возникает только цитирование и слепой пересказ «близко к тексту». Ситуация становится далеко не комичной, когда преподаватель философии не может пересказать классический философский текст, заменяя пересказ собственным «анализом» или становясь экскурсоводом по цитатам.
Вот вроде бы простой и наглядный пример: аристотелевские тексты по этике. Текстов много, в хорошей сохранности, с хорошими переводами; тема всем понятна по жизненному опыту. Естественно, что Аристотель – далеко не простой автор и к банальностям не склонный. А судя по профессорским пересказам – склонный, и даже сверх меры. Например, в академическом издании «Краткая история этики» Аристотелю отводится самое большое число страниц (большее, чем Гегелю), однако, от этики Аристотеля не остается никакого впечатления. Вроде бы все тексты рассмотрены, всем поворотам аристотелевской мысли уделено внимание с соответствующим цитированием. Однако, ответить на простой вопрос: что есть такого особенного в учении Аристотеля, что оно нам, современникам развитой цивилизации, нам, русским, интересно – после долгого прочтения будет совершенно невозможно.
Между тем, без понимания этики Аристотеля идеология России или продуктивная реформа образования, о которых всё чаще говорят, невозможны, – эта мысль только выглядит «преувеличением». Через Аристотеля, как и других великих мыслителей, нельзя «перепрыгнуть», как нельзя дереву плодоносить, пропустив цветение. У Аристотеля этика, воспитание, образование не просто так связаны с политикой, а закономерно. Этика Аристотеля – не рассуждения о нравственности, не стремление создать особую науку («этика» – термин Аристотеля), а жесткая личная позиция. Аристотель в этике не менее категоричен, чем кантовский «категорический императив». Только императив лежит в другой плоскости и называется он «прекрасный поступок». Формулируется просто, но категорично: «не является добродетельным тот, кто не радуется прекрасным поступкам» [Аристотель, 1984, с. 67]. Слово «поступок», это не отсыл к «практике», к «действиям», как трактуют авторы академического издания. Термином и, соответственно, понятием в аристотелевской этике является не «поступок», а «прекрасный поступок» – как одно понятие. Вторым по значимости термином в «категорическом императиве Аристотеля» является требование «радости»: в ответ на созерцание объективно «прекрасного поступка» у достойно воспитанных людей однозначно возникает эмоция радости. Если именно эта эмоция не возникает, то о добродетели не может идти речи. «Ибо, – добавляет Аристотель, – и правосудным никто не назвал бы человека, который не радуется правому, а щедрым – того, кто не радуется щедрым поступкам, подобным образом – и в других случаях [Аристотель, 1984, с. 67].
«Прекрасный поступок» в философии Аристотеля – не фигура речи. Есть люди, которые в своей жизни ни разу не совершили «прекрасного поступка»: они-де не дураки. И таких людей не просто много, а большинство. Это их поговорки: «рыба ищет где глубже, а человек где лучше», «не делай другим добра, не получишь зла». Прекрасный поступок рискован: он за справедливость, а не за выгоду. В истории человечества были периоды, когда человек искал возможность – никогда не упуская случая – совершить прекрасный поступок; особенно этим отличалось рыцарство. Н.А. Бердяев рассматривал рыцарство как метафизическую категорию, аналогично Аристотелю, о чем писал: «…категории рыцарства и буржуазности – категории религиозно-метафизические, а не социально-исторические… Рыцарство остается вечным заданием человеческого духа <…> Дух рыцарства призван хранить подлинный, небесный аристократизм моральных ценностей [Бердяев, 1989, с. 472].
В аристотелевской философии этика и эстетика неразрывно связаны между собой за счет центрального понятия этики – «прекрасный поступок». Прекрасный поступок прекрасен не тем, что за поступок похвалили словами «прекрасно!», а тем, что у добродетельных людей возникает эмоция радости – при которой лица преображаются. Преображение радостью, вызванное прекрасным поступком, вносит определенность «прекрасного» в поступок того, кто на него решился. При радости и некрасивые лица некрасивых людей преображаются объективно: глаза лучатся, лицо светится, и даже ставший привычным лик подлости на время оставляет свидетеля прекрасного поступка. Прекрасный поступок лишает мещанство уверенности своего пресловутого «успеха». Не пытаясь осмыслить аристотелевское понятие «прекрасный поступок», авторы академического издания, тем не менее, замечают его присутствие и вводят от себя термин «моральная личность». «…моральная личность, – пишут они, – имеет критерий в самой себе, она как бы светится изнутри. Во всех своих этических сочинениях Аристотель то и дело возвращается к этому положению…» [Гуссейнов, Иррлитц, 1987, с. 143)]. Образ «свечения» не случаен, он есть у самого Аристотеля: «…нравственная красота (to kalon) продолжает сиять, коль скоро человек легко переносит многочисленные и великие несчастья – и не от тупости, а по присущему ему благородству и величавости» [Аристотель, 1984, c. 71]. Остается только добавить, что «светится изнутри» без «как бы», светится от радости.
Если идея «прекрасного поступка» в контексте рыцарства понятна, то возникает вопрос: кто из ведущих специалистов Института Философии Академии наук, философских факультетов университетов, кафедр этики обращал внимание на понятие «прекрасный поступок» в философии Аристотеля? – Никто. Более того, в авторитетном издании даже цитаты из Аристотеля о «прекрасном поступке» подменяются расплывчатыми комментариями. «Добродетельные поступки сами есть величайшее удовольствие, – пишут сановные профессора философии, – И кто не радуется таким поступкам, не испытывает наслаждения при их свершении, тот не может считаться счастливым» [Гуссейнов, Иррлитц, 1987, с. 119]. Очевидно, что это совершенно не аристотелевская позиция. Прекрасный поступок и радость за него не обращены к наслаждению и удовольствию, тем более не обращены к счастью. Это ложный пересказ цитаты из текста Аристотеля, вырванной из контекста. По тексту Аристотеля понятно, что прекрасный поступок для добродетельного человека самодостаточен и не требует привязки к удовольствиям и наслаждениям. И уж тем более он не есть «величайшее удовольствие», особенно учитывая возможно трагические последствия. Так, в трагедии Еврипида «Антигона» все «добродетельные поступки» заканчивались либо казнью, либо самоубийством. Рыцарский аристократизм аристотелевской позиции авторы учебника подменяют бытовым мещанством. То есть в самом существенном месте текста дается максимально далекий от текста комментарий, отчего результат следует поговорке «ложка дёгтя бочку мёда портит». Конечно, авторов не следует корить в злонамеренности: они просто не понимают того, о чем пишут – и сами этого не понимают. Это не безобидная ситуация: сначала философы недопонимают классиков, а потом министерские реформы не приводят к результатам.
То, что остается вне понимания в государственной академической науке, повторяется в утрированном в виде в высшей школе, где тоже любят комментировать Аристотеля. В учебном пособии А.Н. Чанышева, профессора МГУ, четверть «Курса лекций по древней философии» посвящена Аристотелю, при этом нет ни слова о «прекрасном поступке». Между тем, это учебное пособие, изданное тиражом почти 100 000 экземпляров, стало авторитетным на десятилетия по всей России: не без его влияния о «прекрасном поступке» напрочь забыли на кафедрах этики. В таком случае, что остается от этики Аристотеля? «Итак, – писал московский профессор, – этические добродетели – это мудрая середина между крайностями. Так, щедрость – середина между скупостью и мотовством» [Чанышев, 1981, с. 352]. После мудростей подобного рода уже столетия раздаются голоса о том, что Аристотель – величайшая посредственность, «аптекарь», «эмпирик». Между прочим, Аристотель предвидел возможность неадекватного прочтения его размышлений о «срединности» добродетели, о чем не преминул упомянуть. Середину, замечает он, надо понимать по-разному. Например, середина между числами 10 и 2 это 6. «Но не следует понимать так середину по отношению к нам», – замечает он [Аристотель, 1984, с. 85]. И поясняет: для одного 10 мало, для другого 2 много, так что 6 не является серединой ни для одного, ни для другого.
Аристотель, конечно, писал про «середину между крайностями», но в другом контексте, с учетом «прекрасного поступка». Это понимал Ф. Ницше как великий педагог, а не пресловутый автор «Воли к власти». «Человек, писал Ницше, – это канат, натянутый между животным и сверх-человеком, – канат над пропастью» [Ницше, 1990, с. 9]. Речь идет о том, кто может пройти по канату, когда слева и справа типичные пороки на основе нарушения меры. У Ницше это «сверх-человек», у Аристотеля – те люди, которые радуются прекрасному поступку (они добродетельны). Кто не радуется прекрасному поступку или не совершает его – не пройдёт по канату; в пропасти пороков их удел.
В этике Аристотеля пороки надо знать поименно, они возникают закономерно, если в системе воспитания нет однозначной ориентации на «прекрасный поступок». Мало совершать «прекрасные поступки» – требуется в ответ радость окружающих, радость и понимание. Как следствие, возникает энтузиазм гражданской и военной жизни, который Аристотель определял следующим образом: «энтузиазм есть возбуждение нравственной части души» [Аристотель, 1984, 636]. И.Кант эту мысль Аристотеля не оставил без внимания: «…идея доброго, соединенная с аффектом – писал он, – называется энтузиазмом» [Кант, 1966, с. 282]. Радость, о которой писал Аристотель в ответ на прекрасный поступок, есть именно аффект по настоящему добродетельных людей. Радость-в-аффекте заразительна и создает тот дух народа, тот общенародный энтузиазм, тот дух победы, без которого настоящего патриотизма просто не бывает. В русской культуре прекрасный поступок бытийственнен: например, спасти утопающего с риском для жизни и остаться незамеченным. Это означает «творить добро», вид творчества – духовного, без налета религиозности.
Тема энтузиазма была особенно близка Г. Гегелю, который в своей философии следовал не Платону, как трактует школьная традиция, а Аристотелю. Именно по этой причине в центре гегелевской философии оказывается понятие «дух». Диалектика, о которой много и замечательно писал Гегель, касается энтузиазма, «силы духа» во всех сферах жизни-бытия: в религии, в искусстве, в мышлении, в истории и даже в природе. Дух диалектичен, а не пресловутое «развитие» и «саморазвитие», как судачили в «материалистической диалектике». Дух понимается Гегелем как реальность типа боевой дух, дух народа, дух семьи, дух времени. Да, Гегель никогда не давал определения в общем виде того, что такое «дух» (Gеist), как будто исходил из того, что кто не понимает «духа», тому нечего делать в философии. Представление о духе закладывается школьным образованием, особенно при переводах художественных текстов с одного языка на другие.
Г. Гегель к философии подошел довольно поздно, к тридцати годам. Первые философские опыты были связаны с тем, что в христианстве, по его мнению, становится как-то мало духа религии, все больше литературности в вероучении и всё больше театральности в богослужении. Сопоставляя «дух религии» с «духом христианства», Гегель фиксировал их историческое расхождение. Следующий шаг по пути «философии духа» привел к тому, что существование «духа науки» в самой науке стало вызывать сомнение. В своей диссертации «Об орбитах» планет Гегель высмеял стремление науки проводить аналогии между земными и космическими процессами. В частности, критике подверглась методология И. Ньютона. По Ньютону, если раскручивать ведро на веревке, то возникает центробежная сила, которая компенсируется центростремительной силой – ей в космических масштабах соответствует-де введенная им «сила всемирного притяжения». По мнению Гегеля, подобные аналогии полезны для производства вычислений, но совершенно неуместны для понимания существа физики. Законы макрофизики и микрофизики качественно различны в силу различия в количественных масштабах. Когда дух физики соподчинен духу совсем другой науки, математике, физика теряет собственную теоретичность. Теоретичность физики не сводится к её математичности, как полагал Гегель вопреки мнению Г. Галилея.
Особое внимание Г. Гегель уделял духу и логике духа в искусствах. Например, в музыке изменение темпа произведения существенно меняет его смысл. Темп – количественный параметр, смысл – качественный. По известному утверждению Моцарта, «нельзя ошибаться в темпе!». Точно так же, нарушение целостности произведения при увлечении частями лишает его художественности. Напротив, художественность произведений возрастает при соблюдении логики содержания и формы, чему Гегель уделял наибольшее внимание. Для Гегеля неприемлемо распространенное выражение «о вкусах не спорят». При соблюдении логики искусства в отношений ряда категорий: количество-качество, содержание-форма, часть-целое, необходимое-случайное, единичное-общее и ряда других – «хороший вкус» является доказуемым. Есть дух чувственности, и в нем тоже есть логика. Даже в любви, как она существует во времени, есть логика, не говоря уже о логике духа в музыке или поэзии, живописи или театре, в жестах тела и танце.
Есть дух музыки, есть дух поэзии. Могут быть и такие случаи: в музыкальном произведении отсутствует дух музыки, а в архитектурном произведении присутствует. Аналогичным образом, в ином поэтическом произведении отсутствует дух поэзии, а, допустим, в музыкальном или театральном произведении его в изобилии. По А. Шопенгауэру, дух музыки всеобщ: он есть в любом духе, даже в духе природы или в боевом духе. Дух – странная реальность: в нем есть сила, но, кроме того, есть что-то от музыки, что-то от поэзии, что-то от театра и живописи, а также нечто от религии и творческого самопознания.
Естественно, что есть дух философии. Соответственно, есть дух аристотелевской философии или дух гегелевской философии. Пересказ в истории философии должен опираться на дух той или иной философии, не только на её тексты. Через тексты надо понять дух, и именно дух подвергать пересказу с использованием текстов. При этом следует учитывать, что формулировки авторского текста могут быть хуже мыслей самого автора. Даже Гегель извинялся за то, что текст «Науки логики» сам редактировал семь раз, а не семьдесят семь. И эта самокритичность небеспочвенна. Например, во всех томах гегелевских сочинений не найти вразумительных пояснений «духа», а вот Л.Н. Толстой сделал это с большой художественной и научной точностью, причем, на основе осмысления личного педагогического опыта. «Есть в школе что-то неопределенное, почти не подчиняющееся духу учителя – писал Толстой, – что-то совершенно неизвестное науке педагогике и вместе с тем составляющее сущность, успешность обучения – это дух школы…Этот дух школы есть что-то быстро сообщающееся от одного ученика к другому, сообщающееся даже учителю, выражающееся, очевидно, в звуках голоса, в глазах, в движениях, в напряженности соревнования, что-то весьма осязательное, необходимое и драгоценнейшее, потому должное быть целью всякого учителя» [Толстой, 1989, с. 29].
В истории философии у каждого крупного философа есть свой дух философствования, со своей спецификой. Например, Платон рассматривал каждую вещь в связке с идеей, а Демокрит с атомами. Гегель четко различал философию и науку: наука занимается вещами, а философия – духом вещей, например: дух народа, дух времени, дух человечества, дух города (района, здания), дух войны. Как писал В. Маяковский, «гремит и гремит войны барабан, зовёт железо в живых втыкать».
Точно так же есть совершенно неповторимый дух Аристотеля в философии. Причем, дух аристотелевской философии, например, неожиданно однозначно проявляется в сочинениях Цицерона или Сенеки, Гегеля или Ницше, Шпенглера или Хайдеггера. Мыслители разные, времена разные – прививка к философии общая, Аристотель.
Вернемся, однако, к вопросу об этике Аристотеля. Её центр – понятие «прекрасный поступок». Сенека очень точно понял Аристотеля, поверх его текстов, когда столкнулся в натуре с «дурными поступками» своего воспитанника, будущего императора Нерона. Именно тогда Сенека понял, насколько прав Аристотель в своем противостоянии Платону. Будучи приверженцем «академиков», признававших вслед за Платоном высшей реальностью «благо», Сенека в своих нравственных сочинениях вдруг категорично заявляет: «Благо делается благом в сообществе с честностью, честность и сама по себе благо» [Сенека, 1986, с. 327]. Под «честностью» в данном контексте речь идет не о воровстве, а о поведении «человека чести», том самом, по Аристотелю, который совершает «прекрасные поступки» как существенное проявление собственной жизни. Жизнь становится «благом», когда в жизни есть «люди чести», или не становится – без них. На прекрасных поступках можно и должно строить воспитание, но при одном условии, заявленном Аристотелем: в ответ на прекрасный поступок у окружающих должна (!) возникать эмоция радости. Если она не возникает, то это свидетельствует о том, что у людей чего-то нет в их собственном духе (нет совести). Так Сенека приходит к понятию совести (conscientia – со-весть, со-знание). Исходный смысл понятия «совесть» исходит из соотношения эмоция – знание, где знание касается «прекрасного поступка», а эмоция – ответная на него радость. Как отмечал переводчик трактатов Сенеки, «понятие совести как осознанной разумом и в то же время пережитой чувством нравственной нормы было введено в стоицизм Сенекой» [Сенека, 1986, с. 409].
Во времена Платона и Аристотеля такого понятия как «совесть» не существовало, хотя слово было (συνειδησις). Аристотель в своей этике лишь однажды его вспомнил. «Так называемая совесть, – писал он, – которая позволяет называть людей совестящимися и имеющими совесть – это правильный суд доброго человека» [Аристотель, 1984, с. 184]. Очевидно, что контекст этого пояснения не этический, а судебный – как это и было принято в те времена. Сенеке принадлежит заслуга термином «совесть» выразить аристотелевскую конструкцию добродетели через соотнесение «прекрасный поступок одних – ответная радость с пониманием других». В итоге: бессовестные люди те, кто не испытывает радости за прекрасные поступки кого бы то ни было, даже врагов. Так, античная трагедия приучала уважать врагов, если они совершали прекрасные поступки ради своего народа.
Довольно странно, что в своем, ставшем известным, учебнике по истории этики авторы позволяют себе опустить тот факт, что понятие «совесть» введено Сенекой, величайшим моралистом с огромным эпистолярным наследием. Уделяя Сенеке пару страниц, они пишут: «Сенека отступает от интеллектуализма стоической этики и говорит об ощущении добра, которое сохраняется даже у крайне порочных индивидов, о чувстве совести как недремлющем и самом строгом судье человеческой личности…» [Гуссейнов, Иррлитц, 1987, с. 183]. Но Сенека, вводя в моральную философию новое понятие – совесть, – совсем не об этом вел речь. Пафос Сенеки обусловлен ужаснувшим его открытием: некоторых людей бесполезно воспитывать, а именно тех, у кого нет совести с детства. Отсюда его сетование: «воспитание – ненадежное дело».
Сенека пришел к понятию совести в связи с личной трагедией неудачи с воспитанием Нерона, которую он теоретически объяснил тем, что его воспитанник оказался изначально без какого-то неизвестного элемента душевности. Подобные случаи среди молодежи стали повторяться все чаще: о наглости «золотой молодежи» времен перехода к империи первым начал возмущаться еще Цицерон. Выводы, к которым приходил Сенека, сводились к тому, что бессовестных людей воспитывать бесполезно; чтобы этого не случилось, с детства надо закладывать основы совести. Как писал Аристотель в «Никомаховой этике»: «Так что вовсе не мало, а очень много, пожалуй даже всё, зависит от того, к чему именно приучатся с самого детства» [Аристотель, 1984, с. 79].
Между прочим, положение Аристотеля с воспитанием сына царя Македонии было не многим лучше, чем у Сенеки. Аристотель разрешил проблему воспитания непокорного подростка с замашками «золотой молодёжи» тем, что привил ему понимание «прекрасного поступка». Уже став взрослым, Александр Македонский обронил фразу о том, что отцу он обязан жизнью, а Аристотелю – тем, что даёт ей цену. Наследник македонского тирана не стал хорошим человеком, но радость армии и гордость за него в веках он вызывал, в том числе прекрасными поступками.
Аристотелевская философия «прекрасного поступка», давшая начало его «этике», во многом обращалась к тому, что позднее будет называться «тактом». Например, он пишет «Порядочность и порядочный человек – это тот, кто довольствуется меньшим того, на что имеет законное право» [Аристотель, 1984, с. 338]. Понятно, что «порядочный человек» – это тот же «человек чести», поданный с позиции, которую Сенека определял как «совесть». В аристотелевской этике нет понятия «такт», «тактичность», но есть соответствующие образы. Например, тот человек мужественен, «…кто выносит, что следует, и ради того, что следует, так, как следует и тогда, когда следует…» [Гуссейнов, Иррлитц, 1987, с. 142]. Фразеология такта в этике Аристотеля типична: каждый может рассердиться, – писал он по другому случаю, – это легко; но рассердиться тогда, когда нужно, на того, кого нужно и так, как нужно – это дано не каждому.
Этика Аристотеля – в метафизическом смысле «рыцарская» (Бердяев), – призывает человека быть в своем поведении тактичным. Отсюда его призывы к середине между крайностями: «Прежде всего нужно уяснить себе, что добродетели по своей природе таковы, что недостаток и избыток их губят…» [Аристотель, 1984, с. 80]. Чувство такта как раз и позволяет держаться, например, в мере «достоинства» – то есть без приниженности или спеси. По сути дела, сами добродетели: достоинство, мужество, щедрость, порядочность и другие, – это феномены прекрасных поступков, не свершение которых и образует пороки. Порочность души начинается не с крайних пределов порока, а с неспособности к прекрасным поступкам и радости за них. В этом дух аристотелевской этики, а не в пресловутой «середине между пороками» или разделении добродетелей на «этические» и «дианоэтические» в угоду теоретикам. Конечно, это разделение имеет смысл, но в контексте «прекрасного поступка», а не в контексте классификаций.
Аристотель к этическим добродетелям относит те, которые становятся привычкой к прекрасному поступку, они совершаются с пафосом искренней страсти, аффективно, без «рассуждений» (диа-ноэсиса), без заботы о себе. Щедрый человек не высчитывает то, как ему не впасть в мотовство или, напротив, в скупость. Не высчитывает как раз в силу того, что он щедр. Конечно, щедрость можно проявить не от широты души, а ради приличия, обдуманно и взвешено – это будет тоже не плохо, но не будет этической добродетелью. Добродетели-без-аффекта Аристотель к этике не относит.
В настоящее время в философии существует проблема пересказа: для себя, в качестве конспектирования; для обучения; для исследований; для исполнения. Какая-то часть работы сводится к тому, что можно назвать «экскурсией по цитатам» – как части текстологического анализа. Однако, за всеми цитатами стоит логика духа авторского текста, с которого и следует начинать пересказ. Логика духа может не совпадать с терминологией авторского текста, что чаще всего и бывает. Например, Гегеля не пересказать из Гегеля, равно как Хайдеггера не пересказать из Хайдеггера. Не случайно существует традиции пересказов, например, Платона или Гераклита. Иногда традиции пересказа удачные, иногда малоудачные – как, например, с Демокритом, иногда совсем не удачные – как с Пифагором, от которого почти нет письменных свидетельств или Аристотелем – даже в самых доступных его текстах.
Эстетика улицы в ранней античности: Итоки западной философии
«Начало – половина дела».
Платон
«Начало – больше половины дела».
Аристотель
Так называемая «философия Древнего Востока» не возникает на улице. Место её появления: это монастыри и придворные апартаменты. Истоки западной философии не имеют никакого отношения к жречеству и дворцовой жизни. То, что называют «античной наукой» и «античной философией», возникает именно на улице, только «улица» в античном полисе не сводилась к проезжей части.
В русском языке, например, «улица» означает свободное пространство между рядами домов «лицом друг к другу». Это не переулок, не закуток, не площадь, не тупик. С другой стороны, улица означает «вне дома»; дети говорят: «пошёл на улицу». В древнегреческом языке улица (οδος) тоже означает «выйти за порог» (ουδος – порог); улица одноименна с дорогой, точнее, с городской дорогой. Но поселение под названием «полис» является не простым городом, и дороги там тоже не просто дороги. В полисе дороги по своему возникновению и содержанию являются «дорогами к своему дому». В выражении «свой дом» надо чувствовать очарование. Это не квартира, не съёмное жильё, не халупа, – а материальное право на гражданскую и семейную благодать.
Слово «дом» в таких языках, как русский, древнегреческий и санскрит звучит почти одинаково: «дома» в санкрите, «домос» в древнегреческом. Во всех трёх языках слово дом имеет двойное значение: 1) жилище; 2) проживание семьёй. В полисе дом стал чаще называться «экос» («ойкос» в другом произношении), – как жилой дом-фабрика на одну семью. В экосе уже нет «семейного уюта»: на первом месте производство и экономика. Аналогично в русском языке: два значения слова «дом» всё больше расходятся: дом как любое здание; дом как семейный уют.
Надо понимать, что в античном полисе (городе-государстве) феномен семейного уюта исчезал в экосе, но появлялся на «дороге к своему дому». Смысл уюта обретался не в доме-экосе как частной собственности одной семьи, а в «дороге к своему дому». В современной философской литературе оскомину набило понятие «агоры» (площади). Площадь в античном городе возникла из пустыря на пересечении дорог и архитектурно оформилась в довольно поздний период античной цивилизации. Изначально и долгое время агора, – это пустырь, стихийный рынок, базар, сходка, судилище, – отнюдь не место для философии и науки. Иное дело улица как «дорога к дому», причем с учетом всей метафоричности этого выражения.
Когда археологии делают раскопки античных городов, они мечтают о дворцах и храмах. По отношению к ранним цивилизациям это уместно. Во втором тысячелетии до нашей эры на Крите и в Аттике действительно существовали дворцы и храмы. Но после ряда землетрясений, после Троянской войны почти на пять столетий дворцовые цивилизации исчезли, территории пришли в запустение. Лишь к VIII веку до н.э. стали оформляться новые поселения: но без дворцов, храмов, мазанок и землянок. Город застраивался исключительно «средним классом»: у всех капитальный дом на одну мастеровую семью. Новые поселенцы для своего постоянного обитания выбирали странный ландшафт: не берега рек и морей, не горы или долины, не степи или лесные равнины. Поселенцев привлекала исключительно мелко холмистая территория с укромным выходом к морю. Туристы могут иметь представление о ландшафте полиса по Афинам и Риму.
Освоение территории начиналось одновременно с верхушек холмов. На холме силою одной семьи возводилось каменное домостроение (материал песчаник) в двух уровнях с закрытым внутренним двориком. Иногда говорят «с домом вокруг двора». Первый этаж использовался для производства одного вида товара силами самой семьи, второй отводился под жильё. Семья включала в себя не родственников (приживальцев), которые спали в рабочей (служебной) зоне, отчего сформировалось античное представление о «рабах» (без уничижительного значения). На момент формирования поселений нового типа существовал только один тип «рабства» – приживальцы, например, жертвы кораблерушений, беженцы. Историки называют это «домашним рабством». Довольно примечательно, что в поэмах Гомера о рабстве не упоминается; есть только «служанки», реже «слуги». Изначально раннее античное «рабство» – вопреки классикам марксизма и ходячим представлениям историков – было формой гуманизма: человека приютили; он, естественно, не ел свой хлеб даром; но и в свои жилые покои его ночевать не пускали. В истории человечества всегда были «формы зависимости», среди которых очень немногие можно отнести к рабству, хотя в метафорическом плане – все.
Слова «домос» и «экос» почти синонимии, но для культуры имеет значение их отличия. Домос ориентирован на уют домашнего очага и теплоту родственных отношений, поэтому домос украшается изнутри всеми доступными средствами: коврики, мебель, игрушки, памятные дары, красивая утварь. Иначе в экосе: это фабрика, ночлег, харчевня. Экос изнутри не украшается, в интерьер не вкладываются деньги. Экос украшается снаружи, причем, не ради строения; у экоса на вершине холма четыре фасадных стены – и все они видны с дороги. Дома в античном полисе раскрашивали не менее ярко, броско, кричаще, чем современные рекламы.
Дорога к своему дому, часто не в единственном экземпляре, приобретает не только важное хозяйственное значение, но и конкретно-символическое: это торговая марка, престиж, политический вес домовладельцев («демоса»). Экономика экоса, основанная на семейной рабочей силе, да еще при отсутствии конкуренции (на основе договорных отношений), приносила весьма ощутимый доход. Сложилась практика большую часть финансов вкладывать в «дорогу к своему дому»: лестницы, портики, балюстрады, мощения, зелёные ограждения. Естественным образом город превращался в парк.
Улица – в широком культурологическом значении – существенно зависит от климата и погоды. При иных погодно-климатических условиях улица при самом лучшем благоустройстве может оказаться необитаемой. Не так было в северном средиземноморье. К вечернему моциону даже в самые жаркие месяцы наступала прохлада. Трудовые будни «семейного подряда» заканчивались, и наступало время досуга: облачение в наряды и мерный проминад («перипатос») от холма до холма. Как проницательно отмечал О.Шпенглер, «любая античная этика есть этика осанки» [Шпенглер, 1993. с. 531]. Улица была тем местом, где осанка была не выправкой, а присягой горожан добродетели и гражданству своего отечества.
Античная улица всем располагала к досуговому общению (в отличие, кстати, от агоры). Кроме обычной соседской болтовни сложилась практика на ходу слушать рассказы путешественников: о войнах, болезнях, праздниках, религиях, о животных и растениях, об обычаях у разных народов. Каждый вечер новые люди рассказывали новые истории и несли новые знания. Тогда и сложился «образовательный досуг» («схолэ») – своего рода школа на свежем воздухе в свободное время.
Не удивительно, что новая форма поселения у самих поселенцев вызывала восторг, оборотной стороной которого явился всенародный патриотизм. Между тем, гражданское общество имело свою «ахиллесову» пяту: кризис семьи в условиях товарного семейного производства. М.Вебер с полным основанием мог называть тип хозяйствования в экосе «античным капитализмом», который со временем выродился в рабовладение. Классики марксизма, предлагая «учение о формациях», недостаточно знали раннюю историю Европы, а частично и вовсе не знали её, особенно древнюю. При семейном товарном производстве «рабочей силой» были дети: чем их больше, тем лучше. Дети заводятся бесплатно, работают за еду; ребенка часто сдавали работником в аренду соседям на три года. Из семьи стали устраняться родственные отношения. Детей заводили, чтобы они работали, подросшие дети ждали наследства. Оборотной стороной семейного финансового благополучия стал кризис семьи. Как писал Геродот: «Больше не будет меж братьев любви, как бывало когда-то, старых родителей скоро совсем почитать перестанут <…> Правду заменит кулак <…> Где сила, там будет и правда <…> Стыд пропадёт» [Античная литература, 1989, с. 63].
Право (если не долг!) быть богатым в родном городе никто не отменял, но возникла проблема совмещения этого права с нравственностью. Первый философский вопрос западной цивилизации возник еще до появления западной философии: это вопрос о совмещении богатства и нравственности – в сфере воспитания детей и взрослых. Полис в античной цивилизации был не просто городом в экономико-политическом значении, но всегда был городом с принудительным воспитанием детей и взрослых. Об успехах такого воспитания свидетельствует тот факт, что богатые жили скромно, старательно избегая роскоши и даже впадая в аскезу.
Ответ на философский вопрос о воспитании дала улица. Появились рассказчики, которые одновременно были богатыми и нравственными, а с появлением законов государства еще и законопослушными. По их примеру сформировался идеал горожанина (гражданина, у римлян «цивитас»): горожанину надо быть одновременно богатым, нравственным и законопослушным. Ушлым в практических делах грекам было понятно, что это невозможно: богатым трудно оставаться нравственными и законопослушными; нравственным труднее разбогатеть и легче оказаться без вины виноватым. Людей, способных представлять идеал нации в форме «богатый, нравственный, законопослушный» стали называть «софосами» (мудрецами); их было меньше, чем городов в Элладе, а в некоторых городках и странах не бывало никогда.
Первый этап античной философии, подготовительный, получил название «эпоха семи мудрецов». Софосы гуляли по улицам в часы «образованного досуга», и вели беседы на тему «лучше потеря, чем дурная прибыль», «жадный всегда беден», «ничего сверх меры». Даже богатым надо быть не сверх меры, и доброте есть предел. Показателен совет Солона, обращенный в закон: «кто выколет глаз одноглазому, тому выколоть оба» (мораль: живешь рядом с одноглазым, даже в ссоре будь внимательным). Античная педагогика взывала к мудрости. Софосы оказали влияние на формирование писаных законов и возникновение правового государства на основе принципа разделения властей (реформатор Солон сам был известен в качестве софоса). Софосы привили горожанам «любовь к мудрости» еще до появления собственно «философии». Довольно забавно, что в русской культуре нет понятия «мудрость». Слово «мудрец» звучит или архаично, или иронично. В античном полисе «мудрец» означало такого человека, которому удавалось одновременно быть богатым, нравственным и законопослушным, – о чем я писал четверть века назад [Костецкий, 2000] без надежды быть услышанным. В стране тысячами издавались учебники с сентенциями типа «философия – это мировоззренческое мышление или мыслящее мировоззрение» [Чанышев, 1981, с. 25], «античная философия в целом – философия рабовладельческого общества» [там же, с. 123].
Советы софосов передавались из уст в уста в виде коротких изречений («гномов»); позднее римляне назвали гномы сентенциями. Одна из сентенций имела особое значение, в качестве принципа: «жить надо по природе». Дело в том, что в правовом государстве требуется соблюдать законы, но возникает вопрос: чем определяется справедливость законов? Законы создаются людьми, людям свойственно ошибаться: даже нравы могут быть вредными, равно как экономический рост. В качестве общей меры нравственности, правопорядка и коммерческого успеха софосы потребовали обращения к «природе» («фюсис»).
В культуре «перипатоса» возникло новая плеяда рассказчиков, получивших название «фисиологи» (говорящие о природе). Тема «О природе» оказалась востребованной, в том числе по причине изрядной доли остроумия в доводах рассказчиков. Например, все видят, что линия горизонта имеет вид дуги. Варианты: земля – это диск; земля – цилиндр; земля – это шар. В рассказах появляются факты наблюдений, выдвигаются гипотезы, приводятся аргументы, – и всё это на улице, на виду всех гуляющих. Античная наука зарождалась в форме интеллектуального озорства, родственного в культурном отношении загадкам и шарадам Др.Востока. Никакого отношения к рационализации мифов, к десакрализации мировоззрения, к трудному пути «от мифа к логосу», к рефлексии над астрономией и математикой Вавилона наука античности не имела. Первоначально науку даже к «знанию» не относили, не то, что к «мудрости». Фалеса отнесли к софосам не за тезис «всё есть вода», а за умение наживать богатство, не вступая в противоречие с нравственностью (известная история с оливковыми маслобойнями). Предсказание солнечного затмения лишь укрепило авторитет Фалеса как софоса. Об остроумии Фалеса, сопряженного с трагическим миропониманием, история не забыла сохранить свидетельства. На вопрос, почему он не заводит детей (это же выгодно!), Фалес ответил кратко: «Потому, что люблю их». «За что благодарен судьбе? – За то, что человек, а не животное; за то, что эллин, а не варвар; за то, что мужчина, а не женщина».
Можно сказать, что фисиологи (натурфилософы), в отличие от софосов, со своей задачей «понять природу» при всем обилии попыток не справились. Чем больше вникали в тезис «надо жить по природе», тем меньше понимали природу. В итоге, уже после Сократа, пришли к выводу, что природа распознаётся через человека, а не через звезды, моря, флору и фауну. С возникновением христианства в философии возник тезис, прямо противоположный мудрости софосов: «не надо жить по природе – надо жить по духу».
В XVIII веке в русле эпохи Просвещения стали появляться книги с попыткой дать систематическое изложение греческой философии; обзор работ представлен Э. Целлером [Целлер, 1996, с. 15–20]. Естественно, что авторы монографий увязали возникновение западной философии с научными прожектами фисиологов, начав с Фалеса. В силу колоссальной филологической и исторической эрудиции немецких авторов не мог не возникнуть вопрос «о предпосылках античной философии». Неожиданно, вопрос при всех усилиях оказался неподъёмным.
Проблема в том, что все социально-экономические, культурные факторы повторялись в разные времена и по всему миру неоднократно, но западная философия возникла лишь однажды и только в Элладе. Рим, во многих отношениях повторяя культуру Эллады, философию вынужден был заимствовать. Столетние усилия многоопытных и эрудированных историков философии закончились признанием Э.Ренана: возникновение западной философии есть «греческое чудо». Сверх-талантливый народ, сверх-благоприятные ландшафт и климат, сверх-уникальная организация города, – вот и «греческое чудо». Собственно, и Э. Целлер склоняется к тому, что с этим должно согласиться. «Подлинные причины возникновения греческой философии, – писал он, – заключаются в счастливой одаренности греческого народа, в возбуждающем действии на него его географического положения и истории…» [Целлер, 1996, с. 23]. Другой его современник, известный антиковед Т.Гомперц придавал особое значение колонизации: «Решающее влияние на судьбы духовной жизни Греции оказали, однако же, колонии <…> Колонии были как бы огромными “опытными полями” эллинского духа, на которых он мог испытывать свои способности при наибольшем разнообразии условий и развивать все дремлющие в нём задатки» [Гомперц, 1999, с. 9-11].
Надо заметить, что столетие спустя после Целлера и Гомперца ситуация в исторической науке мало изменилась: те же переливы «от мифа к логосу», те же «мифогенные» и «гносеогенные» гипотезы, апелляции к разложению родового строя, отсылы к рефлексии и рационализации мышления. Не ново, не оригинально, не убедительно. Что касается России, то она шла в русле немецкого антиковедения, не делая ни шага вперёд. Останавливаться на мнениях А.Ф. Лосева или В.Ф. Асмуса и даже работ, вроде специально посвященных этому вопросу [Донских, Кочергин, 1993], не имеет смысла: повторение одних и тех же тезисов. Новых результатов нет до смешного, а демонстрировать остроумие при критике суждений уважаемых авторов не представляется достойным внимания.
Французский филолог и историк Ж.-П. Вернан в 1962 году издал трактат «Происхождение древнегреческой мысли», начав издалека – с крито-микенской цивилизации. Далее, как всегда, «темные века» (пять столетий), миграции племён, переселенцы, колонизации, – в итоге всё свелось к пресловутой «рационализации» (жизни и мышления). В «Заключении» своего трактата Вернан писал: «Становление полиса, рождение философии – весьма тесные связи между этими явлениями объясняют возникновение рациональной мысли, истоки которой восходят к социальным структурам и складу мышления» [Вернан, 1988, с. 156]. По не понятным причинам французский автор для выяснения «происхождения древнегреческой мысли» прибегает к подробному разбору крито-микенской цивилизации, что совершенно бесполезно для понимания истоков античной философии. С другой стороны, Ж.-П. Вернан не обращает внимания на то, почему переселенцы, в среде которых и возникла философия, для полиса выбирали мелкохолмистую местность, в каком порядке шла застройка холмов: с верху вниз или снизу вверх; городская застройка начинались с центральной площади или ею заканчивалась, чем экос отличается от домоса, какими были внутрисемейные отношения и почему «рабам» доверяли покупку ювелирных украшений при самостоятельной поездке в другой город. Культурологические подробности, безусловно, возвращают историческим мыслям конкретность и, должен признаться, по молодости был благодарен Вернану за сам ход его мыслей.
Складывается впечатление, что у историков нет понимания того, что в «эпоху архаики» миграции населения часто носили не этнический («родо-племенной»), а сословный характер. Например, мигрирует военная аристократия – возникает «дворцовая культура»: дворец, армия, ремесленники, сельские окраины цитадели. Мигрирует после крупного военного поражения часть армии – возникает «культура казачества»: военизированные деревни и хутора на основе местного поселения (и местных женщин). Точно так же возможна массовая миграция ремесленников в так называемые «медвежьи углы» (в европейском средневековье). Поселения мигрировавших ремесленников обязательно образуют особый тип поселения под названием «полис», – не важно, будет ли он за бугром («бурги» в эпоху феодализма) или на холме (античность). Античные «полисы» в эпоху архаики (времена Гомера и Гесиода) образовались в результате массового переселения ремесленников со своими кузницами, сыроварнями, маслобойнями, ткацкими станками. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в Др. Греции жильем стал не домос, а экос – дом на одну мастеровую семью.
В процессе сословной миграции возникает такая закономерность: культура переселенцев на свободных территориях повышается до уровня более высоких сословий. Так, рабы при миграции становятся рабовладельцами (с тягой к роскоши), вассалы – сеньорами, пролетарии – капиталистами, холопы – шляхтой. Так было и в развитом европейском средневековье, когда купеческие «цеха», «гильдии» обзаводились рыцарскими штандартами, эмблемами, пирушками, корпоративным образом жизни. Купцы ощущали себя рыцарями. Аналогичным образом, в античном полисе мастеровые домовладельцы позиционировали себя не подневольным мастеровым сословием, а свободными и суверенными «басилеями» (царьками). Басилей в раннем античном полисе, это мастеровой хозяин в своем домашнем «царстве». Кстати, подобное мироощущение было с молодости у Петра Первого.
В результате массовой миграции мастерового населения на свободные территории экономика стала «капиталистической», а культура «аристократической» (как бы «дворцовой»). Свободная территория (не предполагающая значительного сопротивления), сама по себе вызывает «пассионарность». Философы, нагруженные «материалистическим пониманием истории», отказываются верить в капитализм «темных веков» (а он был), равно как в аристократизм вне дворцовых культур. Историки, в свою очередь, довольно вздорно понимают динамику образования полиса в качестве «разложения родового строя», «утрату патриархальных традиций». Антиковеды, вторя историкам, изобретают свои формулы типа «от мифа к логосу», довольствуясь красотой этой фразы.
Соседние народы, окружающие полисы Эллады, все без исключения были тоже «переселенцами», только из разных сословий. Македония на севере и Персия на юго-востоке были «дворцовыми цивилизациями; Фракия на северо-востоке тяготела к «казачеству»; по островам хозяйничали переселенцы-пираты со своей суб-культурой в виде городков, мастерских, питейных заведений. Рано или поздно, сословная культура переселенцев становилась традиционной: появлялись свои формы хозяйствования, традиции досуга, культ, формы искусства. Что-то становилось типичным и затем повторялось в истории «архетипами». Например, пиратство воспроизводится в любой цивилизации, как и деспотии с яркой дворцовой культурой по типу Др.Востока. Повторяемость типов жизни О. Шпенглер называл «морфологией мировой истории». Эллинские «полисы» тоже повторялись в истории, начиная с Др. Рима и кончая «городами-коммунами» Европы, породившими бюргерство (буржуазию – во французской транскрипции).
В разных типах культуры типы поселения были разными, разными были и «улицы». В дворцовых культурах вряд ли можно вообще говорить о существовании такого понятия: внутри цитадели нет улиц, это скорее «коридоры»; среди трущоб за пределами дворцов улицы более напоминают «проходы». В казачьих станицах улица тоже понятие условное: проезжая часть между домами, никак не оформленная. В городах Европы и Востока улица предполагает не только проход и проезд, но и наличие магазинов, лавок, мастерских. В античном полисе у улицы своя специфика – «дорога к своему дому», в которую семья вкладывает большую часть своих доходов. Это именно тот элемент культуры «полиса», который привел к феномену «схолэ» (образованного досуга – публичного, открытого, на свежем воздухе, в нарядных одеждах), без которого феномен философии (в её западном варианте) никогда бы не состоялся.
Довольно показательно, что вся философская деятельность Сократа проходила на свежем воздухе, на улицах. В диалогах Платона в качестве обычной завязки сюжета фигурирует рассказ о том, что кто-то кого-то встретил на улице. Философствовать в закрытом помещении, даже в условиях вечерней пирушки друзей («симпосиума»), было не принято. Платон организовал свою школу на спортивной площадке вокруг статуи Аккада, Аристотель тоже выбрал себе парк вокруг статуи Аполлона Ликейского; еще одна крупнейшая философская школа Зенона-стоика возникла в галереях портика Пёстрого (в росписях Полигнота). Одна из причин «уличного» источника философии связана с тем, что улицы были благоустроеннее интерьера зданий, не говоря уже о доступности, публичности, зрелищности всех бесед. Улица, особенно с ученом портиков, была по сути одновременно сценой, кафедрой и даже частью домашнего интерьера.
В теории культуры существует понятие «сакральное пространство». Им может быть храм, а может быть кладбище. Может быть спальня или, напротив, кухня. Может быть кабинет, гостиная, а может быть тюрьма или военный плац. В античном полисе таким «сакральным пространством» была улица. Улица была не только «видовой» – с организованным видом на окрестности, – но сама была той выставкой, на которую экспонатами являли себя граждане полиса. Принято было «видеть друг друга насквозь»: по осанке, по жестам, по одежде, по взгляду, по разговору. Формировалась культура проницательности, характерная изначально для придворного общества. Улица регулировала нюансы поведения и чувственности, без которых эстетика «изящных искусств» вообще невозможна [Костеций, 2022]. Улица приучала не только смотреть, но и видеть: замечать малейшие детали, читать чужие мысли, видеть невидимое. В какой-то степени улица приучала к выставке, еще до появления самих выставок и даже изящных искусств.
Довольно странно, что во всей исторической литературе «улица» в античном городе как будто не существует; все разговоры об «агоре». Даже такой внимательный исследователь античности как Вл. Татаркевич, улице не уделяет никакого внимания [Татаркевич, 1977]. Казалось бы, для уяснения исторических деталей было бы резонным обратиться к истории и трудам историков. Однако, там ждет конфуз. Историки не уделяют внимания не только улице, но и дому. Они не знают различия экоса и домоса. Например, один из авторов многотомной «Истории Европы» походя изобретает странную конструкцию: «аристократический ойкос» [Андреев, 1988, с. 227], – видимо, понимая под ойкосом «дом вообще». Но ойкос (экос) – не дом вообще, а дом, совмещающий жильё с мастерской. И ничего «аристократического» в таком доме быть не может. В той же главе исторической энциклопедии под названием «Архаическая Греция» автор объявляет о двух противоречащих формах раннегреческого полиса: один в Афинах, другой в Спарте. «Причем, – уточняет он, – мы не должны упускать из виду то общее между ними, что позволяет считать их двумя разновидностями одного и того же типа государства, а именно полиса» [там же, с. 253]. О том, что в Спарте не было «ойкосов», без которых нет и «полиса», автору не приходилось задумываться. И это не удивительно: «В роли основного градообразующего элемента, – пишет ученый историк, – выступало свободное крестьянство» [там же, с. 241]. Возникает вопрос: весь город-полис занят ремеслом в расчете на рынок, а населяют его «крестьяне»? Следующее «уточнение» тоже обескураживает: «Сам город мыслился греками в первую очередь как политический (административный), военный и религиозный центр государства…» [там же, с. 241]. Но город – не центр государства, а само государство. Более того, государством в определённой мере является каждое домовладение, так что поселение, состоящее из домовладений, есть нечто подобное конфедерации или империи. Сельские окраины полиса вполне можно назвать римским термином «провинция», то есть «завоевание».
Историки, конечно, замечают, что крито-микенская цивилизация, это один тип цивилизации, а Эллада после архаического периода (XII–IX вв.) – другой. Все «объяснения» появления цивилизации другого типа у историков сводятся к «появлению железа» (Х в. до н.э.), «великой колонизации» (VIII–VII вв.) и «разложению патриархально-родового строя». Хорошо, что у медиков такого рода «объяснения» остались в прошлом: у больного температура, потому что он заболел.
Конечно, историки философии вынуждены обращаться к истории, археологии, лингвистике, филологии, – только само состояние этих наук очень часто приводит к разочарованию. Иногда история философии начинает идти на поводу конкретных наук. Тогда появляются однообразные заявления о происхождении западной философии: «греческое чудо», «переход от мифа к логосу», «зарождение науки», «рационализация мышления», «секуляризация», «колонизация». Как будто после всего набора «факторов» до философии остаётся один шаг.
Конечно, набор уникальных факторов имел место: и климат, и изрезанность береговой линии, и колонизация, и наличие письменности – да мало ли что ещё. Но вопрос о происхождение западной философии не сводится к «влияниям», а стоит жестко: почему в некоторых странах философия не возникает никогда? Почему в некоторые исторические эпохи философия не возникает ни у кого? Почему, наконец, в числе оригинальных философов никогда не бывает женщин (что не исключает их философской эрудиции)? Почему философия западного типа возникла лишь в одной стране (Элладе), лишь в определенный период (VII–VI вв. до н.э.) и далее лишь распространяется подобно диффузии культуры по другим временам и странам?
Конечно, идея связать истоки западной философии со спецификой «полиса» совершенно оправдана, только её вряд ли следует заполнять абстрактными фактами. Факты нужны, но совсем другого рода. Когда О. Шпенглер утверждает, что «античная этика была этикой осанки», – это факт, но не музейный и не археологический. Об этом факте говорят все пластические искусства античности. Точно так же О. Шпенглер заявляет: «Дом – наиболее чистое выражение расы из всех, какие только бывают» [Шпенглер, 2009, с. 155]. Факт состоит в том, что дом не сводится к зданию. Дом может быть даже «домом на колесах», «машиной для жилья» (Л. Корбюзье), руинами, халупами, улицей – человек не может жить без «своего дома».
О том, сколь трепетным было отношение горожан в полисе к своему дому, красноречиво свидетельствует Ксенофонт, современник Сократа (и спасенный им во время боев). Оказавшись в изгнании и став писателем, Ксенофонт оставил потомкам не только «Воспоминания о Сократе», но и трактат «Домострой». По ходу повествования Сократ желает лично увидеться с человеком, которого характеризовали «прекрасным и хорошим человеком». Таким оказался домовладелец по имени Исхомах. В его домовладении всё идеально, все вещи на своих местах, даже любимая жена нравится без белил и румян. Домохозяева, муж и жена, сознательно заняты физическими работами: и делу полезно, и здоровью. Слуги помогают по хозяйству, исполняют работы – хозяева не забывают их похвалить и наградить за аккуратность и исполнительность. Домовладелец любит собак и лошадей, любит выезжать за город смотреть за полевыми работами, очень нахваливает труд на земле. И доходно, и здоровью полезно. Сократ: «Клянусь Герой, Исхомах, сказал я, мне нравится твой образ жизни: такое одновременное сочетание способов для укрепления здоровья и силы с военными упражнениями и заботами о богатстве – все это, по-моему, восхитительно» [Ксенофонт, 1993, с. 235].
Дом, город, цивилизация связаны между собой и это тоже факт. Архетип городов Др.Востока ясен: город возникает вокруг храма, на равнине, на искусственном холме. Храм окружается крепостными стенами, во дворе строится дворец с «мегароном» для пиров. За пределами цитадели хаотичная застройка «временного жилья», сквозь которую при необходимости прокладывают прямые улицы. К краям улицы пристраиваются торговые лавки. Появляется «знать» – население цитадели, часть которого никогда не покидает дворца.
В Элладе ойкос (экос) возникает в результате миграции не крестьян, не заблудившихся воинов, не в результате завоевания новых территорий тем или иным деспотом, а в результате переселения на свободные территории ремесленного населения вместе со своими семьями. Экос и полис семейны по существу, но не в результате «патриархальных отношений родового строя». Архитектура экоса предзадана не предыдущими формами жилья, а символом цитадели: дом-крепость на горе (в другой исторической эпохе тем же символом станет замок). Но мастерская на горе не практична из-за логистики. Возникает архитектурно-экономический компромисс: свой каменный дом (с внутренним двориком) на холме. Не дворец, но каменный дом; не гора, так холм. Домовладелец вполне может позиционировать себя в качестве «басилея» («царька») с соответствующими функциями военного вождя (главы домашнего ополчения), священнослужителя и хозяйственника.
Античный город возникает на холмах и застраивается сверху вниз; между холмами никто строиться не желает по символическим соображениям – так на пустыре возникает «агора» (у эллинов) и «форум» (у римлян). Каждый домовладелец ощущает свое домовладение в качестве собственного государства, заключая с соседними домами-государствами письменные договора. Грамотность в полисе становится всеобщей. Полис – городское поселение ремесленников, поэтому в каждом доме специализированная мастерская, что делает неизбежным существование рынка и товарного производства на продажу. Поэтому в полисе возникает особый экономический уклад, который уместно называть «античным капитализмом».
Насколько эффективным был античный капитализм, могут свидетельствовать такие факты. Кредит был доступным всем домовладельцам, исходя из ста и более процентов годовых. Товаропроизводители были монополистами в пределах полиса. Рабочей силой при «семейном подряде» являлись дети. Ребенка можно было сдавать в аренду в счет погашения кредита: по одному из законов, «не больше чем на три года». Не без цинизма действовало правило «Деньги делают человека». Рабства на момент возникновения полисов не существовало, но в перспективе оно было неизбежным.
Возникновение «эпохи семи мудрецов» совершенно понятно с точки зрения того, что такое экос и полис, одос (улица) и схолэ (досуг) в их конкретном и специфичном наполнении. Но начала античной философии связывают не с мудростью, а с «физикой» («фисиологией» – слово о природе). Все учения «о природе» вписывались в терминологию ремесленной мастерской – стоит ли этому удивляться? Полисы, в которых появлялись «фисиологи», были городами, собранными из мастерских. Удивительно не ремесленное содержание первых «философских учений о природе», а сам факт того, что мастеровой люд, включая домовладельцев, посмел выдвинуть свое понимание мира (пусть сколь угодно ущербное). Учения Фалеса, Анаксимандра, Гераклита – не столько учения, сколько манифесты с требованием понимать природу по аналогии с мастерской, без обращения к преданиям. Надо признать, что манифесты нравились публике, вызывали живой интерес на протяжении пары столетий. Со временем амбициозные манифесты «натурфилософов» трансформировались в «учения» со своей аргументацией, наблюдениями, пояснениями, принимая тем самым вид науки (аналогичным образом в средневековых университетах сложилось богословие). Таковы, например, учения об атомах Левкиппа и Демокрита, апории Зенона Элейского, «музыка небесных сфер» Пифагора.
Что было «философского» в учениях натурфилософов, так это дерзость. При своём возникновении западная философия не придерживалась девиза: «Один за всех и все за одного!». Скорее, девизом было обратное: «Один против всех, потому что прав!». Важен не спор ради спора, и даже не победа в споре, а правота за счет вскрытия ложности популярных взглядов. Первые натурфилософы выдвигали концепции, ложность которых вскрывали друг у друга. В этом, между прочим, был момент шоу, «весёлой науки».
До Сократа античная философия колебалась между шоу и наукой; софистика лишь зафиксировала этот момент. Сократ, типично «уличный» философ, своей «иронией» придал всей западной философии серьёзный характер. Серьёзность состояла в обнаружении того, что художники не знают, что такое красота; музыканты не знают, что такое музыка; врачи не знают, что такое здоровье; педагоги не знают, «что такое хорошо, и что такое плохо». Всем взрослым людям хватает навыков и опыта, но не хватает проницательности; обидно это или смешно, каждый решает сам. Сократ изобрел простой путь в глубину понимания: надо взять слово и попытаться его «определить». Оказалось, что сделать это чаще всего не просто: слова ускользают от определения.
Античная философия «классического периода» (Сократ, Платон, Аристотель) под «мудростью» понимает умение раскрывать в словах знания. Уместно провести такую аналогию: люди принимают пищу – они знают, что едят? Люди называют продукты, знают названия блюд, различают съедобное и несъедобное, но могут ничего не знать о витаминах, жирах, углеводах. Человеческий опыт аккумулирован в языке, но переход от слов к знанию требует особых усилий, чему призвана способствовать философия. Классическая античная философия привела к возникновению «науки логики», а с опорой на логику философия приобрела строгий характер и затребовала знаний, которые стали «наукой».
Естественно, что логика применима к терминологии из разных сфер жизни: к военному искусству, к медицине, к литературе, к повседневной жизни, – поэтому посредством логики классическая античная философия приобрела универсальный характер. В каждой сфере деятельности есть своя терминология: у военных своя, у медиков своя, у политиков своя, у физиков своя. При логическом подходе к профессиональной терминологии появляются соответствующие разделы: философия войны, философия здоровья, философия политики, философия науки, философия искусства.
Чтобы не перечислять разные направления философской мысли, иногда используют выражение «мировоззрение», оговаривая, что это мировоззрение не повседневное. Является ли философское мировоззрение «научным»? Этот вопрос лишён смысла. Философское мировоззрение является философским. Это означает, что профессиональная терминология любого знания, включая научное, подвержена логическому анализу.
Естественно, что профессиональные термины в любой науке логически связаны между собой (формулами, принципами, классификациями), однако, эти связи всегда не полны, а все определения терминов в конечном счете определяются друг через друга. Когда логический анализ вскрывает алогичность профессиональной терминологии, он называется «метафизикой».
Как выглядел метафизический анализ во времена античной философии, можно показать на таких примерах. Например, деньги: в быту это «богатство», у экономистов «особый товар». Метафизически деньги – это орудие при активной позиции гражданина в городе. Житель деревни может быть активным без денег, житель города не может. Из этого можно сделать много выводов, в том числе такой: если активность горожан направлена на процветание города, им нужны деньги (кредиты, фонды); если не направлена, они им не нужны (налоги). Другой метафизический пример: частная собственность – это не вещи, а отношения между людьми по поводу вещей (Аристотель). Точно так же в математике: числа – это не количество вещей при счете, а отношения: равенства, неравенства, превышения, обращения. Например, на чашах весов приравниваются друг другу и вступают в отношения совершенно разные вещи. Многие виды чисел возникают в результате «обратных отношений». Так, если из меньшего числа вычитать большее, возникают «отрицательные числа». А если извлечь корень квадратный из числа два, то возникнет иррациональное число без строгой величины. Математическая терминология требует значительных метафизических рассуждений. Метафизика профессиональной терминологии не является теорией, но она требует перехода от опытных знаний к теоретическим. По этой причине математика Евклида или Архимеда стала возможной после метафизики Аристотеля, то есть применения логики к профессиональной терминологии.
Когда речь заходит о логике, возникает искушение объявить о рационализации, о переходе от мифа к логосу. Но история науки свидетельствует о другом. С XII века в Европе стали возникать университеты, где наряду с философией, медициной и юриспруденцией ввели «науки о Боге» и открыли богословский факультет. Богословы точно так же как античные натурфилософы, были не лишены юмора: «Может ли Бог создать такой большой камень, что сам не сможет поднять?» Университетские богословы столетиями творили мифологию Абсолюта с субстанциями и акциденциями, модусами и атрибутами, интенциями и ипостасями. Богословие по методу (логика) – наука, по предмету – миф.
Возникновение логики в разные времена и в разных странах не редкость. Применение разное. Можно строго логически строить мифы или математические теории. Можно математику выстроить логически. Можно естествознание излагать математически. В античный период западной философии логику обратили друг против друга. Сначала это было забавно, потом полезно. Ирония Сократа не была дружеской, не была лицеприятной и комплиментарной. Это само по себе не соответствует, например, индийской этике: не говори правду, если она неприятна; не говори приятное, если это неправда; говори правду, когда она приятна. Для западной философии характерна, как я уже сказал, дерзость: не знаешь, не говори; знаешь правду – не молчи. Позднее Данте добавит: «следуй своей дорогой, пусть люди говорят что угодно». На этом пути были жертвы, начиная с Сократа.
Сравнивать философию Запада и Востока не очень уместно, особенно с точки зрения их истоков. На Востоке вся философия существует в качестве обновления традиций, традиционного знания по цепи ученической преемственности. Традиции восходят к «откровениям», к пророкам – в традициях много правды. Времена, народы, языки меняются, скрывая правду откровений. На Востоке мудрые ей внимают и к ней возвращаются. В западной философии такая позиция называется «теософией» и известна со времен Пифагора. Если бы западная философия возникала среди аристократии придворного общества, она обязательно бы нашла себя в теософии (примером может служить масонство), но западная философия возникла среди ремесленного люда с правами домохозяев, в городе мастеров. Ксенофонт считает величайшими добродетелями, когда жена богатого домовладельца умеет сама ткать на станке, хлопает половички, подает пример аккуратности и рачительности, а домовладелец организует производство товаров на продажу и сам сажает деревья в собственных садах. Такими были горожане той эпохи в своем большинстве. Им нравилось жить в своем доме, в здоровом климате, трудиться, богатеть, общаться с равными себе соседями и сообща решать проблемы водопровода и обороны. Кризис семьи оборвал идиллию, жадность до денег смела патриотизм. Спасла улица: встречались, обсуждали, горевали, смеялись. Потом принимали сообща решения. Философия, наука, искусства появлялись по случаю, но замечались, приветствовались и вдруг становились общей культурой.
Обычно у всех народов другая ситуация: не умение оценить любое мастерство, хоть малое, хоть большое. Вот типичная ситуация российской повседневности:
- Я написал стих.
- «Не Пушкин», – мне говорят.
- Я наиграл сонет. –
- «Ты совсем не Башмет».
- Я ходил на этюды
- И написал полотно.
- «Уймись, – мне говорят, –
- Ты не Анри Моро».
- Я пошел на войну.
- Шлю оттуда письмо.
- «Ты не Стендаль», – говорят
- И не читают его.
- Я ближнему сердце отдал.
- «Ты не Христос», – говорят.
- – А сами вы кто,
- Живущие напрокат?
Проблема Пифагора в истории философии
«Наука манипулирует вещами и отказывается вжиться в них»
Морис Мерло-Понти. («Око и дух»)
Под «проблемой Пифагора» традиционно понимается легендарность мыслителя, существование которого ставится под сомнение. От самого Пифагора, если он существовал, никаких текстов не дошло; возможно, он их не писал. Сократ тоже не писал текстов, но аналогичной «проблемы Сократа» не возникло благодаря Платону. Пифагору же наследовали некие «пифагорейцы», которые упоминаются десятками: «ранние» (могли слушать Пифагора), «средние» (современники Платона), «неопифагорейцы» (современники Цицерона и Сенеки), – которые о нем что-то знали, что-то приписывали ему.
В историко-философской литературе забывают упомянуть о том, что «пифагорейцы» не имеют отношения к самой философии. Это люди, которые разделяют максиму, приписываемую Пифагору: исследовать природу полезно для очищения души. Имеется в виду очищение души от злокачественных страстей: зависти, жадности, мстительности, гневливости, обидчивости. По этой же причине женщинам нравится, например, вязать, вышивать, прибираться. Так называемые «пифагорейцы» находили себе занятие ботаникой, анатомией, астрономией, арифметикой и геометрией, литературой и искусством. Например, пифагорейцами себя считали скульптор Поликлет и писатель Плутарх. Нередко досуговые занятия в форме «изучения природы» оборачивались вполне профессиональными знаниями. Алкмеон прославился как врач, Гиппас как математик, Менестор из Сибариса прославился как первый ботаник. Были и такие, кто пытался уподобить себя философам, например, Филолай. Под видом философии у Филолая появлялись мистика чисел и мистическая астрономия вплоть до учения о Противоземле. Рассуждения Филолая нравились публике, он стал знаменитым.
Возникает довольно странная ситуация. В философии интересен прежде всего сам Пифагор; пифагорейцы интересны при специальных исследованиях. Но филологи и переводчики о Пифагоре ничего, кроме цитирования разных источников, сказать не могут. Проблема Пифагора оборачивается методологией: если историки философии не философы, а философы – не историки философии, то фигура Пифагора просто исчезает из истории западной философии.
Между тем, у Пифагора в истории западной философии на протяжении двух с половиной тысяч лет есть своё место: его влияние ощутимо в платонизме, в христианской философии, в античной науке, в философии Гегеля и Ницше, в передаче учений «великих посвященных», в современных представлениях об «измененных состояниях сознания». Всякий раз, когда в западной философии оформляется тот или иной иррационализм, так фигура Пифагора становится актуальной.
По датам жизни Пифагор относится к самому старшему поколению «фисиологов», озабоченных вопросом из чего (какого материала) возникает «фюсис», природа. Вопрос мифологичен по-существу, несмотря на механический характер вводимых аналогий. У Пифагора нет такой постановки вопроса; он не вступает в дискуссию с мнением Фалеса или Анаксимандра – иначе память об этом сохранилась бы. Можно сказать, что Пифагор первым порывает не только с мифологическим мышлением, но и с примитивным рационализмом своих современников. Рационализм Фалеса, Анаксимандра, Анаксимена мастеровой, производственный. После Пифагора сам рационализм в натурфилософии меняется. Рационализм Парменида логичен; рационализм Гераклита поэтичен. Возникают так же рационалистические суждения в медицине, биологии, астрономии. Пифагор реально влиял на характер последующей философии; поэтому авторская позиция Пифагора, можно сказать, «вычисляется» – даже без текстов самого Пифагора.
Сказать, что мы о Пифагоре ничего не знаем, было бы явным преувеличением. О нем довольно подробно сообщают Диоген Лаэртский в описаниях «знаменитых философов», Порфирий в «Биографии Пифагора», Ямвлих в «Жизни Пифагора»; сохранились изречения о Пифагоре Гераклита, Ксенофана, Демокрита и других мыслителей, близких по времени. Поэтому контекст философии самого Пифагора имеет ориентиры, дело за реконструкцией.
Начать можно с «теоремы Пифагора». Нет сомнений в том, что Пифагор не изобретал эту теорему: она была известна в Египте и Вавилоне с незапамятных времен. При строительстве больших объектов для построения прямых углов на земле использовалась веревка с узелками на расстояниях друг от друга 3, 4, 5 мер длины, которая складывалась в прямоугольный треугольник. Вместе с проверкой равенства диагоналей на плане местности этого было достаточно для разметки фундамента прямоугольной или квадратной формы. Очевидно, что 3 × 3 + 4 × 4 = 5 × 5 – пример частного случая известной теоремы. В математике Др.Востока не существовало процедуры под названием «доказательство»; ограничивались «знанием». Первым стал «доказывать» геометрические тезисы Фалес, с чем Пифагор был знаком. Поэтому можно предполагать, что в «теореме Пифагора» Пифагор изобрел не саму теорему, а её доказательство в виде построенных на катетах и гипотенузе квадратов с проведенными внутри них диагоналями.
«Теорему Пифагора» можно рассматривать как своего рода прецедент синтеза рецептурных знаний Др.Востока и юридической практики Запада в форме «доказательства». Пифагор и далее будет перелагать систему жреческих знаний Др.Востока в рационально-механические формы западной терминологии. Такие термины, как «космос», «философия», возможно, «музыка» появляются с подачи Пифагора, даже если сами слова не им изобретены. В Элладе кифаристика и авлетика, то есть игра на кифаре (струнный инструмент) и авлосе (духовой инструмент) не объединялись в «музыку». Слово «музыкант» означало последователя муз, то есть образованного человека.
Пифагор музыке придал космическое значение своим нововведением «музыки небесных сфер». Это был достаточно хитроумный ход, который, по всей вероятности, и вызвал возмущение Гераклита, известное брошенной им фразой «многознание уму не научает». Хитрость была в том, что натурфилософия посредством музыки переводилась из атмосферы мастерских в атмосферу орфизма и дионисизма, за которыми, в свою очередь, скрывались рецептурные знания жрецов Др.Востока. В глазах Гераклита в таком случае Пифагор выступал «агентом влияния», что и в самом деле соответствовало действительности.
Довольно примечательно, что современный автор текстологических исследований «раннего пифагореизма» Л.Я. Жмудь в резкой форме отвергает причастность «пифагорейцев» к шаманизму, который М. Элиаде, как известно, ассоциировал с «первобытной техникой экстаза». Конечно, Л.Я. Жмудь прав в том, что Пифагор и пифагорейцы не были шаманами, но из этого не следовало, что они избегали экстаза в иной технике исполнения, не в первобытной. Между тем, сам термин «экстаз» (εκ-στασις) никаких шаманских экзальтаций не предполагает; его смысл «смещение». Значение термина «экстаз» в качестве восторга, радостного исступления, оргиастической реакции довольно позднего происхождения, за пределами исторической Эллады.
Без термина «экстаз» философия Пифагора не реконструируема. Только пифагорейский экстаз надо понимать в буквальном смысле как «смещение», или в современном значении как переход в «измененные состояния сознания» [Костецкий, 2022]. Речь не идёт об одержимости, мании, гипнозе, камлании, трансе; скорее, речь идёт о тактичности, вдохновении, настроении, энтузиазме. Например, человек закончил свои дела в мастерской, умылся, переоделся и пошел в театр – естественно, должно произойти «смещение» психики, даже физиологии отчасти. В общем случае можно говорить о том, что человек нуждается в формах смещения психики субъекта под соответствующий объект. Под театр одно смещение, под войну другое, под математику третье. Гносеология Пифагора требует «смещения» субъекта под объект. В поздней эстетике подобное требование определилось в качестве «такта». Но тактичным человек должен быть не только по отношению к людям, но и по отношению к объектам любой деятельности. Для этого надо «смещаться». На поверку философия Пифагора оказалась полезной и практичной, в которой этика и эстетика переплелись в познавательной и деловой активности. Не случайно авторитетный Демокрит рассыпался в похвалах Пифагору, а в родном городе Демокрита по его, возможно, инициативе, впервые напечатали монету с изображением философа – Пифагора.
В целях реконструкции философии Пифагора было бы полезным привлечь к рассмотрению ряд терминов, производных или, напротив, восходящих к «экстазу». Например, Аристотель знает такие термины как «энтузиазм» и «катарсис». Более того, Аристотель не забывает дать определение: «энтузиазм есть возбуждение нравственной части души» [Аристотель, 1984, с. 636]. И.Кант почти буквально повторит за Аристотелем: «идея доброго, соединенная с аффектом, называется энтузиазмом» [Кант, 1966, с. 282]. Что касается «катарсиса», то это не термин аристотелевской эстетики, как полагал З.Фрейд, а термин храмовой медицины во времена дионисийских празднеств. Вполне вероятно, что Пифагор знал оба термина (и энтузиазм, и катарсис), требуя от своих слушателей «очищений» души, причем, разными способами: от гигиены и питания до вокала, танцев и музыки. В философии Пифагора человек должен быть энтузиастом; энтузиазм – общее состояние самого мира, космоса, «бытия». Термин «энтузиазм» точный, конкретный, наглядный. Военный энтузиазм называется «боевым духом», творческий энтузиазм называется вдохновением. Когда историки философии проходят мимо этого термина, то начинаются блуждания мыслей типа «космос Пифагора живой», «чудеса Пифагора – выдумки», «религия у Пифагора на первом месте». В энтузиазме нет религии; это в религии есть энтузиазм.
Вполне возможным было бы привлечение в тезаурус пифагорейской философии таких терминов, как эмпатия, симпатия и синергия, придав им понятийные значения.
Эмпатия означает «смещение» субъекта в объект, «вчувствование». Например, мать вчувствуется в родное дитя; мужчина вчувствуется в орудие производства, особенно при стрельбе или ювелирном промысле, в музыке. При эмпатии чувственность смещается на объект: ювелир ощущает свою руку на острие резца, канатоходец объединяется с канатом в единое тело. Ничего сверхъестественного в этом нет. Жизнь при всей удивительности её феноменологии естественна в самой жизни.
Симпатия в бытовой лексике означает нечто вроде приветливости, благорасположенности; при отсутствии таковых говорят об антипатии. Иное значение симпатии в первобытной культуре: это тип отношений с природой вне технического взаимодействия. В цивилизации отношения человека и природы строятся не на симпатии, а на силе и энергии; до цивилизации в основе отношений была именно симпатия. Человек искал себе симпатичные ландшафты и был обязан быть симпатичным им. Не случайно арабы любят пустыню, эскимосы тундру, монголы степь, русские лес. Ландшафты раскрываются любящим их, придают силы и инициируют знания. Ландшафты субъектны; как говорится, «в родном доме стены помогают».
В философии симпатией будет такая обоюдная эмпатия, когда субъект вчувствуется в объект, а объект отвечает взаимностью, то есть реагирует субъектно. Например, при симпатии к женщине мужчина взглядом вчувствуется в женщину, которая даже спиной чувствует, как он в неё вчувствуется: и либо сохраняет в себе это ощущение, либо проявляет антипатию. Симпатия возможна между людьми и животными, между людьми и растениями, между этносом и ландшафтом. Другое дело, что в условиях цивилизации едва ли не все симпатические связи игнорируются. Возникает ситуация, при которой человек объявляет себя субъектом, по отношению к которому всё вокруг него обращается в объект. Человек видит вещи, уверенный, что вещи не видят его. Конечно, видеть можно по-разному, чаще всего «со своей колокольни». Видеть означает не то же самое, что смотреть или разглядывать. Даже сны видят не глазами. «Видение», по сути трансцендентально, умозрительно. Можно слышать звуки только как звуки, а можно за звуками видеть события, их производящие. Поэтому музыка, по словам Т. Адорно, беспредметна, но изобразительна. В музыке визионерствуют. Вещи тоже «видят» друг друга: не потому, что они «живые», а потому что «видение» есть собственная часть «существования». Говоря языком Парменида, нет такого «бытия», которое никто не видит, и нет такого существа, которое ничего не видит: такого «небытия» нет.
«Синергия», – термин переводится как содействие; в христианской патристике стали переводить как «соработничество»; по латыни «кооперация». В религиозном смысле божества помогают человеку, которому они симпатизируют. Как помогают? – Силой обстоятельств. Случайные вроде обстоятельства складываются удачным образом. Например, во время морского сражения ветер может подфортить парусному флоту, или внезапный шторм способен разметать суда противника. Этно-ландшафтная симпатия всегда держалась на контроле в условиях зависимости человека от природы. Персонификация отношений симпатии и синергии явились основой того, что стали называть «религией». Религия не является «верой в сверхъестественное», как её определяют словари. Симпатия естественна, синергия имеет место в природе.
Взаимоотношения человека и природы на основе симпатии и синергии проявляются физически, только физика другая. Европейская физика Нового времени возникала в контексте «статика-кинематика-динамика». Башня должна стоять, а не качаться; пушечное ядро должно лететь на определенное расстояние. Новоевропейскую физику не интересовали «точки неустойчивого равновесия», «точки бифуркации» – интерес был к противоположному. Вся физика при объединении с математикой стала сводиться к написанию равенств. Но из того факта, что физиков и естествоиспытателей столетиями не интересовали точки бифуркации в природе: в погодных условиях, в медицине, в миграциях живых существ, – не следует, что точки неустойчивого равновесия в природе не играют роли – возможно, определяющей. Иначе к чему иррациональности? Как возможен квадрат с площадью, выражаемой, например, числом 2? Сторона такого квадрата не выразима определенным числом. Пифагорейцы поставили этот вопрос, Парменид с Зеноном взялись за его решение.
Неустойчивое равновесие характеризуется тем, что сколь угодно большие изменения могут вызываться и регулироваться сколь угодно малыми силами. Еще средневековый богослов и логик Жан Буридан, одно время ректор Парижского университета, предвидел возможность «точки бифуркации» в любом событии. В известном примере с «буридановым ослом» обрисована ситуация: если справа и слева от осла два одинаково привлекательных объекта питания, то он может умереть с голоду. Иногда по той же причине женщины не выходят замуж. Ситуация «на развилке» может возникнуть при движении косяка рыбы, перемещения дождевой тучи, прохождения препятствия электронами, при обмене веществ в организме.
Выход из точки бифуркации возможен либо за счет «случайности», либо за счет «информации». При симпатических отношениях человека и природы случайность и информация объединяются на пользу человеку, возникает эффект «везения», «удачи». При симпатии объекты субъектны; это означает, что они реагируют на информацию, которой может быть, например, «мольба». Как эта информационная «мольба» доходит до дождевых туч, рыб, вирусов – дело естествоиспытателей, которые на сегодняшний день не знают даже, как ориентируются киты и черепахи, переплывая океаны. Для ориентации в подводной среде нет ни звёздного неба, ни дна, ни берегов, но почему-то есть верная информация от неизвестного лоцмана (тоже имеет место «демон Сократа»?).
Начиная с Пифагора, эллины заговорили о «созерцательном образе жизни». Аристотель сопрягал «биос теоретикос» с «досугом», позволяющим вести интеллектуальную жизнь. В философии Пифагора, как она поддается реконструкции, значение «созерцательной жизни» несколько иное. За образец можно взять понятие «пассивный субъект познания» из философии А. Шопенгауэра. Речь о том, что надо уметь отдаваться: музыке, искусству, любви, познанию. Моцарт жаловался в письмах к отцу на то, что не он гоняется за мелодиями, а они за ним. М. Чехов утверждал, что артист должен не изобретать способ ролевой игры, а готовить себя к тому, чтобы роль сама его находила. С. Кьеркегор придавал «отчаянию» творческое значение – призыва помощи, когда творчество заходит в тупик.
Такие греческие термины, как «проблема» и «теория», очень удачны для реконструкции философии Пифагора. Слово «проблема» изначально означало «мольба», «запрос». Впоследствии акцент сместился на содержание мольбы, на то, в чем проблема. В гносеологии к проблеме предъявляются особые требования: она должна быть корректно сформулированной, особенно когда речь идет о помощи для её разрешения. При некорректной формулировке проблемы помощь может придти, но не в том направлении. Напротив, при корректной формулировке «запроса» помощь приходит в виде видения, «теории». Возможны и другие значения «теории»: откровение, озарение, инсайт, богопослание. Ожидание видения после корректного запроса есть то, что называется «вдохновением». Нормальная работа при вдохновении идет по схеме: запрос – видение, запрос – видение. В итоге работа спорится быстро.
В VI веке до н.э. мир был погружен в производство товаров, в рынок, в войну, поэтому гносеологическое учение Пифагора было по меньшей мере несвоевременным; с другой стороны, оно было на все времена. Конечно, Пифагор не изобрел его, как и «теорему Пифагора». Все «рецептурные знания» древних цивилизаций были получены жрецами по аналогичной методике. Эмпатия, симпатия, проблема, теория, синергия – в итоге благодарение за помощь в виде культа. Возможно, философия Пифагора не сохранилась в собственной терминологии, но вошла в жизнь под другими терминами. Сам Пифагор, по отзывам современников и ближайших потомков, вполне мог служить примером для подражания и воспитания.
Какой могла бы быть картина мира в философии Пифагора? По-крайней мере, ветхозаветная картина сотворения мира вполне могла быть ему известной на основании путешествий, равно как и мифология в изложении Гесиода. Точно так же Пифагор мог знать индуисткие учения о вибрациях Верховной личности, о хореографии поз Шивы. Вернувшись из восточных путешествий, Пифагор вполне мог совместить греческую астрономию того времени с индийскими мотивами, в результате чего «Всё» стало «космосом», причем по типу музыкального инструмента. У Фалеса «вода», у Анаксимена «воздух», у Пифагора мир – музыкальная шарманка. Можно сказать, что природа и люди живут внутри музыкального инструмента, на котором кто-то играет. Исследователь «раннего пифагореизма» Л.Я. Жмудь доказывал, что во времена Пифагора в философии о «числах» не было и речи. А «музыка небесных сфер» была.
Тем не менее, «числа» всё равно рано или поздно появились бы. Когда они действительно появились, Аристотель не был удивлен. Открытие гармоничных интервалов октавы, квинты, кварты скорее всего действительно имеет авторство, и автором открытия мог быть Пифагор. Дело в том, что музыка античного времени не знала аккордов, так что в гармоничных интервалах вообще не нуждалась. Какафонией считалось одновременное звучание хотя бы двух нот (даже в октаве совпадение обертонов всего на 80%) или, тем более, двух инструментов. Кроме того, музыка не строилась на полутоновых интервалах подобно современному хроматическому ряду. Индийская музыка предполагала треть-тоновые интервалы с модуляциями, а греческие тетрахорды строились на четверть-тонах с разными интервалами. По этой причине звучание греческой музыки до сих пор неизвестно.
Гармоничные интервалы, не используемые в реальной музыкальной практике, Пифагор приписал «небесным сферам», чем укрепил не только авторитет «музыки небесных сфер», но и создал прецедент перевода музыки на полутоновые интервалы и допустимость аккордов, – что исторически произошло много позднее. Греческая музыка, которой восхищались Платон и Аристотель, музыкой в нашем понимании назвать было бы трудно. Не было ни мелодий, ни аккордов. Были переборы струн или гудки по ступеням неизвестного нам звукоряда. Психология слушателей была подсажена на тембр и привычный набор ладов, воспринимаемых по типу «марш», «гимн», «плясовая», «плачи». Эллины под музыку бодрились, печалились, веселились. Музыка приводила чувства в общий порядок, «номос». В античной школе музыку, геометрию и арифметику преподавал один человек. Философский интерес к числу вызревал не в арифметике, а в музыке.
О хореографии в отношении философии Пифагора никогда не говорят: возможно, зря. Танцы в греческой культуре были коллективными и обязательными, особенно среди военных. Связь музыки и танца не вызывает сомнения, поэтому у «музыки небесных сфер», возможно, был коррелят – хореография земной природы. Природа «причастна» музыке небесных сфер. Именно такого рода «причастность» обнаружится позднее в философии Платона: мир вещей причастен миру идей в качестве их «теней». Аналогия вещи и её тени та же самая, что музыки и танца под музыку.
Примечательно, что философию Пифагора можно реконструировать практически из ничего, а взгляды Фалеса и других ионийских фисиологов реконструкции порой не поддаются. Примером может служить трактат М. Хайдеггера об Анаксимандре: слишком много «артистичной герменевтики (Т. Васильева). И дело не только в том, что отсутствует влияние конкретных идей милетцев на философию последующих столетий. Дело в том, что Пифагор в своем философском творчестве не мифологичен, а иносказателен. Пифагор знает много больше того, что предлагает слушателям. И деление слушателей на «акусматиков» и «математиков» не случайно. Акусматики должны слушать, не задавая вопросов. Когда знания станут усвоенными, им дозволяется стать «математиками» с правом задавать уточняющие вопросы и ждать не убеждений, а «доказательств».
Онтология Пифагора представлена картиной мира, суть которой в том, что космос музыкален, природа хореографична. Главное этим сказано, дальше можно подвергнуть тему разработке. Это не миф, не метафора, не аналогия, а иносказание. Понятно, что в музыке есть волевое начало, этическое, эстетическое, пропедевтическое; ничто не мешает вводить фигуры композиторов и исполнителей, вводить полифонию. Из музыки можно извлекать «числа», можно «законы». Скорее всего, в своих эзотерических лекциях Пифагор сам разворачивал своё иносказание доступным для слушателей способом. Что-то из лекционных экскурсов перепало «ранним пифагорейцам», в том числе из области медицины, математики, астрономии, – от чего каждый из них пошёл своим путем. Столетия спустя адепты пифагоровой философии умудрялись выходить в своих размышлениях на ход ранее слышанных лекций, приписывая свои находки Пифагору. Так возникла максима «всё есть число». Как верно замечает Л.Я. Жмудь, даже Аристотель оставил возможность разобраться в том, кто из пифагорейцев чего нёс. Скорее всего, глубина пифагорова иносказания о космосе с учетом музыки небесных сфер в истории античной философии так и не была полностью реализована.
Одной из таких нереализованных возможностей является идея красоты космоса. Если космос красив, то он зрелищен, и всё в нем зрелищно и, соответственно, видимо. Масштабы видимого и видящего космические. «Мир всевидящ… нечто не просто глядит, нечто выставляется напоказ», – утверждал Ж. Лакан [Лакан, 2004, с. 81]. По образному выражению Новалиса, человечество – это глаз планеты, устремленный на небо. Эволюция живых существ, о которой так проницательно писал ещё Анаксимандр, осуществляется за счет того, что все есть зрелище. Эволюция свершается за счет того, что все видят друг друга, «отзеркаливают». Кстати, некоторые утверждают, что Пифагор заимствовал слово «космос» у Анаксимандра, придав ему не эволюционное, а астрономическое значение.
В пифагоровой картине мира этика и эстетика едины. Подобное единство будет наблюдаться у Аристотеля. Космос – красивый порядок – не склад вещей в просторах вселенной, а выставка. «Склад» и «выставка» – как говорится, почувствуйте разницу. Выставка пространственно оформлена; пространство выставки не есть пустота. Вещи в пространстве выставки не просто вещи, а экспонаты: они говорящи. Как писал А. Толстой:
- И слышу я, как разговор
- Везде немолчный раздаётся.
- Как сердце каменное гор
- С любовью в тёмных недрах бьётся.
В политической сфере позиция Пифагора тоже реконструируема. Это идея просвещенного правителя при любой форме правления: монархия, тирания, демократия. Лицо, обладающее правом принятия решения, должно быть просвещенным. И прежде всего за счет философии Пифагора. Эта позиция будет явно прослеживаться сквозь века от Аристотеля до Гегеля. Конечно, термин «симпатия» не будет использоваться из ложного опасения перехода от разума к чувственности, но будут использоваться термины, производные по смыслу от симпатии: согласие, гармония, любовь, патриотизм. В основу любого настоящего патриотизма положены трансцендентальные моменты этно-ландшафтной симпатии. Не только народы выбирают себе ландшафты, но и ландшафты выбирают себе народы. При отсутствии симпатии согнать народы с территории случай всегда представится. А разговоры о «генерале Морозе» или аналогичные есть в истории многих войн.
Довольно интересно взглянуть на то, как персона Пифагора и его философия предстают в учебной литературе. Например, в учебнике В.Ф. Асмуса «Античная философия», охватывающим период от Пифагора до Прокла, самому Пифагору уделено менее двух страниц; главным образом перечисляются его переезды с места на место. Философия обозначена одной фразой. «Учение Пифагора о мире, – пишет видный российский историк философии, – пронизано мифологическими представлениями. По учению Пифагора, мир – живое и огненное шаровидное тело. Мир вдыхает из окружающего беспредельного пространства пустоту, или, что для Пифагора то же самое, воздух» [Асмус, 1976, с. 29–30]. Научное редактирование, как указано, «провел профессор И.С. Нарский». Издательство «Высшая школа», тираж 80 000 экземпляров.
В нашей стране после революции 1917 года с образованием Института Философии была проведена большая работа по истории философии. Еще до Отечественной войны был подготовлен том по философии античного и феодального общества. Место нашлось и Пифагору в главе под названием «Пифагорейский союз». После изложения биографических подробностей, заимствованных из сочинения Диогена Лаэртского, о философии Пифагора говорится следующее. «Философия Пифагора исходила из задачи теоретического обоснования необходимости полного подчинения демоса власти аристократии <…> Истинное мировоззрение, по Пифагору, покоится на трёх основах: морали, религии и знании. Мораль Пифагора – это мораль аристократа. Что касается объединения религии и знания, то здесь делается попытка подчинения действительных задач науки интересам религии» [т. 1, 1941, с. 43]. Это всё, что сказано о Пифагоре; дальше повествуется о пресловутых «пифагорейцах».
После 60-х годов ХХ века в стране наблюдались подъём высшего образования, расцвет естественных наук, развитие гуманитарных. В Московском государственном университете осуществлен выход собственного учебника по истории античной философии тиражом 90 000 экземпляров. Первые сто страниц посвящались «предфилософии»: это древние Индия, Китай, Вавилон. Почему это «предфилософия» Эллады, а не собственная «любовь к мудрости» Др.Востока (и на восточный манер), остается неясным. Под заголовком «Генезис философии» (предполагается переход от предфилософии к философии) автор учебника писал: «Уже первые античные философы стали перерабатывать афро-азиатскую вычислительную математику в дедуктивную науку. На этой основе и стало возможным возникновение античной философии как рационализированного мировоззрения…» [Чанышев, 1981, с. 122]. Вряд ли эта фраза доставит чести Московскому университету. Автор явно не понимает термина «вычислительная математика» – в отличие от вычислений; ссылка на «переработку» просто нелепа. В главе «Пифагор и ранние пифагорейцы» автор проецирует на философию Пифагора высказывания разных «пифагорейцев», уделяя главное внимание «пифагорейскому образу жизни». «Они разрабатывали, – пишет А.Н. Чанышев, – приёмы улучшения умственных способностей, умение слушать и наблюдать. Они развивали память, как механическую, так и смысловую» [Чанышев, 1981, с. 141]. Одобрение пифагорейцев, конечно, справедливо, только философия Пифагора как-то не выходит из глубокой тени.
На Западе античная философия была приоритетным предметом исследований философов и филологов весь XIX век. Престиж античной философии был таким, что даже З. Фрейд переводил Платона с древнегреческого. В конце XIX века появился авторитетный «Очерк истории греческой философии» Эдуарда Целлера. О Пифагоре, при всей источниковедческой эрудиции автора, не сообщается почти ничего. «История Пифагора, – писал Целлер, – уже рано была затемнена, и с течением времени всё более затемнялась столь многими неисторическими сказаниями и догадками…» [Целлер, 1996, с. 43]. Отдавая себе отчет в том, что философию Пифагора в истории философии пропустить нельзя, Э. Целлер поступил традиционно: пересказал биографию. В качестве своего личного мнения автор знаменитого «Очерка» высказал несколько критических замечаний. Во-первых, исторических сведений о путешествиях Пифагора в Египет нет. Во-вторых, учение о переселении душ эллины знали и без Пифагора; соответственно, и Пифагор их знал без всяких путешествий в Египет. Полемика, затеянная Э. Целлером, носит частный характер и является продолжением тезиса о том, что «греческая философия носит всецело национальный характер» [Целлер, с. 22]. По отношению ко всей греческой философии этот тезис верен, по отношению к Пифагору не верен. Уже «теорема Пифагора» не греческая, доступная узкому кругу людей далеко от Эллады. Предполагать, что это не Пифагор ездил в Египет к жрецам, а жрецы приезжали в Грецию, где сообщили попавшемуся им на глаза Пифагору теорему по геометрии, было бы более чем странно.
Если обратиться к трудам другого крупного специалиста по античной философии, Теодору Гомперцу, то в его работе «Греческие мыслители» наблюдается явное желание наполнить предполагаемую «философию Пифагора» конкретным содержанием. Как бы возражая Целлеру, Гомперц пишет: «Было бы странным, если бы столь горячий адепт математики не посетил её родину – Египет…» [Гомперц, 1999, с. 109]. Выступая в интересах апологии Пифагора, Гомперц старается развести Пифагора и «пифагорейцев»: «Старшие пифагорейцы, славившиеся своими суеверными склонностями и недостатком критики, были тяжеловесными и неуклюжими умами. Больше, чем другие ученики, они клялись словами своего учителя: «он сам сказал» – этот излюбленный их возглас был для них магическим щитом…» [Гомперц, 1999, с. 119]. Учение «о переселении душ», которым в XIX веке попрекали Пифагора как «религиозного мракобеса», Гомперц, во-первых, признает за Пифагором и, во-вторых, связывает не с религией, а с такими явлениями как «состояния сна, экстаза, одержимости» [там же, с. 134]. Тому факту, что Пифагор знал о шарообразности Земли, Гомперц придает особое значение – знания всё-таки были. Довольно красочно Гомперц передает интерес Пифагора к музыке и акустике, стремясь представить Пифагора, как говорили раньше, «дельным человеком».
Вскоре после Т.Гомперца были подготовлены новые издания греческих текстов Германом Дильсом, которые в 1914 году перевел на русский язык А.О. Маковельский (1884–1969), в то время доцент Казанского университета. В последствие Маковельский защитил докторскую диссертацию по античному источниковедению. Примечательно, что занимаясь в целом «досократиками», Маковельский уделил Пифагору значительное внимание, хотя мог этого избежать в силу «опоры на источники», точнее, их отсутствие.
А.О. Маковельский очень взвешенно подошёл к вопросу о соотношении источников по философии Пифагора и самой философией Пифагора. «Коли мы будем выделять только несомненно достоверное о каждом мыслителе, – писал он в предисловии, – то мы получим один образ, если же мы не будем чуждаться гипотез и станем отбрасывать только то, что положительно недостоверно, то получим другой образ (так, например, при первом методе философское значение Фалеса и Пифагора сводится к нулю)» [Досократики, 1999, с. 7].
Деликатный и взвешенный подход А.О. Маковельского позволил провести грань между «пифагорейцами» (по которым есть источники) и самим Пифагором (по которому источников практически нет). Отсутствие источников по Пифагору как раз свидетельствует в пользу реальности Пифагора: общество пифагорейцев было закрытом, соответственно, часть знаний носила эзотеричный характер. Закрытые общества были характерными для Др. Востока, а не для полисов Эллады, что само по себе свидетельствует в пользу пребывания Пифагора в дальних странах. Часть эзотеричных знаний подвергалась «утечке», и обнаруживалась спустя долгие годы в различных учениях «пифагорейцев», которые имели все основания приписывать их Пифагору (в собственной интерпретации). В результате возникала та самая смесь из вздорных идей с проблесками гениальности, которую фиксируют источники. Тем не менее, «можно думать, – отмечал Маковельский, – что основные идеи, в духе которых развивались все пифагорейские учения, идут от самого Пифагора» [Маковельский, 1999, с. 142].
Вопрос о том, была ли у Пифагора какая-либо «философия чисел», если никаких упоминаний об этом не было во времена Пифагора, Маковельский разрешил логическим путем. Если Пифагору не без оснований приписывают открытие несоизмеримости стороны квадрата с его диагональю и открытие гармоничных интервалов в музыке, то очевидно, что оба открытия однозначно выводят на «философию чисел» в том или ином виде. О том, что Пифагор запрещал разглашать знание об иррациональности чисел, тоже известно в виду того, что один из слушателей был исключен за этот проступок.
Реконструируемую философию самого Пифагора, не пифагорейцев, Маковельский разделял на две части: практическая – образ жизни закрытого общества (можно сказать, по типу «катаров» накануне возникновения христианства); теоретическая – эстетическая картина природы, соответствующая «чистому образу жизни». В реальной жизни пифагорейской общины образ жизни и теоретическое мировоззрение объединялись. «…Однако, мы не согласны и с теми, кто утверждает, что научное мировоззрение пифагорейцев не стоит ни в какой связи с их жизнепониманием. Связующим звеном между ними был эстетический момент, – писал Маковельский, – Научные открытия пифагорейцев в области гармоник привели их к построению математической эстетики. Основным положением этой эстетики было убеждение, что известные числовые отношения суть основные условия всякой красоты <…> Так, движение небесных светил становится в их глазах пляской светил вокруг мирового огня, сопровождаемой своеобразной музыкой (гармония сфер). Звёзды пляшут и играют, танцы и музыка – их постоянное занятие. Вообще всюду в природе господствует закономерность, гармония и красота» [Маковельский, 1999, с. 149]. Это поэтическое, казалось бы, изложение философии принадлежит не читателю Диогена Лаэртского, не писателю Э. Шюре, а профессиональному специалисту по части античного источниковедения.
«Какой же этический идеал вырос на почве пифагореизма? – пишет Маковельский. – Подчинение индивида целому, уважение к традиционным обычаям, почитание богов, родителей, начальства, наставников и старших, умение подчиняться, самообладание, строгое отношение к своим обязанностям, доходящая до самопожертвования верность по отношению к друзьям <…> Таким образом, пифагорейский союз был воспитательным институтом для выработки аристократии ума и характера» [Досократики, 1999, с. 139–140]. В отличие от многих других историков философии, Маковельский не создает из Пифагора образ борца против демоса и демократии, а указывает на принцип аристократизма при воспитании духа, с чем требовательно выступал позднее Н.А. Бердяев. Очень уместно упоминает Маковельский о методе физиогномики в системе пифагорейского воспитания [там же]. В аристократической культуре осанка, по выражению Б. Грасиана – «фасад души», а не просто выправка. О. Шпенглер высказывался не менее категорично: «Любая античная этика есть этика осанки» [Шпенглер, 1993, с. 531]. Естественно, что физиогномические требования предъявляются не только осанке, но и голосу, манере улыбаться, всему языку жестов.
Как ни странно, но дух философии Пифагора понятен. Надо только не забывать того, что еще незадолго до Пифагора Гесиод писал о крахе человеческих отношений:
- Больше не будет меж братьев любви, как бывало когда-то,
- Старых родителей скоро совсем почитать перестанут…
- Правду заменит кулак… Скорей наглецу и злодею,
- Станет почет воздаваться. Где сила, там будет и право.
Пифагор, создавая общину, был поглощен не романтическими мечтами о восстановлении патриархальной семьи, а противодействовал наглости и той ежедневной злобности, над которой общество уже потеряло контроль. Ситуация была схожей с той, о которой писал Ф.М. Достоевский в «Записках из Мёртвого дома»: «…сплетни, интриги, бабьи наговоры, зависть, свара, злость были всегда на первом месте в этой кромешной жизни».
Заимствование дионисийской обрядности не было для той эпохи прихотью или развлечением, а диктовалось необходимостью очищения от злобы, обид, жадности, мстительности, которые принимали для всего общества маниакальный характер. Пифагор ратовал за очистительные обряды не в условиях деревни, а в условиях города. В деревне натуральное хозяйство и патриархальные традиции сами по себе удерживают общество в пределах добродетельной страстности. В городе страсти укрощаются иначе: театр, искусство, беседы, музыка, образование. Пифагорейский образ жизни призван был способствовать обращению фракийского деревенского дионисизма в аполлонизм, а фракийский Орфей удачно способствовал решению этой задачи. Не случайно после Пифагора общество стало воспринимать орфизм, дионисизм и пифагореизм как единую духовную культуру Эллады наряду с сохранением олимпийской мифологии. Называть пифагореизм «религией» вряд ли уместно: это не «вера в сверхъестественное»; скорее, иное знание естественного.
На излёте ХХ века вышел фундаментальный источниковедческий труд «Наука, философия и религия в раннем пифагореизме», автор которого, Л.Я. Жмудь, занимает позицию, порою прямо противоположную позиции А.О. Маковельского относительно философии Пифагора. Как и предупреждал Маковельский, если опираться на письменные источники, от Пифагора не останется ничего. Л.Я. Жмудь, сознательно опираясь только на источники, в итоге пришел к предсказуемому выводу: «Итак, реконструкция системы философских взглядов Пифагора, – писал он, – кажется предприятием малореальным. В силу отмеченного выше характера пифагореизма даже центральные его идеи невозможно возводить к основателю школы без подтверждения независимыми свидетельствами. Но если бы даже ранние пифагорейцы неуклонно следовали доктринам Учителя, мы всё равно имели бы очень мало шансов восстановить систему его философских взглядов: слишком многое говорит о том, что её не существовало» [Жмудь, 1994, с. 337]. Получается так, по мнению автора, что реконструкция философии Пифагора невозможна, а системы философских взглядов Пифагора и вовсе не существовало. Правда, возникает вопрос: а система философских взглядов в античности у многих существовала?
Л.Я. Жмудь в своих выводах, конечно, не голословен: он доказателен с точки зрения источниковеда. Десятилетия после смерти Пифагора о «числах» никто не слышал, открытие иррациональности чисел Пифагору приписали, слово «космос» придумал не он, в Египте он не был, чудес не творил, а шаманизма в Элладе не было и в помине. «И для пифагорейской аристократии, правившей в Южной Италии, – писал Жмудь, – и для религиозно-этической доктрины пифагореизма с её проповедью гармонии, умеренности и самообладания, с постоянным подчеркиванием роли традиционных богов и героев, нет ничего более чуждого, чем экстатический культ» [Жмудь, 1994, с. 131]. Довольно трудно поверить, что уважаемый антиковед не знает о Дельфийских оракулах, о дионисизме в Элладе. Даже Э.Доддс, весьма далёкий от антропологии, замечал, что «традиция пророческого неистовства в Греции не менее архаична, чем религия Аполлона» [Доддс, 2000, с. 108]. Конечно, если понимать под шаманизмом культы, аналогичные сибирскому шаманизму (а именно так поступает Л.Я. Жмудь), то такого шаманизма в городах Эллады не было. А вот техника шаманизма в виде экстатических практик была в Элладе всегда: и пророчества были, и храмовая медицина, и чудеса, в том числе от Пифагора.
Для реконструкции философии Пифагора – при знании экстатических практик у разных народов мира – достаточно немногих свидетельств: требование «чистоты» и воздержаний в образе жизни, обращение к музыке и танцам в теории, наличие историй «о чудесах». При сохранении письменных источников в виде цитат и известного «влияния» на последующую философию, реконструкция приобретает вполне правдоподобный характер. О «влиянии» Пифагора на потомков Л.Я. Жмудь сам пишет красноречиво: «По влиянию на мыслителей последующих эпох, вплоть до Коперника и Кеплера, Пифагор может соперничать даже с Сократом и Платоном, далеко превосходя их предшественников» [Жмудь, 1994, с. 8]. Если «влияние» известно, то уже нет непреодолимых препятствий для реконструкции.
С точки зрения философии, а не истории философии или, тем более, источниковедения, философия Пифагора выглядит вполне системно. Есть своя онтология: космос музыкален, природа хореографична. Есть своя гносеология: не пресловутые чувства и разум, а эмпатия, симпатия, синергия, визионерство. Есть своя эстетика: эвритмия в творчестве и произведениях культуры. Есть этика: очищение от дурных страстей, аристократизм ума и общения. Есть политология: не формы власти бывают дурными, а люди во власти. Если учесть, что Пифагор жил на двести лет раньше Аристотеля, то вряд ли стоит жаловаться на то, что реконструкция философии Пифагора маловероятна. Так и реконструкция философии Аристотеля еще не закончилась. В свое время Г. Лейбниц высказывал пожелание «пора понимать Аристотеля»; то же можно сегодня повторить как в адрес Аристотеля, так и в адрес Пифагора.
Парменид в тени философии
«…понятие “бытия” самое тёмное…»
М. Хайдеггер
Интересно, что современники называли Гераклита Тёмным – за стиль изложения. Между тем, самым «тёмным» мыслителем античности был его ровесник Парменид – за стиль мышления. У Парменида стиль изложения даже в виде поэмы обращен к логическому мышлению, не к чувствам. Его ученика (Зенона Элейского) Аристотель назвал «изобретателем диалектики», утаивая, что первым «изобретателем логики» можно было бы назвать Парменида. Очевидно, Аристотель пожелал за собой сохранить этот титул, что тоже справедливо.
Понять позицию Парменида, полагаясь на «чтение», не только трудно, но невозможно. Сохранившихся фрагментов текста мало, пояснений от автора нет, высказывания абсурдные. Почему «ничто не возникает и ничто не исчезает»? Каждый собственными глазами регулярно наблюдает обратное. Почему движения нет? Как известно, Диоген стал специально прохаживаться перед тем, кто повторил эту мысль. Парменид, будучи мыслителем серьёзным, без эпатажа, демонстративно отрицает очевидное. А кто ограничивается очевидным, получает от Парменида именование «пустоголовое племя».
Чтобы проникнуть сквозь темноту истории, полезно принять во внимание один факт. Античная философия для жителей Эллады не состояла из «фрагментов досократиков», а была органической частью «коллективного сознания» жителей полисов. Мысли одного философа просвечивали сквозь тезисы другого. Например, Парменид в своей философии утверждает, что «небытия нет»; другой философ, Эпикур, убеждает логически, что «смерти нет». Связаны ли эти тезисы между собой? Исторически и биографически, ясно, не связаны. Разница по времени больше века, направления философии разные. Однако, философская интуиция подсказывает, что какая-то связь просвечивает. Соответственно, требуется анализ.
При философском анализе становится понятно, что тезис Эпикура хотя касается смерти, но сформулирован не относительно смерти, а относительно времени (период от рождения до смерти). В отношении личного времени тезис Эпикура («смерти нет») верен: мы есть – смерти нет; смерть пришла – нас нет. По отношению к Пармениду в той же логике возникает вопрос: нет ли такого особого времени, с позиции которого можно отрицать всякое возникновение и уничтожение? Да, есть, это «настоящее время», но без прошлого, которого уже нет, и без будущего, которого ещё нет. Все наши чувства таким условиям не удовлетворяют априори. В чувствах всегда восприятие осуществляется в таких периодах времени, когда настоящее соседствует с тем, что только что было и с тем, что вот-вот будет. Настоящее время без соседства с недавним прошлым и ближайшим будущим будет называться «мгновение». Мгновение в традициях высшей математики определяется просто: такой период времени, который может быть меньше любого наперёд заданного числа (минуты, секунды, наносекунды). То «особое время» Парменида, при котором тезис «нет ни возникновения, ни уничтожения» оказывается верным, есть мгновение настоящего времени. Мир в пределах мгновения всегда представляет стабильную картину, кадр. Только понятие «мгновение» не так просто: мгновение уже не «время».
Идея синематографа в своё время в том и состояла, что кино технически состоит из фотографий, из отдельных кадров. Кино – эффект мультипликации. «Движущаяся картинка» возникает как феномен чувственного восприятия при удержании внимания на трёх последовательных кадрах: настоящем, предыдущем, последующем. Мультипликация в форме «движущихся фигур» возникает тогда, когда кадры сменяются дискретно. В чувственном восприятии движения фигур на экране меняются непрерывно, но технически это не так. Один кадр проецируется на экран, удерживается в пределах экспозиции в стационарном положении, затем закрывается шторкой, а когда шторка убирается, там уже другой кадр (со смещениями относительно первого). От величины смещений зависит скорость «движущихся фигур», резкость или плавность движений. Так устроено «кино».
Парменид вполне мог исходить из того, что картина мира зависит от временного интервала, который трактуется как условное «мгновение». Слушатель Парменида по имени Зенон «мгновению» посвятил специальную апорию («Стрела»). Если на свою жизнь смотреть в интервале секунды, не меняется ничего; если смотреть в интервале двух сотен лет, тоже не меняется ничего. Другое дело, что существует привычка смотреть на свою жизнь в интервале часов, дней, лет; в каждом периоде времени кадр жизни будет представлять разные картины. Произвольность, относительность, случайность взгляда на мир в зависимости от экспозиции Парменид отнесет к «не-истине», к «мнению». «Бытием» будет у Парменида называться мир, представленный в каком-то мгновении.
В разные «мгновения» мир будет разным не в силу того, что он вдруг изменился, а в силу выбора «кадра». Из того факта, что на фотографии, например, московский кремль выглядит зимой и летом по-разному, не следует, что кремль меняется сам по себе. Кремль остаётся одним и единым при всех условиях погоды. В терминологии баумгартеновской эстетики можно было бы сказать, что кремль-в-себе есть «бытие». При проведении аналогии с кинолентой можно сказать, что «бытие» – это отдельно взятый кадр, «монада» (Лейбниц). У Г.Лейбница «монад» много, как «атомов» у Демокрита. Можно привести и такой пример: сколько колоду карт не тасуй, в ней не появятся новые карты и не исчезнут стандартные. В пояснение добавлю ещё такой случай. Однажды маленькая девочка задала вопрос: «Это рисуют все дети; что это?». Взрослые перебрали много вариантов: мама, домики, солнце, куклы. Девочка внесла ясность: «Все дети рисуют картинки». Ответ абсолютно парменидовский. Картина – «бытие» живописи, а что на картинах – мнения авторов.
Из всех философов, возможно только М. Хайдеггер увидел связь «бытия» именно с временем. В ХХ веке казалось естественным соотносить время с движением или с пространством, а хайдеггеровское соотношение бытия и времени воспринималось по большей части как личное пристрастие к архаике. В действительности М. Хайдеггер оказался к истокам классики ближе, чем кто-либо другой. У Хайдеггера есть даже мысль о том, что у времени не три измерения, как все привыкли, а четыре [Хайдеггер, 1993, с. 400]. Действительно, кроме настоящего, прошедшего и будущего есть еще четвёртое измерение – логическое, оно не зависит от предыдущих трех. Логическое измерение времени представлено словечком «следует»: если больше Б, а Б больше В, то из этого что-то «следует». Особое, «четвертое измерение» времени, собственно, открыл Парменид, назвав его «бытием», «то, что есть». Это искусственный термин, не из разговорного языка.
Одну из особенностей «четвертого измерения» времени можно пояснить следующим образом. Есть известная логическая головоломка под названием «кубик Рубика». Состояния кубика (повороты) всегда дискретны. Новый поворот – новое мгновение. Мгновений много, в зависимости от истории всех поворотов, но есть одно мгновение – начальное, когда «кубик Рубика» собран. Именно мгновение целостности, собранности, единения и единственности, будет соответствовать понятию «бытия» у Парменида. Все остальные положения «кубика Рубика» будут «неистинными», «мнениями».
С точки зрения гносеологии, Парменид решал ту же самую задачу, которая обернулась у Канта «априорными формами чувственности и рассудка», только вместо пары «время и пространство» Перменид брал, с одной стороны, мгновение (для «бытия» и «истины») и, с другой стороны, все другие интервалы времени (для «мнений»). У Гераклита мир в каждый момент времени, что больше мгновения, уже другой; у Парменида мир в каждый момент времени, что меньше мгновения, один и тот же. Противоречия нет, есть разные философские позиции и интересы. Как вопрос в старом анекдоте: стакан с водой до середины объема правильно называть наполовину полным или наполовину пустым?
Образ гераклитовского тезиса «всё течет» понятен, в том числе благодаря образу реки: на входящего в реку наплывают всё новые воды. Этот образ был использован И.Ньютоном в его «Математических началах натуральной философии»: время – это поток, равномерный и одномерный. По отношению к потоку времени уместен совет мудрецов: «спеши медленно». Совет практический, полезный.
Возникает вопрос относительно позиции Парменида: чем она интересна в теории и практически? Что даёт восприятие мира вне времени? Прежде всего, важен выход за пределы антропоморфизма. Бог, уже у Ксенофана, не смотрит на мир через очки человеческих мер измерения времени: секунды, часы, года, столетия. Парменид пытается посмотреть на мир тоже со стороны. В философской поэме «О природе» то, что говорится о «бытии», излагается Парменидом не от своего имени, а от имени Бога (богини Дике):
- «Был я богинею принят охотно…
- Здравствуй!.. тебе надлежит всё изведать…
- Обсуди многоспорный разумом довод
- В сказанных мною словах…»
Дело не в художественном приёме изложения, а в сути, которая остаётся вне понимания «пустоголового племени». Суть в том, что с точки зрения (!) «богов» все три времени в форме «настоящее, прошедшее и будущее» видны одновременно, как «пространственный ряд», «панорама». Видно всё и сразу. Это означает, что «времени нет»; вместо времени «бытие». Суть философии Парменида в смене точки зрения. Понять Парменида, не меняя кардинально «точку зрения», невозможно.
В дидактическом плане можно говорить о том, что мир раздваивается на мир-сам-по-себе и мир-для-нас. В мире самом по себе, в «бытии», все, например, счастливые семьи одинаковые, и все несчастные – то же. В этом смысле «Анна Каренина» – путь мнений. Нет такого несчастья, которое возникло бы «в первый раз»: несчастья выпадают людям из одного «ящика Пандоры». Люди разные, несчастья во всем их множестве одни и те же. Отсюда и слова Экклезиаста «ничто не ново под Луной» Познание природы для Парменида оборачивается знанием типичного, универсального, общего, что и легло в основу как философии сократовского периода, так и в основы последующей науки.
Однако, философия «бытия» Парменида интересна не только своим влиянием на потомков, но и собственной онтологией, даже «физикой» из первой части поэмы. В метафизике Парменида, завязанной на понятии «мгновение», мир дискретен, не существует физического перехода от одного мгновения к другому: нет такого процесса. За этим странным, на первый взгляд, утверждением скрывается физика, можно сказать, нашего времени. Показателен в этом отношении факт открытия «уровней» в модели атома. Переход электрона в атоме «с орбиты на орбиту» состоит в том, что электрон на одной орбите исчезает, а появляется на другой: процесса перехода нет, изменение происходит «квантом».
Для пояснения гуманитариям можно вспомнить остроумную сказку А.Пушкина про работника Балду, который море мутил и чертям покоя не давал. По сказке, работник Балда предложил чертёнку разрешить спор о том, можно ли позволить ему, Балде, море мутить, в виде пари: кто быстрее обежит вокруг моря, тот и прав. Вместо себя на дистанцию Балда выставил своего «младшего брата» – зайца. Бесёнок и заяц пустились бежать. Только у Балды было два одинаковых зайца. Один убежал в лес, второй уже ждал бесёнка на финише. В квантовой механике ситуация схожая: электрон с одной «орбиты» исчезает, но появляется точно такой же электрон на другой «орбите» – не факт, что тот же самый.
Сказочно-гипотетические рассуждения во времена Парменида были инициированы не сказками и не квантовой механикой, а пифагорейским открытием иррациональности в геометрии и арифметике. Проблема иррациональности порождает «проблему существования». Например, всем понятно, что существуют квадраты, площади которых выражаются целыми числами 1, 4, 9. Но как существуют квадраты, площади которых тоже выражаются целыми числами 2, 3, 5, 6? Квадратного корня из этих чисел не существует ни в целых числах, ни в дробных (других в то время не знали). Соответственно, физически не существует такого отрезка, на котором можно построить квадрат площадью в две или три единицы. С другой стороны, чем принципиально отличаются друг от друга два квадрата, когда площадь одного 4 единицы, а другого 3 или 5? Ничем; тогда почему одни существуют, другие нет? Аналогичные проблемы «несоизмеримости» обнаружат между радиусом круга, с одной стороны, и длиной окружности, объёмом шара, площадью круга, с другой стороны. Есть ещё более простой случай – деление единицы на три части: делению нет конца. Открытие иррациональностей, приписываемое Пифагору и пифагорейцам, свершилось незадолго до появления философии Парменида, причем, события происходили географически в относительно близких областях (города Кротон и Элея в южной части Апеннинского полуострова).
Образ мыслей Парменида, угадываемый в философской поэме, подтверждается творчеством его последователя по имени Зенон (Элейский). Будучи слушателем Парменида, молодой человек совместил открытие пифагорейцами иррациональностей с «философией бытия» Парменида, то есть видением мира через «мгновение». Первым объектом критики традиционного мировосприятия стало «движение»: то есть «переход» из состояния А в состояние Б. Зенон исходит из того, что нечто из А может оказаться в Б, но «перехода» из А в Б может и не быть. Зенон в логико-художественной форме продемонстрировал открытие «несоизмеримости» в геометрии, – так историю античной философии украсили «апории Зенона». Кстати, одна из апорий Зенона, «Стрела», по логике рассуждений идентична эпикурейскому тезису «смерти нет». У Эпикура два времени; своё время в своей жизни, своя жизнь в чужом времени. У Зенона тоже два времени: относительно внешнего наблюдателя стрела летит; относительно внутреннего наблюдателя стрела покоится, «движения нет».
Подробный анализ апорий приводится в монографии В.Я. Комаровой «Учение Зенона Элейского» [Комарова, 1988]. Много лет назад я имел возможность обсуждать с автором эту тему. Полушутя сказал тогда Вере Яковлевне, что если у неё апорий не хватит для того, чтобы свести концы с концами, я придумаю новые. У Зенона апории образуют замкнутый цикл. Если утверждается невозможность деления до бесконечности, возникает один ряд рассуждений. Если утверждается наличие предела делению (подобно атомам в учении Левкиппа и Демокрита), то возникает другой ряд рассуждений, прямо противоположный первому. В результате апории не разрешаются ни за счет предположения о пределах делению, ни за счет отрицания пределов деления. В основе апорий не «диалектика Зенона», а иррациональность отношений, выявленная пифагорейцами в математике. «Диалектика» лишь иллюстрирует «то, что есть».
В истории античной философии Парменид и Зенон первыми обратились к рассуждениям логического характера в явном виде. Между тем, рассуждения элеатов были по методу логическими, а по предмету физическими. Только в физике их интересовали не проблемы «первовещества» подобно малоазийским философам (ионийцам), а «проблема существования» в условиях иррациональности числовых отношений.
Проблема существования присутствует в физике до сих пор, только современные физики о ней часто не знают и даже не догадываются. Приведу характерный пример. Издревле существует аттракцион под названием «танцы на углях», босиком. Все объяснения физиков сводятся к тому, что если быстро пробежать по углям, то ожогов не будет, особенно если кожа толстая и мокрая. По отношению к таким «объяснениям» Парменид вводил термин «пустоголовое племя», с чем можно согласиться. У меня была возможность ознакомиться с техникой «хождения по углям» до практического применения, так что могу утверждать, что «быстро бегать по углям» совсем не обязательно; можно долго стоять босыми ногами на горящих углях.
Физический парадокс аттракциона на углях в том, что босым ногам на раскаленных углях холодно, как на сырой земле. Все теплотехнические рассуждения физиков по отношению к этому факту бесполезны, если не смехотворны. Факт сам по себе иррационален. В качестве «подсказки» может служить другой факт: стоять босыми ногами на раскаленных углях можно только в «измененном состоянии сознания», – хотя этот факт современным физикам ни о чем не говорит.
Кстати, вполне возможно, что аттракцион под названием «хождение по углям» был известен Пармениду: на севере Балканского полуострова древние традиции с этим номером существуют до сих пор и включены в программы туроператоров (в августе 1996 года на отдыхе в Болгарии я ходил, стоял и «плясал» на углях). С логической точки зрения совершенно ясно, что стоять босыми ногами на углях без малейшего термического воздействия невозможно; так невозможного и не бывает. Значит, в опыте скрыт какой-то эффект. Пояснить можно, причем с физической точки зрения, аналогией с кино. Кино фантомно. В кино все видят на экране движения; движения всех персонажей «непрерывны», но с технической точки зрения непрерывности нет: есть набор стационарных кадров. Подобным образом осуществляется эффект «бегущей строки» в электронной рекламе: лампочки то загораются, то гаснут в определенном порядке, а получается, будто строка из светящихся букв непрерывно бежит. Фантом существования имеет место и при хождении по углям.
В аттракционе с хождением по углям техника фантомного эффекта сводится к двум разным явлениям: к особенностям восприятии и к способу существования. Например, если человека вчера видели в городе, и позавчера видели в городе, и каждый день видели в городе, то складывается мнение, что человек не покидал город. Мнение вероятное, но не факт. Вполне возможно, что человек все ночи проводит далеко за городом. Аналогичным образом, когда человека видят танцующим на углях, то это всего лишь видимость присутствия на углях, которая складывается из моментов присутствия. Человека видят на углях, но он не всё время на углях. Физически человек на углях непрерывно не присутствует: появится на мгновение – исчезнет на время, появится на мгновение – исчезнет на время. При определенной частоте (в кино это 24 кадра в секунду) моменты присутствия объединяются в восприятии: возникает эффект непрерывного присутствия, мультипликация.
Человек, ходящий по углям или стоящий на углях, существует в режиме присутствий-отсутствий с какой-то частотой. При фотосъёмке моменты присутствия объединяются в изображение, моменты отсутствия не фиксируются. Хотя теоретически можно допустить, что появится кадр, когда на углях никого нет. В таком случае, человека могут видеть в другом месте, где его ногам холодно. Более того, на основе эффекта мультипликации человека можно в один период времени видеть в разных местах. И действительно, сохранились предания о том, что Пифагора в одно и тоже время видели в разных городах. В физике Парменида из первой части поэмы, в отличие от классической физики с любыми приставками «пост», это возможно.
В истории науки существует известный факт, связанный со Сведенборгом: будучи в чужом городе на конференции, Сведенборг вдруг замер со словами «Пожар!», – который действительно случился в его родном городе в то самое время. Он увидел пожар как очевидец. Существуют аналогичные случаи, связаны с историей медицины после открытия анестезии с использованием психотропных средств. Именно тогда американские хирурги заговорили об «измененных состояниях сознания» [Костецкий, 2006]. Пациенты при общей анестезии во время полостных операций видели ход операции, включая свои внутренности, находясь как бы над операционным столом – о чём позднее подробно рассказывали. Они видели своими глазами – в то время, как физически были прикрыты и под наркозом. Примечательно, что Эмпедокл, будучи слушателем Парменида и прославившийся как врач, не отрицал того, что имеет отношение к «магии» – вероятнее всего, тоже на основе «измененных состояний сознания». Напрасно у антиковедов существует навязчивое желание свести всё «магическое» на уровень легенд.
К философии Парменида философы и историки философии относятся по-разному. Философы понимают, что в древней философии Парменида ничего не понимают. Не сводить же абсурдные тезисы Парменида к тому, что «чувства обманывают» подобно тому, как дальние предметы кажутся малыми. Философ Г. Гегель «бытие» свёл, во-первых, к моменту становления и, во-вторых, к Абсолютному Духу. Философ М. Хайдеггер перевел «бытие» (το ον) как «присутствие» (Dasain), в чем интуитивно был прав, после чего обнаружил, что «понятие «бытия, напротив, самое тёмное» [Хайдеггер, 2008, с. 520]. Философы, в отличие от историков философии, имеют возможность о философии собственно Парменида не вспоминать вообще, не испытывая в том необходимости; скорее, вспоминают диалог Платона «Парменид» по разным случаям.
Историки философии, антиковеды, будучи, как правило, филологами или переводчиками, вынуждены заниматься пересказом, а пересказ сам по себе очень проблемный жанр. Сравнительно легко пересказать прозаический текст, который хорошо понимаешь. Но как пересказать текст, который изначально не понятен, а, возможно, и не может быть понятым в данных условиях? Самый простой способ – устроить экскурсию по цитатам. Цитаты не трудно связать между собой какими-либо «мостиками перехода»: в этике говорилось так-то, в гносеологии так-то; привлечь биографию, отзывы современников или потомков. Получается связная экскурсия, в том числе экскурсия «по Пармениду».
Рассмотрим наиболее характерные случаи «пересказа Парменида» историками философии. Несколько предварительных замечаний. Как известно, Г. Дильс выделял в ранней философии Эллады период «досократиков». А.О. Маковельский период досократиков разделил на доэлеатский и элеатский периоды, – придавая Пармениду ключевое значение. Действительно, после Парменида характер античной философии меняется: исчезает вопрос о «первовеществе» и слепое доверие к чувственной очевидности. Если фигура Парменида столь значительна в историко-философском процессе, то его философию следовало бы понимать, хотя бы в целях пересказа. Что же получается при разных пересказах? Если отвечать коротко, то не получается ничего.
Например, А.Ф. Лосев «обо всей элейской школе» пишет без всякого интереса: «Правда, элейцы учили о каком-то настоящем и подлинном бытии, уже не подчиненном этому иррациональному становлению» (речь идет о релятивизме Кратила – В.К.) <…> Весьма энергично на разные лады элейцы доказывали также, что их бытие лишено и множественности… Конечно, такого рода бытие вовсе не было характерно для всей античной философии, а было лишь результатом первого увлечения от раскрытия разницы между ощущением и мышлением» [Секст Эмпирик, 1976, с. 9]. Понятно, что никакой позитивной информации в этой фразе нет, а легкомысленный тон говорит сам за себя.
В пересказе В.Ф. Асмуса «бытие» в философии Парменида надо понимать, как утверждает автор, «физически и космологически» – в виде шара (вещественного) с разными «огнями», внутри и вне которого нет пустоты. Шар бытия настолько плотный, что между вещами нет пустоты, а потому мир един и движения нет. «Откуда могла возникнуть эта во всем противоположная Гераклиту и враждебная диалектике мысль? – задается вопросом автор, – …Вопрос этот правомерен» [Асмус, 1976, с. 47]. Действительно, правомерен. Ответ профессора столичного университета сводится к следующему: Элея, родной город Парменида, провинция; основное внимание в провинциях уделяется земледелию, а не развитию промышленности и торговли (как в Милете), – а потому элейцы отстали от передовой науки Фалеса, Анаксимандра и Гераклита. Собственный пересказ всё же смущает автора, но, дескать, таковы античные философы, оригиналы. Как говорится, «за что купил, за то продал».
А.О. Маковельский к теме Парменида проявил более ответственное отношение. Например, элейский период он начинает с Ксенофана, а не с Парменида. Асмус ссылку на Ксенофана, конечно, сделал, но с указанием на то, что Парменид больше ориентировался на Пифагора, чем на Ксенофана. Довод сомнительный. Ксенофан писал стихами, – отчего-то и Парменид стал излагать философию стихами. Ксенофан прославился критикой богов в контексте многобожия, призывая к пониманию единого бога. Аналогичным образом Парменид и Зенон резко критиковали идею «многого», защищая идею «единого». Влияние Ксенофана сказалось не только на Пармениде, но и на его учениках. Даже Эмпедокл, проживающий в тех же краях, стал излагать философию стихами.
Можно ли у Маковельского найти вменяемое изложение философии Парменида? – попробовать можно. Маковельский не проходит мимо того, что «бытие» Парменида связано с настоящим временем, вне отношения с прошлым и будущим. Только видит в этом неспособность Парменида трактовать «бытие» вне образной и наглядной связи с видимым миром в настоящем времени. По Маковельскому, процесс абстрагирования бытия из видимого мира у Парменида ещё не завершён. «Однако, если, с одной стороны, нельзя отказать великому элейцу в неустрашимой смелости мысли, – пишет он, – не останавливающейся перед самыми парадоксальными следствиями, то, с другой стороны, следует отметить исторически обусловленное несовершенство её силы абстракции» [Маковельский, 1999, с. 399–400]. Упрёк «великому элейцу» состоит в том, что не надо было останавливаться на полпути: надо было бы освободить бытие от прошлого, будущего и настоящего, – представить «бытие» только бытием – в духе то ли Гегеля, то ли Ветхого Завета. Дескать, Пармениду стоило вывести «бытие» за рамки времени, но не хватило силы абстракции. Кому не хватило силы абстракции, ещё вопрос. Ведь Парменид не просто соотнес бытие и время, но само настоящее время свёл к мгновению, которое уже собственно временем не является. Говоря математическим языком, мгновение, устремляясь к нулю как своему пределу, и есть «бытие» в терминологии Парменида. У него с «силой абстракции» всё в порядке. В частности, важно отдавать отчет в том, что по достижению предела всё качественно меняется: многоугольник по мере увеличения числа сторон в пределе становится кругом; возникновение или уничтожение каких-то сторон вписываемого многоугольника теряет смысл. Мир-в-пределе мгновения, собственно, станет тем, что стало называться «гиперуранией» Платона. У Платона «идея» сохраняет значение «предела» (максимума реальности), в том числе предела совершенства.
Эдуард Целлер историю элейского периода в истории досократиков мудро начинает с Ксенофана, практически ровесника и земляка Пифагора (оба родом с Ионии, и оба оказались на западе). Пифагор философствовал в Кротоне, Ксенофан под конец жизни в Элее. В изложении Целлера Ксенофан предстает не только критиком антропоморфизма богов, но и мыслителем, доказывающем необходимость единого бога. «Лучшее, говорит он, может быть только единым, никто из богов не может находиться под властью другого. Столь же мало мыслимо, чтобы боги возникли или чтобы они переходили из одного места в другое. Итак, существует лишь единый Бог, “не сравнимый со смертными ни по образу, ни по мыслям”, “весь он есть око, весь – ухо, весь – мышление” и “без усилия властвует над всем своей мыслью”. Но с этим божеством для нашего философа совпадает мир» [Целлер, 1996, с. 54]. После такого изложения философии Ксенофана взгляды Парменида уже не кажутся «взятыми с потолка». Э. Целлер на них, собственно, в своем кратком «Очерке» почти не останавливается – направление задано Ксенофаном.
Теодор Гомперц, начиная излагать философию элеатов, продолжает развивать подход Э. Целлера, уделяя еще большое внимание Ксенофану. Для Гомперца Ксенофан представляет собой мыслителя, опережающего своё время и в философии, и в науке, и в богословии. Ксенофан не отрицает религию, как об этом принято думать, а лишь критикует многобожие за антропоморфизм. Выступая за верховенство единого божества, он не отрицает многобожия по примеру иудеев. Верховенство единого божества осуществляется в качестве логоса (термин еще не используется): науке это виднее. Гомперц ратует за представление Ксенофана своего рода ученым «геологом»: Ксенофан утверждал, что суша и море время от времени меняются местами, и следы морских существ в окаменелостях гор тому доказательство. Довольно любопытно мнение Гомперца о том, что Ксенофан путешествовал по провинциям не случайно, а ради новизны мнений, которых в Ионии уже не было. Провинции были, в отличие от суждения В.Ф. Асмуса, просвещеннее и оригинальнее Милета на тот период времени (после экспансии персов).
Переходя в своём изложении от Ксенофана к Пармениду, Гомперц явно начинает испытывать затруднения. Мир вне времени, как единое нерасчленённое целое, явно скучен. «Пустынным однообразием веет на нас из бескрасочных пределов этого строя мысли, – пишет автор «Греческих мыслителей»,-Можно предположить, что сам создатель его должен был почувствовать на себе его дыхание» [Гомперц, 1999, с. 189]. Очевидно, Гомперц пропустил в философии Парменида главный момент: Парменида интересует не мир с точки зрения людей, а взгляд «сверху». При взгляде «сверху» прошлое, настоящее и будущее (в людском измерении) представляют одну «Картину». Разве хорошая картина может быть скучной? Фрески не кино, полотна живописи не театр, но вряд ли на этом основании следует признавать их «скучными». Можно сказать, Гомперц в собственном пересказе попал в нелепую ситуацию, когда приходиться чуть ли не извиняться за Парменида.
Для «оправдания Парменида» Гомперц привлекает две стратегии. Первая состоит в том, что Парменид опасается за возможность существования научного знания: если «всё течёт» по Гераклиту, то наука невозможна. Поэтому философия Парменида, по логике Гомперца, есть компенсация взглядов Гераклита; другими словами, она возникла с испугу. Вторая стратегия сводится к тому, что Парменид во второй части своей поэмы решил исправить сам себя и перешел обратно на позиции Фалеса с Анаксимандром (соответственно, покидая философию Пифагора и Ксенофана). При обеих «стратегиях», выдвинутых Гомперцом, вопрос о мудрости Парменида, восхищавшей Платона, как-то тускнеет сам собою.
В отечественной литературе самое осторожное отношение к философии Парменида, возможно, представлено монографией А.С. Богомолова. Автор внимательно разбирает множество интерпретаций западных историков философии, после чего приходит к заключению: «Можно было бы перечислять мнения по этому вопросу и дальше, но мы вряд продвинемся вперёд» [Богомолов, 1982, с. 102]. Действительно, при общем обзоре философии Парменида этот вывод становится очевидным. Богомолов, по сути дела, честно отказывается от того, чтобы «пересказывать» Парменида: «гипотез не изобретает». Своё мнение у А.С. Богомолова, конечно, тоже появляется: элейцы изменили характер философии, развернув её в сторону логических рассуждений. Вывод важный, но не отличается новизной.
В учебном пособии А.Н. Чанышева при рассмотрении философии Парменида обсуждается два тезиса: «небытия нет» и «мышление и бытие одно и то же». Автор, в отличие от многих, отдаёт себе отчет в том, что в этих тезисах представлено не мнение Парменида, а поучения со стороны божества (Дике). В свою очередь, Пармениду поручается доказать данные свыше тезисы своим современникам. Сохранившиеся доказательства сводятся якобы к тому, что «немыслимое не есть, а мыслимое есть». Как поясняет А.Н. Чанышев: «Парменид просто не различает предмета мысли и мысли о предмете» [Чанышев, 1981, с. 153]. Тот ход рассуждений, который Чанышев приписывает Пармениду, действительно имел место, только принадлежал он не Пармениду, а Горгию [Секст Эмпирик, 1976, с. 75]. Горгий был слушателем Зенона, но как основатель софистики, он намеренно смешивал предмет мысли с мыслею о предмете. Как известно, именно так рассуждали богословы-схоластики времен первых в Европе университетов. Если бы в самом деле Парменид рассуждал подобным образом, то с поручением Дике явно не справился бы.
Однако, доказательства Парменидом тезисов, спущенных ему «сверху», скорее всего, строились иначе. В поэме богиня Дике открывает юному философу некий факт, не замечаемый людьми: в мышлении нельзя фиксировать то, что открывается в мгновении. Человечеству мир не открыт, а приоткрыт: в этом состоит суть мгновения. Мир открывается человеку, и тут же закрывается уходом в прошлое; то же самое в следующее мгновение. В мгновении нельзя всмотреться в мир, ибо при всматривании мгновение замещается интервалом времени. Разница возникает принципиальная: в мгновении нет «движений», в «интервале времени» движение не только есть, но оно всеобще. Так возникает представление о «двух путях» и появляются две части поэмы.
В философии Парменида центральное понятие – «мгновение»; оно не выражено явно. Но, говоря гегелевским языком, мгновение есть синтез бытия и небытия, – о них и ведёт речь Парменид. Мгновение для людей есть такое настоящее, которое появляется, исчезая и исчезая, появляется вновь. Поэтому объявлять Парменида «метафизиком» (догматиком), учитывая, что его последователь Зенон оказывается «изобретателем диалектики», довольно несообразно. Еще более несообразно трактовать «бытие» как результат то ли обобщения, то ли абстрагирования. Между тем, даже М. Хайдеггер пишет, будто «… “бытие” есть наиболее “всеобщее” понятие» [Хайдеггер, 2008, с. 520]. Это тезис средневекового богословия, порожденный «проблемой универсалий». В философии Парменида понятие «бытие» возникает из анализа «мгновения», и никакого отношения к формальным процедурам обобщения и абстрагирования не имеет.
