Вода в решете. Апокриф колдуньи
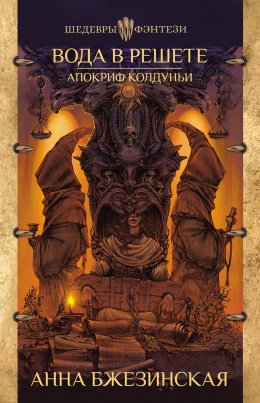
Anna Brzezińska
WODA NA SICIE. APOKRYF CZAROWNICY
© Copyright by Anna Brzezińska
© Copyright by Wydawnictwo Literackie, Kraków, 2018
All rights reserved
© Милана Ковалькова, перевод, 2023
© Михаил Емельянов, иллюстрация, 2023
© ООО «Издательство АСТ», 2023
I
В деревне Чинабро в приходе Сангреале, в священном зале трибунала, в четверг, месяца мая четырнадцатого дня, в канун праздника Святой Бенедикты, мученицы, покровительницы убогих дев, доктор Аббандонато ди Сан-Челесте, председатель сего трибунала, в присутствии инквизиторов Унги ди Варано и Сарто ди Серафиоре, а также свидетелей: падре Фелипе, пресвитера церкви упомянутого выше прихода, и падре Леоне – исповедника и духовного наставника Его Сиятельства Липпи ди Спина, наместника прихода Сангреале и окрестных земель, а также падре Лапо, проповедника Его Сиятельства наместника, людей благочестивых и сведущих в законах, повелел, дабы была приведена женщина, именующая себя Ла Веккья[1], в течение года пребывающая в оном приходе, по собственному заявлению, дочь местной женщины и неизвестного отца, возраста, по ее словам, тридцати пяти лет или около того. Засим она официально приведена к присяге, что будет говорить правду в ходе сего слушания, а также всех последующих.
Ответствую, что мне объявили и полностью истолковали причины, по которым я предстала пред сим досточтимым судом. Понимаю, что случилось все это из-за мертвого монаха, однако не ведаю ничего по сему делу и не могу отвечать за его смерть, ибо тяготы и напасти земной жизни лишили меня сил, необходимых, чтобы зарезать и разделать, как овцу, крепкого мужчину в расцвете лет. Не могу помочь вам никоим иным образом, кроме как стать вашей проводницей по четырем селениям, лежащим на склонах горы Интестини[2], испокон веков населенных просветленными; хотя сама я решительно отрекаюсь от исповедуемой ими ереси, ибо отринула ее много лет назад, покинув деревню, именуемую Чинабро, или Киноварью[3], дабы вести жизнь в долинах среди почитателей монахов в сандалиях, храмовых кадильниц и святых. Однако я сохранила знание о том, что происходило во времена моей юности, а также потом, вплоть до нынешнего дня, и если только пожелаете, расскажу вам обо всем подробно, начиная c того дня, когда мать показала мне дракона и тем самым привела в движение дьявольские жернова, которые много лет спустя перемололи вашего собрата в мелкую муку.
Посему ответствую, что утром того дня мать возложила руку мне на голову, дабы благословить меня, как все родители благословляют своих детей; правда, бондарь Фоско и эта распутница Мафальда, его жена, да и вся эта шайка собравшихся здесь, чтоб обвинять меня, – и не думайте, что ваши уловки помешали мне угадать их имена! – уже тогда гавкали, что, дескать, мать умеет только проклинать, а не благословлять, ибо благословение исходит лишь от чистой крови, а не от таких блудниц-еретичек, как мы. Сами же, синьор, видите, мы еще бегали по холмам, пасли коз, а сквозь дырявые рубашки проглядывали наши содранные коленки, когда эти наветы, звучащие ныне против меня, уже взрастали, как пырей, а потому этим сорным травам хватило времени, чтобы зацвести и принести плоды; и не думайте, что вам удастся их так скоро искоренить, ибо корни их, скрытые от глаз, находятся глубоко под землей. Так, впрочем, дело обстоит со всем, включая смерть этого несчастного брата Рикельмо, коего теперь вы именуете святым; можете называть его, как хотите, но мне он не был братом, и о его святости я тоже не имею понятия. Ибо не был он никаким святым, ведь недостаточно лаять, как собака, пугая крестьян вечным проклятием, чтобы сравниться со святым Калогером. Да, синьор, ваш собрат Рикельмо жаждал мученичества, бесстыдно греша гордыней, коя, как известно, предшествует падению. Видать, он что-то там раскопал, когда рыскал, как пес, по хуторам, тычась всюду своей тощей мордой и вынюхивая сочные мослы греха. Но что бы это ни было, оказалось оно глубоко скрыто, ибо досужее богохульство, ересь, прелюбодеяние и трактирные потасовки не вызывают у нас столь жгучей ненависти, нежели та, что охватила Рикельмо. Посему я верю, что сотворенное с Рикельмо взросло из великой злобы и уходит корнями на много лет назад, возможно, к тому самому дню в незапамятные столетия, когда предок графа Дезидерио[4] заключил с просветленными договор, предопределив будущее наше и всей Интестини.
Ответствую без всякого упорства и отвращения, ибо всем нам широко известно, что давным-давно просветленные прибыли в эти края, хотя многие жители равнин, откуда происходите и вы, милостивый синьор, и остальные слуги сего уважаемого трибунала, предпочитают верить, будто живем мы здесь от начала мира и, по сути, происходим от древних рас, злобных, покрытых шерстью, с острыми клыками, собачьими мордами и окаменевшими сердцами – тех, что умучили святого Калогера, когда он бродил по горам, обращая язычников в веру и приручая чудовищ; и вследствие этого ужасного преступления они были вынуждены сами бежать от мечей, пока не нашли приют в этой долине. Но признайтесь же, что ваши земляки слишком легко принимают сии сказки на веру, что можно оправдать только нашим безмерным удалением от вашего мира и еще большей ложью, потому что – как вы видите своими глазами – ни у кого из нас нет ни собачьей головы, ни спрятанного под одеждой пушистого хвоста, хотя, конечно, мы умеем по-собачьи рычать и кусать, в чем определенно убедился ваш собрат Рикельмо. В действительности же мы пришли в эти горы, когда они были еще дикими и пустыми после истребления псоглавцев и других языческих народов, ведомые желанием найти землю, которая станет отныне нашей собственной и только нам покорной, и где мы сможем жить в уединении, по собственным законам и собственному разумению, ибо наша вера – нет надобности это доказывать – отличается от вашей, и в местах, населенных почитателями святых, навлекала она на нас различные гонения.
Ответствую далее, что неправда, будто бы нас привела сюда жажда вермилиона[5], ибо – утверждают наши старейшины – поначалу мы и не подозревали о его присутствии, а со временем он стал для нас скорее наказанием, нежели наградой, но именно такой труд и такую дань определил нам граф Бональдо, далекий предок нашего доброго синьора Дезидерио. «Ежели вы гордитесь, что свет горит в вас ярче, чем в любом другом человеческом роде, – сказал он им, когда они впервые предстали перед ним, прося позволить им поселиться на каменистой земле, что была в те времена пустошью и обителью дикого зверя, – я назначу вам дань, скрытую в самых темных глубинах земли; отныне вы будете по моему приказу добывать вермилион; я же, несмотря на мерзость ваших верований и обычаев, окружу вас заботой и буду защищать от других». Согласно легенде, хотя вы предпочитаете стыдливо ее замалчивать, граф Бональдо вырезал на руке эмблему своего рода, а старейшины так же начертали на своих ладонях знак света, и так рукопожатием скрепили они клятву, посыпав раны вермилионом. И хотя общеизвестно, что неочищенная руда является ядом, для них она оказалась кладезем чуда, продлевающим жизнь сверх человеческой меры; и так каждый прожил в добром здравии троекратную человеческую жизнь, и по той же причине графа Бональдо некоторые люди называют сейчас чернокнижником, приравняв его таким образом к тем несчастным, стенающим ныне в ваших подземельях. Так, мой милостивый синьор, был заключен договор, соединивший многие поколения назад род графа Дезидерио с родами просветленных, живущих с той поры в четырех деревнях вокруг горы Интестини.
Я признаю, что моя мать была одной из просветленных, что не должно удивлять вас, синьор, поскольку здешняя округа уже много поколений следует тропой света. Старосты, законники, сборщики податей, смотрители шахт и стражники в одинаковой мере охвачены ересью, а с ними и целые цеха кузнецов, слесарных дел мастеров, механиков и землекопов, вплоть до простых пастухов, слуг, погонщиков мулов и крестьян, что за всю жизнь не откопали ни крупицы вермилиона, но бросают в землю зерно, чтобы оно умерло и дало урожай, а это, как вам хорошо известно, ждет и каждого из нас, хотя бы и после смерти. Все они источают сладкий аромат ереси, но, как вы сами понимаете, до недавнего времени эти земли не подлежали власти трибунала, к которому вы имеете честь относиться, и жили мы по собственным законам. С тех пор же, как не стало графа Дезидерио, много договоров ушло в небытие; братья в сандалиях и жирные монахи вступили в Интестини, на запретную землю четырех деревень просветленных, которая с давних пор притягивала их жадные и тщетные взгляды. Правда, я признаю, что наш бедный падре Фелипе, коль скоро уж он здесь обосновался, как курица на насесте, с самого начала старался не выступать слишком рьяно против своих новообретенных еретических овец, ибо даже к благим целям легче завлекать медом, а не розгами. Потому он терпел визиты в деревню братьев Лордони, известных пьяниц и богохульников, которые каждый год накануне зимы спускались с высоких пастбищ. Он вел с ними дружелюбные беседы у входа в храм, словно заботясь об их душах, хотя на самом деле его больше интересовала их сестра Эракла, торговка овечьими сырами. Вскоре стараниями падре она стала, как говорят, его фокарией – хранительницей домашнего очага, ибо священник, поверьте мне, тоже нуждается в ком-то, кто будет готовить ему еду, рубить дрова, стирать рубашки и греть постель. Добавлю все же, что делать это следует благоразумно и тайно, ибо честь женщины соткана из слов, а достоинство мужчины кроется в его поступках. Добавлю также, что почтенный падре Фелипе понимает это превосходно, потому Эракла, за которой стоят два брата и внушительная фигура настоятеля, остается женщиной, достойной уважения, несмотря на то что добрые десять лет она таскалась по горам, протирая задницей постели на бесчисленных постоялых дворах, в деревенских хижинах, логовах разбойников и пастушьих лачугах, в то время как потаскухой и ведьмой называют меня.
Ответствую, это правда, что моя мать родила троих детей, и я самая старшая из них. Нет, синьор, я не знаю, какой мужчина впустил в меня дух. Ибо человек, как вы сами признаете, это всего лишь бочка с мясом, в коей тлеет огонек духа, но нисходит он на ребенка не в церкви, он передается от родителя. Вода, которой вы, монахи, велите поливать младенцев, способна лишь погасить его, поэтому мы, просветленные, не принимаем детей в общину, пока они не достигнут седьмого года жизни, а огонь не разгорится в них сильней. Обо всем этом вы, должно быть, уже знаете; падре Фелипе наверняка успел вам пожаловаться, с какими суевериями довелось ему бороться в нашей округе, где чернокнижники размножаются быстрее кроликов, а ведьмы густо облепили печные трубы, словно галки, и все это творится здесь веками, с тех самых пор, как просветленные согласились добывать вермилион.
Ответствую, да, мне было сказано то, что говорят всем детям, рожденным в четырех деревнях вокруг Интестини – и да будет известно вам, что названия им были даны по оттенкам вермилиона: Червен, Кармин, Киноварь, Пурпур, – что свет души, ежели разжечь его достаточно сильно, не угасает в человеке, сойди он хоть в глубь земли, в отличие от тела, уязвимого перед железом и огнем, о чем нам здесь истово в последнее время напоминал Рикельмо, магистр сего трибунала, к которому и вы имеете честь принадлежать. Свет души горит в нас сильнее, чем в ком-либо другом, и именно он позволяет просветленным спускаться в Интестини и возвращаться с незамутненным рассудком. По этой же причине столетия назад граф Бональдо взял нас под свою опеку, и, поверьте, он сделал это не по доброте душевной, а исключительно ради того, чтобы мы добывали для него вермилион и сделали его род богатым и могущественным, что в итоге и произошло.
Если же вы призываете меня вернуться из тех стародавних времен в дни моего детства, знайте, что грехи моей матери, если она действительно совершила их, не ложатся на просветленных. Старейшины деревни, а с ними и ее собственный отец, прокляли ее, когда она родила первого ребенка, дочь с клеймом бастарда за ухом, как будто там присел мотылек. По-прежнему без труда вы отыщете эту выпуклую, пористую тень между моими волосами, тем более что они поблекли и поредели с течением времени, но, сколько бы вы меня ни кололи булавками и ни грозили вечными муками, вы не нащупаете там никакого колдовства.
Ответствую далее, и многие не без удовольствия подтвердят мои слова, что свет в моей матери струился слабо и зыбко, хотя с тех пор, как ее, беременную, изгнали из родного подворья, она не прекращала попыток разжечь его в себе как можно сильнее, и будучи ребенком, засыпала я под приглушенный шелест ее молитв. Свет масляной лампы превращал ее тело в тонкий, будто вылитый из черного стекла контур, когда она с болезненным стоном поднималась с колен, чтобы дать мне в черпаке несколько глотков прохладной воды, если я просыпалась посреди ночи от кошмара. И если вы об этом спрашиваете, то да, я считаю, что она была заботливой матерью, естественно, в меру своего кошелька, который обычно бывал пуст, и сердца, которое также не струилось изобилием. Она прикасалась ко мне редко и пугливо, и я не помню, чтобы она сажала меня к себе на колени, как делали другие домохозяйки, дородные, краснощекие, грудастые и толстобрюхие женщины, которых постоянно сотрясали и душили приступы смеха или гнева, а ведь никто не обвинял их в бесстыдстве и безнравственности. Нет, потаскухой была только моя мама, маленькая, высохшая от тягот женщина, но сиявшая все же запретным, чахоточным блеском, какой вы заметите только на лицах потерявшихся вермилиан, если отважитесь спуститься в их подземные дворцы. Говорят же, что в самом центре Интестини простираются огромные залы меж рудных жил, пробитые тяжким трудом тех, кто забрался слишком далеко и уже не может и не хочет вернуться на поверхность; и порой мне думается, не случилось ли то же с моей матерью, не потерялась ли и она так же, как и они, не стала ли для нее гора Интестини всем миром. Эта участь потерянных и заживо погребенных в темном чреве земли внушает нам такой страх, что, молясь о доброй смерти для наших отцов, мужей и братьев, мы также просим, чтобы она пришла неожиданно, с внезапно отколовшейся скалой или в клубах ядовитого воздуха. И чему вы удивляетесь, синьор? Не каждому суждено умереть в своей постели, а с вермилианами это случается еще реже, чем с остальными, и это также часть договора, дающего нам эти земли в бессрочную аренду.
Но хорошо, раз вы настаиваете, давайте вернемся к моей матери, которая была блудницей, самой набожной блудницей в нашей деревне. Она носила рубаху из конского волоса и туго затягивала ее на поясе веревкой, похожей на те, что используются на коловоротах для подъема ведер с горной породой, а над ее кроватью висел пучок ремней с привязанными острыми крючками. Она хлестала себя каждую неделю до крови, и раны на ее спине никогда не затягивались, но, несмотря на все посты, покаяния и усмирение плоти, бастарды сыпались из нее, как плоды дикой груши. И я скажу вам, что теперь, будучи старой женщиной, я полагаю, что разврат ей простили бы скорее, нежели то богохульное осквернение души, коим она бесстыдно щеголяла, ибо – как вам хорошо известно – прегрешения лучше всего скрывать в темноте, но еще тщательнее следует таить свои добродетели.
Я подтверждаю, да, это правда, что вопреки грехам ее – а может, именно по причине их – ей разрешили работать в Интестини. Послали ее под Индиче, отвесную скалу, возвышающуюся над старой выработкой, где посадили прокаженных сортировать горную породу, раскалывать кирками скальные обломки и отделять камень от вермилиона, ибо только труд заслуживает вознаграждения, праздность же порицаема и обречена на забвение. Моей матери было велено вывозить из-под Индиче кровавую руду, поскольку она умела обращаться с животными, а больше не на многое была способна; потому без зазрения совести ее бросили в логово болезни под похотливые взгляды прокаженных. На рассвете она принимала корзины со свежей породой, взваливала их на спины мулов и отводила животных в деревню прокаженных; под вечер же, когда те отделяли благородную руду от камня, земли и прочей грязи, она в темноте, с порцией пищи, выделяемой смотрителем шахты, возвращалась под Индиче, где получала свою долю оскорблений и злословия, ибо еды никогда не хватало на всех. Нет, синьор, мы сами тогда не голодали, но и не жили в изобилии, ибо не забывайте, что, хотя мы и добываем из-под земли великое богатство – вермилион, оно не принадлежит нам, и даже малейшей крупицы мы не можем оставить себе. Наоборот, мы сами принадлежим ему безвозвратно; он оставляет след в наших душах и окрашивает наши пальцы в красный цвет; именно из-за этих пятен на коже нас называют вермилианами, людьми киновари. Сие обстоятельство, как вы сами догадываетесь, весьма удобно для наместника и таких, как вы, ибо эти пятна невозможно вытравить даже колдовством, хотя я и отрицаю, что когда-либо пробовала это делать. Посему, если кто-то из вермилиан устроит побег, его, даже спустя годы, можно распознать и отвести к месту казни, которое мы называем Ла Гола; это ущелье пожирает негодяев и отправляет их на самое дно Интестини, где они смешиваются с вермилионом, что справедливо, ибо разве все мы не суть черви во чреве мира, что сначала поедают, а потом сами становятся кормом?
Так представляется правда, изреченная под присягой женщиной, именующей себя Ла Веккья. После прочтения в присутствии трех лиц рекомая признала, что записанное полностью соответствует ее словам. Она заявила также, что сделала свое признание по доброй воле, не желая кому-либо навредить или выдвинуть ложное обвинение. Произнесла клятву хранить собственные слова и вопросы трибунала в тайне и обещала хранить молчание.
Поскольку же сама она остается неграмотной, я, Аббандонато ди Сан-Челесте, епископ трибунала, свидетельствую вместо нее собственной рукой.
II
В деревне Чинабро в приходе Сангреале, в священном зале трибунала, в пятницу, пятнадцатого дня мая, в канун праздника Святой Бенедикты, мученицы, покровительницы убогих дев, доктор Аббандонато ди Сан-Челесте, епископ трибунала, присутствовавший на утреннем слушании, приказал вновь привести к нему названную Ла Веккья и допросить ее в присутствии инквизиторов Унги ди Варано и Сарто ди Серафиоре, а также свидетелей: падре Фелипе, пресвитера церкви в указанном приходе, и падре Леоне, исповедника и духовного наставника Его Сиятельства наместника, а также падре Лапо, проповедника оного наместника, что и было исполнено.
Ответствую, что все, что произошло до того дня, когда мать показала мне дракона, похоже на темное горное озеро, и только у самого берега, подобно лягушачьей икре и гнилым стеблям, болтаются бесполезные имена моих родных, моего деда и его братьев, а также моих дядьев, что проявляли ко мне неприкрытую ненависть, ибо я постоянно напоминала им о распутстве, что гнездилось под юбкой моей матери. И даже если происходило нечто большее, нечто кроме ежедневных оскорблений и оплеух, к которым, поверьте мне, человек легко привыкает, оно остается скрытым под темной водной гладью моего детства, и даже по настоянию вашего трибунала я не смогу заглянуть под нее. И нет, имя владельца дракона мне тоже неизвестно. Я не знаю, кто были его родители, из какого он прихода, и текла ли в нем чистая кровь, не зараженная ересью, колдовством или иным смертным грехом. Я также не могу сказать, посещал ли он в отведенные дни храмы и с должным ли смирением участвовал в обрядах. Я помню только его густую черную бороду и то, что он был силен, как медведь, или просто казался таковым в моих глазах, ведь мне было всего восемь-десять лет, и я еще не начала кровоточить.
Ответствую, что остальные комедианты относились к нему с уважением, хотя, может быть, я принимала за уважение страх, потому что он злобно покрикивал на всех и постоянно богохульствовал. Да, он клялся ликом Создателя, его локтем, плечом, коленом и другими частями тела, которые перед лицом сего священного трибунала и ради блага своей души я даже не осмелюсь назвать. Никто из наших старейшин не пытался его упрекнуть, хотя жителям деревни за меньшие провинности прокалывали губы. Да, синьор, старейшины исправно следили за порядком в наших четырех деревнях, и когда я была ребенком, наказание назначалось после воскресной службы. Я помню, что провинившиеся становились перед алтарем, но когда я силюсь перед вами назвать их имена и провинности, весь храм словно погружается в темный, грязный омут вместе с вермилианами в праздничных кафтанах с красными кисточками, их женами в груботканых платьях, не способных полностью прикрыть их толстых тел, с румяными детишками, присосавшимися к матерям, словно морские желуди, с ремесленниками, занимавшими почетные скамьи спереди, и слугами, которые скромно держались сзади, распределяясь согласно полу, возрасту и заслугам. Управляющий шахты хриплым голосом вызывал грешников, они поднимались со своих мест и брели, напряженно рассекая сгустившуюся тишину, словно пловцы воду. И эта минута прохода казалась самой длинной, потому что наказание исполнялось четко и без чрезмерного гнева, порой даже с неким жестом снисходительности, похлопыванием по плечу или кивком головы, если виновнику удавалось сдержать крик боли, хотя эта боль чудным образом расползалась на всех нас. Но, что еще более странно, несмотря на столь суровые увещевания, грешников не становилось меньше. На спинах самых закоренелых из них словно раскрывались горные разрезы, созданные бесчисленными ударами батогов, а раны на губах богохульников никогда до конца не затягивались. Некоторые, казалось, даже гордились ими: понурые, они выходили из храма, выплевывали кровь на известковые камни прямо у священной стены, и тут же начинали похваляться, как низко они опустятся на следующее утро и каких глубин в своем падении достигнут. Потом они провожали жен и детей домой и шли в трактир, который в те времена держал этот негодяй Одорико, о чем, конечно, вам приходилось слышать.
Ответствую, что я также не знаю, как получилось, что комедиантам разрешили разбить лагерь прямо под Интестини. Как правило пристав защищал от чужаков подходы к горе, а половина от десятины с вермилиона шла на содержание специальной стражи, следившей за негодяями, пытающимися проникнуть в шахты; таковых, правда, попадалось всего несколько в год; к тому же они плохо знали наши горы, так что ловить их не составляло большого труда. Стражники также занимались преследованием вермилиан, если кто-то из них пытался сбежать с украденной рудой. Однако в те времена предателей было не так много, как сейчас, и стражники, чтобы их кости не размякли от безделья, должны были также сопровождать повозки с вермилионом, отправляемые в конце каждого месяца в замок графа Дезидерио, следить за порядком на проезжих трактах, ловить обычных злоумышленников из пастухов и крестьян, а также охотиться на волков, которые уже тогда начали плодиться сверх меры. Но даже при этих обязанностях большую часть времени они проводили в блаженной лености, пьянстве и за игрой в кости, подавая плохой пример нашей молодежи, что приводило в ярость старейшин, поэтому пристав приказал им держаться за пределами поселения, в укрепленном замке, где и вы, синьор, нашли пристанище.
Ответствую, что именно там, на площади перед замком, комедианты разбили свои шатры, крытые синим полотном с нашитыми звездами, которые смеялись, выставляя языки, морщили щеки и, казалось, подмигивали деревенским детям, когда мы жадно подглядывали за ними, распластавшись, как змеи, на каменистых пригорках. Я помню, что там было большое солнце с лучами из золотистых шнурков, что само по себе было святотатством, а в довершение ко всему прямо под кругом из золотистой материи стояла женщина с нечестиво открытой головой, так что ветер развевал ее волосы, создавая рыжий нимб. Она высмотрела нас издали и помахала рукой, затем открыла рот и выпустила из него клубок огня. Именно так и было, пламя вырвалось из ее нутра, словно она была демоном; женщина схватила его голой рукой, как яблоко или комок земли, и слепила в шарик. Она перебрасывала огненный шар из руки в руку, не чувствуя ни малейшей боли и создавая племенем светящееся кольцо, а мы трепетали от восторженного ужаса, боясь, что, если она дунет на нас, мы все окажемся в огне. Но комедиантка только рассмеялась, и пламя погасло так же внезапно, как и появилось.
Я уверяю, что ничего более не случилось, мы же, детвора из деревни Киноварь, маленькие козьи пастухи и пастушки и дети бедняков, отданные в услужение, разлетелись в ужасе, как воробьиная стайка, уверенные, что старейшины сейчас проклянут рыжую безбожницу, а пристав пришлет стражу, после чего ей свяжут руки и приведут на край Ла Гола, где грехи, словно железные цепи, утянут ее в глубь Интестини. Много раз мы наблюдали, как осужденные переступали эту пропасть с сохранявшейся на лице надеждой, что воздух застынет под ними, обернувшись чудесной прозрачной гладью, но тут же каменная щель, гремя осыпающимся гравием и камнями, счищала с них кожу и мягкое мясо, словно яичную скорлупу. Помню, я подумала тогда, что эта рыжеволосая огненная женщина будет кричать громче других, ибо в ее облике и движениях не было ни капли той сдержанности, которую пытались воспитать в себе жены вермилиан. Ничего страшного, однако, не случилось, и по мере того, как солнце поднималось все выше и выше, лагерь комедиантов обрастал все новыми полотнами шатров, лентами, хоругвями и канатами, закинутыми на деревья и зубцы замка. Наконец волна ярких красок полностью покрыла траву и камни на площади, и даже мы, дети, почувствовали, что эта пестрота замарает всех нас.
Ответствую, что мать вернулась в тот вечер раньше обычного и перемещалась по комнате с какой-то горячечной неловкостью. Она разбила молочный кувшин, уже пострадавший и скрепленный проволокой прошлой зимой. Я разрыдалась, потому что мне нравилась его потрескавшаяся синяя глазурь, и тогда мать чмокнула меня в щеку и приказала молчать, после чего снова начала суетиться, бормоча что-то себе под нос. Нет, я не помню слов, потому что весь день от рассвета прошел у меня в домашних хлопотах. Я уже достигла, синьор, того возраста, когда дети помогают семье: я носила воду из колодца, варила пищу, полола репу и бобы, присматривала за курами и утками. Поверьте, я была хорошим ребенком, скромной маленькой просветленной со светлыми волосами, сплетенными в косу и спрятанными под платок. Все вам это охотно подтвердят, с коровьим удивлением кивая головами: «Как же странно порой нас меняет жизнь, впрочем, что еще можно было ожидать от дочери самой распутной блудницы в деревне; ведь даже одна паршивая свинья способна заразить весь свинарник, а эта развратница сделала семейное подворье рассадником греха, что не могло пройти бесследно». Да, синьор, слухи о грехах моей матери в летних кухнях, птичниках и на задворках кружили постоянно, только я по-прежнему ничего об этом не знала, когда бегала с заквашенным тестом к соседкам, потому что собственной печи у нас не было, взбивала масло и варила сыры, потому что мои братья были слишком малы, чтобы помогать мне, и могли только собрать хворост или вместе с другими следить за козами на пастбище. Остальная работа ложилась на меня, и под вечер я валилась с ног от усталости, как те ваши замученные святые на картинах, опускающиеся в вечный сон, закованные в жесткие складки сукна, когда палачи ведут их на казнь.
Признаюсь, что сначала я не поверила, когда мать пообещала показать нам дракона; я боялась, что стала жертвой жестокой шутки, ведь была она колкой, словно чертополох, растущий на пути к водопою, и случалось, вымещая на мне тяготы своей жизни, она хлестала меня жестокими словами, упрекала за неловкость, беспомощность и подлый характер, не проявляла ко мне ни малейшей нежности. Меня удивило, что она собралась с наступлением темноты выйти за ворота деревни, но я ничего не сказала, мне так сильно захотелось увидеть дракона, который развевался на флаге над лагерем комедиантов, раздуваясь и выгибаясь огромным крылатым монстром о шести ногах и трех львиных пастях. Нет, синьор, прежде я никогда не встречала дракона, но знала, как он должен выглядеть. Это нам объяснил большой Ведасто, который бегал с поручениями от пристава. «Мой отец был благородным синьором, – он говорил, – с графским драконом на гербе; осенью он вернется, чтобы забрать своего первородного отпрыска и наследника; да, пристав уже получил об этом письмо, запечатанное в красный пергамент». Конечно, мы слушали его затаив дыхание, хотя мать Ведасто была простой потаскушкой, одной из работниц, что весной шляются по холмам в поисках легкого заработка на сенокосах и при окоте овец; она отдалась кому-то из стражи, а потом бросила ребенка в плетеной корзине под стеной замка и убежала прочь. Но что ж, мечты бастардов похожи, поэтому мы не высмеивали Ведасто с его воображаемым отцом и драконьим гербом. Впрочем, в тот день мы все погрузились в рыцарские мечты, которые нам безбожно навеяли драконьи хоругви и изображения на шатрах. Даже первородные вермилиане и богобоязненные сыны мастеров, которые не смели украдкой ходить на площадь перед замком, дабы смрад комедиантских трюков не осквернил их, думали только о представлении, что должно было начаться в сумерках, и всем сердцем ненавидели нас, маленьких бастардов, воров и нищих, которые целыми днями свободно шатались по холмам и заглядывали во все уголки замка.
Я еще раз объясняю, что все это случилось много лет назад, до того, как ослабли вервии наших законов, когда чужаков не пускали в деревни просветленных. Изредка только забредал какой-нибудь странствующий купец, котельщик, изготовитель сит для просеивания муки или продавец иголок, но все они должны были оставлять свой товар под за´мком, делая вид, что заманивают людей пристава, а не богобоязненных женщин просветленных. Перед наступлением сумерек они упаковывали тюки и спешно уезжали, так как было известно, что ни один чужак не может укладываться спать ближе двух верст от Интестини. Именно так и было записано в договоре, заключенном между графом Бональдо и просветленными, – «укладываться спать». Поэтому, когда старейшины явились к приставу с просьбой удалить комедиантов со святой земли, тот ответил им насмешливо, что никто из фигляров этой ночью не сомкнет глаз, и старейшинам деревни пришлось удалиться несолоно хлебавши, волоча за спиной тяжелый мешок чужого бесстыдства, куда с мрачным удовлетворением они накидали кощунственные возгласы жонглеров и бродячих перекупщиков, нескромность и гордыню графа Дезидерио, пророчества странствующих проповедников и самого патриарха в его позолоченной скорлупе безбожия, а теперь с отвращением добавили и это последнее оскорбление пристава, которое, конечно, было подготовлено не без ведома графа и затем только, чтобы унизить их, но сами понимаете, чего еще им оставалось ожидать от детей бесчестья?
И да, раз вы об этом спрашиваете, ответствую, что у моей матери в тот день были свежие пятна вермилиона на пальцах, но не стоит усматривать в этом ничего необычного. Мулы спотыкаются на горной тропе, и комья вываливаются из корзин, и долгом матери было собрать их, чтобы ни капельки драконьей крови не ушло в землю, из которой ее с таким трудом извлекли. Кроме того, синьор, не верьте этой жирной распутнице Мафальде, когда она говорит, что мать тайно выносила самородки киновари, чтобы оплачивать ими удовольствия у одного негодяя из числа рапинатори – так мы называем разбойников, орудующих в наших горах. Когда вы лучше познакомитесь с Мафальдой, вы сами скоро поймете, что ненависть часто ходит рука об руку с глупостью, потому что в те времена лишь серые лисы гнездились в гротах Ла Вольпе[6], а моя мать не относилась к женщинам, бегающим по ночам к ухажерам. Впрочем, даже если бы двигали ею похоть или жажда наживы, не позарилась бы она на босоногого бродягу или разбойника в потертом на спине кафтане, а увлеклась бы канатчиком Бирино, что обслуживал самый большой коловорот; и я помню – хотя, наверное, сегодня он предпочел бы забыть об этом, – что незадолго до рождения моих братьев он приносил ей иногда пойманного в силки зайца или форель из ручья. И я клянусь всеми святыми, она бы выбрала какого-нибудь уважаемого шахтера, который превратил бы ее в честную женщину, и ей не пришлось бы больше спускаться в Интестини, не носила бы она на себе пропахшую мулами рубаху, а дети из поселка не кидали бы в нее куски навоза, когда вечером она вела животных в загон. У нас был бы собственный дом с хлебной печью, сундуками для приданого и погребом, где висели бы сыры и куски копченого сала, а зимой, в праздник Нового света, муж вручал бы ей золотую монету в знак веры и обещания неисчерпаемой радости, что ждет нас после слияния со светом.
Подтверждаю, синьор, что я все время бегала за канатчиком Бирино, как мул за морковкой, веря, что он заберет нас в свой дом, пока моя мать не начала прятать свой новый грех под юбкой, а так как осень в тот год выдалась особенно холодной, долгое время никто не догадывался, что она носит под ней. Наконец однажды она не пошла за мулами, а слегла в хлеву, где мы держали коз и кур, принялась выть и стонать на соломе. Я разрыдалась от страха, что она умрет и оставит меня совсем одну, но мать сухо, как всегда, велела мне уйти. В конце концов ей все же потребовалась моя помощь, когда ребенок выпал у нее из живота и она не смогла поднять его сама и перерезать пуповину. Да, так мне пришлось привести в мир своего брата. Не верьте поэтому негодникам, которые напоют вам, будто бы он не был отсюда родом, что якобы его выкрали из колыбели и спрятали в нашей деревне, потому что он на самом деле внук графа Дезидерио; дескать, король Эфраим потребовал выдать ему ребенка, а мамка подменила его на сосунка прачки, купленного за четыре серебряных талера, истинного же наследника принесла к нам, в Интестини, где никому не придет в голову искать его, а маленького бастарда тем временем по приказу Эфраима утопили в мешке как кота. Честно говоря, рассказывают и другие истории, но, поверьте, кем бы ни стал позже мой брат Вироне, в самом начале он был только скользким от пленки, крови и слизи куском мяса, которого мать – не без труда – вытолкнула из своего чрева, успешно распугав всех честных поклонников.
Такова правда, изреченная под присягой женщиной, именуемой Ла Веккья, и зачитанная ей в присутствии трех свидетелей. Оная подтвердила соответствие изложенного ее собственным словам, а также заявила, что не укрыла и не умалила ничего в своем рассказе, дабы обелить себя в наших глазах.
Записано доктором Аббандонато ди Сан-Челесте, епископом сего трибунала, засвидетельствовано его собственной рукой.
III
В деревне Чинабро в приходе Сангреале, в священном зале трибунала, утром в пятницу, пятнадцатого дня мая, в праздник Святой Бенедикты, мученицы, покровительницы убогих дев, инквизитор, доктор Аббандонато ди Сан-Челесте в присутствии инквизиторов Унги ди Варано и Сарто ди Серафиоре, а также свидетелей: падре Фелипе, пресвитера церкви упомянутого прихода, и падре Леоне, исповедника и духовного наставника Его Сиятельства наместника, а также падре Лапо, проповедника оного наместника, людей благочестивых и сведущих в законах, будучи участником предшествующих слушаний, приказал привести названную Ла Веккья к ним снова, что и было исполнено.
Ответствую далее, что вечер, когда я увидела дракона, был необычайно теплым и с миндальных деревьев сыпались отцветшие цветы, когда мы шли через луг к деревенской околице под злословие детей вермилиан. Потому что, да будет вам известно, синьор, наши соседи никогда не упускали случая напомнить моей матери, что она всего лишь кусок навоза, прилипший к подошвам своих набожных и трудолюбивых ухажеров. В тот день, однако, я не обижалась на их оскорбления и нет, синьор, я не думала вообще, почему мама, обычно стыдливая и покорная, решила ради пустого, непристойного развлечения выйти одна после наступления темноты за стену, к замку, и к тому же без мужчины, что защитил бы ее от мерзких взглядов и еще более пакостных слов. Наши старейшины называли это строение зловонной язвой беззакония, хотя пристав сделал действительно много, чтобы не мозолить им глаза, и железной рукой удерживал своих людей, поэтому поверьте, матери моей не грозило ничего кроме пары безобидных насмешек и попытки вынудить поцелуй. О какой-либо серьезной близости, однако, не могло быть и речи, ибо если бы какой-нибудь стражник попытался изнасиловать женщину из числа просветленных, да даже и сделать что-либо с ее согласия, его бы наказали как за изнасилование благородной – отсечением членов и клеймением.
Подтверждаю, что в моих воспоминаниях площадь перед замком мерцала в тот вечер от фонарей, а у входа в самый большой шатер стоял плотный мужчина, с бородой, напоминавшей черное баранье руно, хотя в действительности, может, и свет был более скромным, и комедиант более низкорослым, а вырос он только в моих глазах, затуманенных безумным восторгом. Однако я точно помню, что он улыбнулся моим братьям и не принял от матери оплаты, сказав, что мы пришли первыми, а потому наверняка принесем ему счастье, привлечем множество гостей с кучами блестящих медных монет, что заплатят за зрелище, какого не увидишь ни в одном другом месте в мире. «Кроме дракона, у меня есть и другие чудные животные, – говорил он, улыбаясь с фальшивой любезностью, как купец, расхваливающий червивую муку. – Монстры из дальних краев, птицы, говорящие человеческим голосом, – те самые, что некогда преследовали святого Сервидио, прикованного к скале Акулео, но, как сами увидите, были укрощены заклинателем и теперь вещают во славу Создателя. Мы покажем вам также женщину-рыбу, полностью покрытую чешуей и потому вынужденную путешествовать в бочке с морской водой, и ребенка-червя, у которого нет ни рук, ни ног, но зато с рождения имеются шесть пар глаз, а также огнедышащую женщину и крошечных людей, что ростом не выше моего локтя, но зато полны бодрости и так ловко кувыркаются, что вы рыдать будете от смеха. И еще фокусников, что смотрят в будущее и освобождают страждущих от головной и зубной боли, вытаскивая у них из ушей камни и личинок, ослабляющих память и насылающих на человека бессмысленный смех».
Помню, что его голос, синьор, был подобен туго сплетенному канату и тянулся за нами еще долго после того, как опустился занавес и мы погрузились в темное, пыльное и насыщенное удушливыми запахами пространство шатра. Не думаю, что мы принесли чернобородому счастье, во всяком случае, не в тот вечер, потому что мы с братьями долго ждали в темноте, устроившись на мешках, набитых сеном, и сжимая друг другу руки от нетерпения и волнения, но никто из наших соседей не подходил. Комедианты очень долго оттягивали начало представления, пока наконец мужчины из стражи не начали медленно пробираться за драпировку и садиться по другую сторону круга, посыпанного ярким песком. Кажется, к ним присоединились несколько крестьян и пастухов. Нет, добрый синьор, я не могу назвать их имен из-за убогости своей памяти и царившего в шатре мрака. Правда, я видела их раньше в деревне то с корзинами, наполненными зерном, то с блеющим ягненком на плечах, но в тот вечер они упорно избегали наших взглядов; и вдруг я заметила, что мать здесь единственная женщина, и поняла, что за эту неосмотрительность нам неминуемо придется дорого заплатить.
Ответствую, что через некоторое время представление началось и в шатер вбежал шут, звеня с каждым шагом колокольчиками, кувыркаясь и выкрикивая непотребства. Однако теперь, воспринимая прошлое глазами взрослой женщины, я понимаю, что нищета шутовского наряда вовсе не была показной, да и само зрелище кажется мне нынче таким же убогим, как и потертый шутовской кафтан. Да, рыжеволосая женщина плевала и жонглировала огнем, и карлики вскакивали друг другу на плечи и пытались добраться по намыленному шесту до подвешенного свиного окорока, пока он, наконец, не свалился прямо в бочку женщины-рыбы, расплескав большую часть воды, из-за чего та, разразившись похабным сквернословием, вынырнула из бочки, сверкая обнаженной грудью на радость страже. Карлики вторили ее изощренным ругательствам, и тогда заклинатель кнутом выгнал их из шатра. Потом под куполом шатра кружили странные лысые птицы с выщипанными хвостами, а когда они присели укротителю на плечо, оказалось, что они действительно могут повторить молитву святого Сервидио.
Я подтверждаю, синьор, что, будучи маленькой просветленной, я знала ваши молитвы, ведь Интестини никогда не была совершенно отрезана от остального мира – хотя граф Дезидерио и наши старейшины с радостью бы ее от мира оторвали – и бродячие торговцы, и погонщики, перегонявшие волов по горным тропам, и пастухи, водившие стада по высоким лугам, учили нас уважению к словам, произносимым вашими единоверцами сразу после пробуждения и во время ночного отдыха. Так я узнала имена ваших святых и предания о том, как они странствовали по отвесным склонам и долинам наших гор и посетили множество иных мест, творя чудеса и укрощая монстров. Я знала, что язычники приковали святого Сервидио к скале, на которой обитали крылатые бестии с женскими лицами; с незапамятных времен они наводили ужас на ту местность, выкалывали глаза путникам, похищали еду со стола крестьян и отравляли то, что не смогли украсть, сея горе и отчаяние. Чудовища терзали святого Сервидио клювами и когтями вырывали из его тела кровавые куски мяса, стремясь сокрушить его дух, однако он принимал страдания с таким смирением и так терпеливо молился о спасении душ своих мучительниц, что в момент его смерти птицы превратились в женщин и, каясь в своих грехах, тут же решили стать монахинями; и вскоре для них возвели монастырь на той же скале, где прежде они жили в птичьем облике и где теперь возносятся слова молитвы святому Сервидио, который перед смертью спас их потерянные души и позволил им возродиться для веры.
И я подтверждаю еще раз, что комедианты оскверняли слова святого Сервидио, вложив их в уста безмозглых птиц, и это святотатство наполнило меня таким ужасом, что я начала дрожать и ронять слезы, ведь я уже знала, что ваши святые после смерти бывают мстительными и могут с лихвой расквитаться за обиды или даже за безразличие. Однако я все еще хотела увидеть дракона. Я с нетерпением ждала, когда он появится посреди арены, расправит радужные крылья, о которых так много нам рассказывал бастард Ведасто, и будет реветь, раскачивая тремя головами. Нет, я вовсе не думала, как он сможет поместиться в шатре, если даже четверо карликов, встав один на другого, доставали до потолка, пока не попáдали и не развязали драку, по-видимому, не предусмотренную в представлении. Я не смеялась вместе с другими во время их потасовки, так как размышляла, сможет ли хлыст дрессировщика укротить дракона, ведь такое чудовище способно извергать пламя и одним взглядом превращать человека в камень. С каждым мгновением мое нетерпение разгоралось все ярче, и в этом волнении я едва не упустила дракона.
Ответствую, что сначала он показался мне не больше свиньи, хотя его длинные лапы, странно изогнутые в суставах, подсказывали, что стоит только ему выпрямиться, он мог бы сравниться ростом с укротителем, который гордо выпячивал грудь и размахивал кнутом, из-за чего жалкий вид скрюченного чудовища у его ног становился еще выразительнее. Признаюсь, сначала я приняла это странное животное за кабана, потому что спина его была покрыта щетиной – нет, не чешуей, как следовало ожидать, а короткой, местами взъерошенной шерстью, – а сложенные крылья волочились за ним по песку, как пучок соломы. Только когда укротитель ударил кнутом, я поняла, что это и есть дракон, настоящий дракон, и лучшего не будет. Затем, раз уж вы, синьор, изволите спрашивать об этом, я разрыдалась в голос, заметив, что ему прикрепили к крыльям павлиньи перья и перевязали тело алыми лентами, наверное, чтобы добавить величия, но вся эта пестрота лишь подчеркивала подлость обмана. Существо скулило и прижималось к земле, как побитый пес, а чернобородый с нарастающей злобой дергал за цепь, пытаясь заставить зверя сесть. Кто-то из стражников начал смеяться; я думаю, что он уже успел изрядно выпить вместе с товарищами. И именно тогда младший из моих братьев – и вы, конечно, слышали о нем, мой брат Сальво, которому было тогда не больше трех-четырех лет, – крикнул, чтобы они прекратили и замолчали немедленно. И все же это ложь, что дракон якобы узнал его и в тот же миг пыхнул пламенем из всех трех голов, увенчанных золотыми коронами. Это неправда, повторяю, потому что у дракона была всего одна голова, обтянутая оливковой кожей и вытянутая, как у гадюки. Под крыльями ему веревками привязали набитые головы волков или больших черных псов с глазами из красного стекла и гребнями из петушиных перьев, но этот трюк мы распознали, что наполнило наши сердца огромной печалью.
Как уже говорилось, укротитель прилагал все усилия, чтобы заставить зверя шевелиться, и хлестал его по спине, поднимая в воздух клочья серой шерсти. Я подумала, что, должно быть, он очень старый, этот дракон, потому что он двигался, как усталый, полудохлый зверь. Когда он расправил крылья, одна из приделанных голов отвалилась, и из нее вывалилась червивая и гнилая пакля. Стражники снова повалились от смеха; крестьяне и погонщики овец тоже хрипло похихикивали на своих скамейках; и хотя они уже наверняка поняли, что из них делают дураков, все же добродушно с этим соглашались, решив, что стоит потерять немного меди, чтобы воочию убедиться, что никаких драконов не существует, конечно, кроме тех, которых одолели святая Фортуната и святой Калогер; однако тех драконов истребили давным-давно, когда мученики боролись с демонами; и вот в темноте шатра мы охотно признавали свою вину, что согрешили гордыней, думая, что прикоснемся к чему-то, что предназначено для святых, ведь мы не претендуем на совершенство, кутаясь в изношенные одежды наших повседневных проступков и прегрешений; мы признаем, что они подходят для нашего тела лучше, чем праздничный наряд, и поглядите сами, синьор, теперь наши зеваки уже смеются во весь рот, ведь смех очищает душу и защищает нас от зла, но все же есть в нем скорбная, пронзительная печаль.
Все изложенное является правдой, произнесенной под присягой женщиной, именующей себя Ла Веккья, которая после прочтения ей изложенного подтвердила, что слова ее были записаны в точности. Рекомая заявила, что ничего не утаила и не измыслила из ненависти или недоброжелательства, но честно выдала всю правду во благо своей души и сохранит ее в строгой тайне.
Записано и засвидетельствовано доктором Аббандонато ди Сан-Челесте, епископом сего трибунала.
IV
В деревне Чинабро в приходе Сангреале, в священном зале трибунала, в пятницу, пятнадцатого дня сего месяца, в праздник Святой Бенедикты, мученицы, вечером, к епископу Аббандонато ди Сан-Челесте по его распоряжению вновь была приведена женщина, именуемая Ла Веккья, и далее в присутствии инквизиторов Унги ди Варано и Сарто ди Серафиоре, а также свидетелей: падре Фелипе, пресвитера церкви оного прихода, падре Леоне, исповедника и духовного наставника Его Сиятельства наместника, а также падре Лапо, проповедника оного наместника, людей благочестивых и сведущих в законах, была расспрошена о том, что еще она знает или о чем догадывается в связи с расследуемым делом.
Ответствую, что не могу сказать, что произошло дальше, обменивались ли они какими-то гнусными знаками, сообщениями или поцелуями. Я даже не помню, чем закончилось представление, но потом мать отвела нас в деревню и дала нам перед сном по кружке козьего молока, вина бедняков, с добавлением целебной травки, что должна была успокоить наш плач, так как растрогало нас печальное состояние существа, бессовестно подсунутого нам в качестве дракона. Объясняю, синьор, что все мы спали в одной постели, но в этом не было никакого распутства, только практичность бедняков, потому что зимой в комнате царил такой холод, что нам приходилось согревать друг друга своими телами; зимой же мать запускала в дом коз, которые, хотя и воняли и пачкали пол, но были теплые и к тому же с безграничным терпением позволяли дергать себя за кудла и подставляли вымя, полное молока. Нам приходилось так делать из-за скупости Одорико, сдававшего нашу комнату для нужд Интестини. Он не мог ослушаться пристава, когда тот приказал ему принять под крышу распутницу и ее приплод, но скупился на всем, забирал дрова и отгонял от колодца, покрикивая, что вода мутнеет и начинает гнить от прикосновения блудницы и ее отродья.
Я поясню, если до сих пор это для вас остается непонятным, что пристав от имени графа Дезидерио заботился о вдовах и сиротах вермилиан, если у кого-то не было родственников, готовых предоставить им кров и содержание. Но вам следует знать, что это было большим позором для всех братьев, родных и двоюродных, поэтому женщинам просветленных крайне редко приходилось просить подаяние. Обычно пристав ограничивался выплатой компенсации, и учтите, что смерть во мраке Интестини имела солидную и немалую стоимость под ясным небом. Потом братья или другие родственники брали опеку над родственницей с щедрым приданым и обычно вскоре находили ей очередного мужа из числа вермилиан или из пастухов, ведь в нашей округе никогда не было недостатка в младших сыновьях, получивших самую малую часть наследства и по этой причине не имевших собственного двора. Богатая вдова была для них лакомым куском, пусть даже и с кучей отпрысков. Но с моей матерью все обстояло по-другому. Она сама работала в Интестини, и потому какой-то особой милостью, а может просто из жалости, пристав обеспечил ей приют, но не в замке, вероятно, опасаясь неприязни и раздора между стражниками.
Как уже было сказано, пристав оплачивал для моей матери одну из комнат на постоялом дворе Одорико, где жили также и старые стражники, не пожелавшие возвращаться в родные края, и где привыкли останавливаться рудных дел мастера, когда приходили к нам, чтобы оценить количество, вес и качество добытого вермилиона. Но этих постояльцев было не так много, и двор Одорико в основном стоял пустым, а сам он зарабатывал так же, как и другие мужчины нашей деревни, если их не принимали в вермилиане и им не надо было спускаться каждое утро во чрево Интестини. Одорико держал стадо овец, пасущихся на общинных лугах, несколько мулов, чтобы возить грузы по горным тропам, и разбросанные по склонам над долиной делянки, дававшие немного ячменя, из которого он потом варил пиво для стражи. Он не брезговал и другим заработком, поэтому, как мне рассказывали, без долгих торгов и проволочек согласился принять под свою крышу блудницу и плод ее греха, то есть меня – а в те времена мои братья еще не появились на свет. Он выделил нам невысокую, вросшую в землю пристройку возле загона для мулов, которых отделили от основного стада в замке, потому что они ходили к Индиче, в поселение нечистых. Впрочем, мою мать тоже считали испорченной. Одорико прятался за углом загона, когда она возвращалась от прокаженных, и начинал голосить, что она тварь окаянная и навлечет на всех заразу. Он дергал ее за платье, требуя, чтобы она обнажилась и показала, нет ли на ее теле признаков проказы, но мать несмотря на свой небольшой рост была сильной женщиной, привыкшей к ежедневному труду. Так они препирались и злословили, пока кто-нибудь из богобоязненных вермилиан, расслаблявшихся под вечер в трактире, не грозил им подать жалобу приставу.
Ответствую, что это происходило с завидной регулярностью, если трактирщик чрезмерно заливал свою горечь вином. Ибо вам следует знать, что при всех своих недостатках Одорико был глубоко несчастным человеком, так как дети из его семени рождались слабыми, как стрекозки, и умирали, прежде чем успевали как следует вкусить мир, словно несли на себе отцовские прегрешения. Его бедная половина, иссушенная постами, долгими молитвами и секретными отварами, употребляемыми в глубочайшей тайне от супруга, не могла их выкормить ни до рождения, ни после. В горестном молчании она сносила согрешения мужа, когда он насиловал очередную кухонную девку или наемную работницу, если она оказалась настолько глупа, что поддавалась его уговорам и соглашалась на бесплатный ночлег в комнатке на чердаке над сараем. Да, жена трактирщика закрывала на это глаза, решив, что если кто-то из его бастардов дольше задержится в бренном теле, то она вместе с мужем пригреет его и признает своим ребенком, прогнав, конечно же, эту распутницу, его породившую, ведь родить бастарда – невелика заслуга; от греха дети родятся легко, как котята, в то время как добродетель постоянно терпит боль. Однако раз за разом трактирщица терпела неудачу, и я уверена, что именно из-за своего бесплодия она при каждом удобном случае давала мне и моим братьям оплеухи. И знайте, синьор, что она ни разу не одарила нас даже корочкой хлеба. Она предпочитала давать отходы свиньям, которых разводили для стражников и пристава, потому что, по ее словам, от свиней, пусть и нечистых, есть какая-то польза, чего нельзя сказать о бастардах. Если бы она могла, она бы засунула всех нас троих в кожаный мешок, а затем, подкинув пару солидных камней, швырнула бы в колодец.
Ответствую далее, что проснулась я в ту ночь от духоты и жажды, потому что летом наша комната нагревалась, как печка, а зимой сквозь щели в стенах нас обдавал мороз. И едва я выбралась из постели, – наш сенник уже проваливался, и его следовало наполнить свежей соломой, но я все время откладывала эту работу, потому что молодым очень трудно днем думать о вечере, – как услышала крики, доносившиеся со стороны замка. Впрочем, может быть, именно этот шум и вырвал меня из сна, я не помню. Мои братья тоже не спали, и потому мы выбежали в темноту, ведомые безгрешным детским любопытством, и забрались на окружавший деревню забор под сенью вяза. Конечно, нам было известно, что нельзя покидать поселение тайно и во мраке ночи, когда плодятся нечестивые дела и мысли. Однако всегда существовали лазы, доски, вырванные осенними вихрями, и сваи, подмытые весенней распутицей, так что всякие лоботрясы, пусть даже из достойнейших семей, выбирались под благотворным покровом ночи из деревни, чтобы хотя бы на пару часов освободиться от тягот жизни просветленных, встретиться с братьями или родственниками, изгнанными за вероотступничество, купить у наемных пастухов ворованную шерсть или, наконец, соединить свою плоть с плотью шальной женщины. У нас, детей, конечно, тоже были свои пути и способы выскользнуть из-под бдительной опеки матерей и соседок.
Я объясняю, что мы с братьями выбрали лаз между ветвями вяза, который, как вы, синьор, правильно заметили, в долинах называют деревом ведьм. Но то дерево, конечно же, не взросло из зерен ереси или колдовства, потому что было оно настолько старым, что корнями уходило во времена более древние, нежели те, когда ваши святые прибыли в наши горы; хотя, возможно, преклонный возраст этого дерева сделал его свидетелем некого тайного преступления, раз падре Фелипе с первых дней своего пребывания в нашей деревне воспылал к нему великой ненавистью и заточил уже топор, чтобы его срубить, пока в один прекрасный солнечный день, прямо перед вашим, милостивый синьор, прибытием, дерево не рухнуло со страшным треском, к великому ужасу всех, смертельно ранив трех слуг герцога, чем, как говорят, подтвердило свою отвратительную натуру. Однако во времена моей юности вяз все еще казался крепким, хотя в стволе имел обширное дупло, выстланное чрезвычайно мягкой трухой, где во время дождя можно было укрыться вместе с личинками, слепыми жуками и муравьями. В ту ночь, однако, нам и в голову не приходило прятаться. Мы с невероятной скоростью стали карабкаться по ветвям. Помню, я остановилась только на вершине ограды – по приказу короля Эфраима деревню защищал в то время только укрепленный забор, местами переходивший в каменную стену – наследие прежних и более опасных времен. Когда я уселась на край, меня внезапно поразил и привел в трепет разительный контраст между бессонным муравейником лагеря комедиантов и безжалостной ночной неподвижностью нашего селения, где все окна молчали гневно закрытыми ставнями, а двери не уронили ни капли света. Затем, не задумываясь, вся наша троица с предательским наслаждением скатилась к рою факелов и толпе озлобленных фигур. И когда мы были уже внизу, до нас донеслись их слова, и мы поняли, что дракон – о ужас! – дракон освободился и сбежал из лагеря.
Нет, синьор, я отрицаю, что именно мать толкнула нас на эту ночную выходку, опоив заранее тайными настоями и заклинаниями, ибо, как я уже призналась, она дала нам только смешанный с молоком настой, приготовленный из мака. Каждая хозяйка из четырех деревень Интестини, включая Мафальду и ее двоюродных сестер Теклу, Гиту, Нуччию и Эвталию, смогут такое заварить, даже если они изображают теперь перед вами святош, будто сами никогда не обстригали умершему волос и ногтей и не закапывали их под порогом дома, дабы удача мертвеца не уходила вместе с ним в могилу. В страхе перед трибуналом они отпороли с платьев символы света и не покрывают больше голов белоснежными платками просветленных, чтобы не отличаться от обычных, не введенных в ересь селянок. Они делают вид, что никогда не благословляли хлеб символом света, представляющий собой заостренный ромб, как пламя, обращенный тонким концом к солнцу, ибо каждый свет тяготеет к большему свету, и не выдавливают его ногтем на коже новорожденного ребенка. Ни одна из этих услужливых доносчиц не признается, что хранит первую месячную кровь дочери, чтобы в день ее бракосочетания добавить жениху в напиток и побудить его к пламенной любви, которая никогда не закончится, ибо так же, как женщина принимает в себя семя мужа, так и он принимает в себя плодородную кровь жены. И не обижайтесь, любезный синьор, кто знает, чем вас самих опоили, когда вы не ожидали предательства. Так может, вместо того, чтобы мучить вопросами старую женщину, которая действительно не сделала ничего плохого и не имеет никакого отношения к гибели вашего собрата, вам стоит присмотреться к этим лицемерным ханжам, которые с удовольствием разграбят имущество своих соседей-еретиков и подкинут вам имена очередных подозреваемых, при этом в действительности просто сводя с ними свои счеты.
Да, синьор, мне сказали, что вас привела в Интестини только смерть брата Рикельмо, которого замучили в кощунственном ритуале, и что вы покинете нас без промедления, как только мы укажем вам на того из числа своих, кто причинил ему смерть. Но сдается мне, вы охотно прислушиваетесь, когда кто-то стремится наполнить ваши уши жалобой на просветленных, и вскоре каждая соседская вражда, каждая стычка из-за выпаса овец на общинном пастбище и распределения сена или даже каждая ссора у водопоя будет разрешаться перед вашим трибуналом, лишь для отвода глаз облаченная в одежду великого зла и пропитанная запахом ереси. Ибо вы, не будучи жителями этих мест, подобны слепым щенкам, что раскрывают пасти в поисках сытного молока, пока поят вас предательством и насмешками. И я готова поклясться хлебом, вином и мясом, что все сказанное вам обо мне – ложь, что не знаю я никаких колдовских штучек и не ходила по ночам на высокие поляны под видом сбора трав, потому что сплю каменным сном, тяжелым от забот и трудов, и никто из тех, кто сегодня лает и плюет на мое имя, не позаботился о том, чтобы мне стало легче.
Все изложенное является правдой, произнесенной под присягой женщиной, именующей себя Ла Веккья, и было зачитано в ее присутствии и подтверждено ею, что слова были записаны в точности. Рекомая заявила, что признание свое сделала не из зависти или злости, но в полном согласии с правдой во благо своей души. Произнеся клятву хранить в тайне свои собственные слова и вопросы трибунала, она пообещала блюсти ее.
Поскольку же сама она остается неграмотной, Аббандонато ди Сан-Челесте, епископ трибунала, засвидетельствовал вместо нее собственной рукой.
V
В субботу, в шестнадцатый день сего месяца, в праздник Святого Калогера, мученика, искупившего наши грехи своими муками и убитого демонопоклонниками, в четыре часа утра, женщина, известная как Ла Веккья, по ее собственным словам, родом из деревни Чинабро в приходе Сангреале, рожденная от неизвестного отца и, по ее утверждению, от местной женщины, по приказу сего трибунала была схвачена и за различные вины заключена в тюрьму на попечение мастера Манко. Была допрошена в присутствии доктора Аббандонато ди Сан-Челесте, задававшего ей вопросы в соответствии с данным ему предписанием, инквизиторов Унги ди Варано и Сарто ди Серафиоре, и свидетелей: падре Фелипе, пресвитера церкви оного прихода, и падре Леоне, исповедника и духовного наставника наместника Его Святейшества, а также падре Лапо, проповедника оного наместника, людей благочестивых и сведущих в законах.
При ней были обнаружены две рубашки, плащ, кошель, один гульден и три сольдо, а также спрятанное под порогом ожерелье и два кольца большой ценности, украшенные знаками, которые были переданы названному инквизитору Аббандонато ди Сан-Челесте. Доктор Аббандонато ди Сан-Челесте, епископ сего трибунала, приказал привести заключенную из камеры в тайный зал трибунала. Упав на колени, плача и бия себя в грудь, в присутствии инквизиторов Унги ди Варано и Сарто ди Серафиоре, а также свидетелей: падре Фелипе, пресвитера церкви оного прихода, и падре Леоне, она ответствовала, что не совершила никакого преступления, а под обвинение была подведена ложным свидетельством, сделанным завистниками, которые из несправедливой ненависти настроили против нее всех соседей.
Если вы непременно хотите знать, синьор, кто нас вытащил из кровати и подбил на эту сумасшедшую погоню, ответствую, что это был мой брат Сальво, который в те времена не носил еще своих первых мальчишеских штанишек и шляпы, но своей удалью превзошел старших и имел в себе особенный разум, достойный мошенника или монаха, и заметьте при этом, как часто один становится другим. Впрочем, кто знает, может быть, Сальво действительно бродит сейчас по чужим странам, проводя фальшивые мессы и совершая таинства, не способные никого защитить от зла и лишь ведущие все новые души к погибели? Иногда я представляю его в чине субдиакона беседующим на рыночных площадях с плетельщиками корзин, погонщиками овец и птичниками о несчастьях сего мира и бесстыдстве сытых купцов, приходских священников и сельских старост, чья совесть обросла навозом, а животы – салом, и разящим словом всех сильных и дерзких. И нет, не корите меня, синьор, ибо я не в силах понять, чем он хуже других монахов – тех, что восседают на жирных мулах и мулицах, так как сами уже не могут нести свои грехи. Облачение не превращает человека в монаха и ни в чем не меняет его природы, ибо даже ваших святых создали путем совокупления, и самого патриарха тоже. Нет, не заставляйте меня молчать, я знаю свое и не забуду, пусть даже вы зашьете мне губы и вырвете язык. Каждый ребенок скажет вам, что вам следовало бы вместо еретиков сжечь патриарха, потому что он забирает десятину у паствы, чтобы отливать статуи из золота, а не раздавать подаяние бедным. Мой брат Сальво, ловкий и безупречный в словах, быстро бы уговорил вас сделать это, как в ту ночь, много лет назад, он убедил нас, что нам по силам выследить дракона.
Признаюсь также перед досточтимым трибуналом, что дорогу выбрал для нас старший из моих братьев, Вироне, который уже тогда успел исходить вдоль и поперек холмы вокруг Интестини с их ручьями, ямами в корнях поваленных пиний, буреломом, скалами, источниками, звериными логовами и водопоями. Так и было, синьор, и вы, мои обвинители, скрывающие лица под капюшонами и боящиеся проронить хоть слово, дабы я не узнала ваших голосов и не наложила на вас проклятия – проклятия старой женщины, под взглядом которой мутнеют зеркала, а грудные дети заходятся смертным плачем. Нет, не отступайте от испуга, я только насмехаюсь над вами. У меня нет силы творить зло, во всяком случае, не больше, чем у любого другого человека, в чем вы должны убедиться, уже прожив добрую минуту на свете.
Уверяю вас, досточтимый синьор, что вы ошибаетесь, обвиняя меня во всем, что произошло, поскольку я всегда была только сестрой своих братьев, в чем признаюсь не из ложной скромности и не из страха перед казнью, хотя, клянусь всеми святыми – святым Калогером, что познал огонь, и святой Фортунатой, что обнаружила в горах дракона и привела его на веревке под нож мясника, – я желала бы, чтобы было по-другому, я хотела бы значить больше, но всегда была скудна умом и робка сердцем. Сердце едва не выпрыгнуло у меня из груди в ту ночь, когда Вироне вел нас через чащу и мрак. Мы пробирались сквозь колючие ветви все выше, хихикая, чтоб взбодрить друг друга и придать смелости. В воздухе кружили сладковатые запахи, и Вироне – а он уже тогда мог безошибочно распознать больного ягненка и травами вернуть ему здоровье, поэтому старшие пастухи нанимали его, чтобы он находил для них потерявшихся животных, и никогда, пусть даже ему приходилось идти три дня без устали, не возвращался он без заблудшей овцы – так вот, мой брат Вироне сказал, что запах приведет нас к дракону, и не ошибся.
Ответствую далее, что мы поднялись очень высоко по склону. Все огни погасли у нас за спиной, и луна в ту ночь светила не во всю силу, и мы, конечно, пропустили бы дракона, если бы он не пошевелился над нами на тропинке, протоптанной зверьем, ходившим утолять жажду вниз к ручью. Уже в те времена там водились волки, и пастухи жаловались, что похищали они только самых дородных овец, приносивших белоснежных ягнят и дававших больше всего шерсти. Но почему-то нам тогда не пришло в голову, что мы поднимаемся по волчьей тропе, и мы ничуть не боялись до того момента, пока над нами на ветке не шевельнулся дракон. Как я и сказала, если бы он не дрогнул, мы бы прошли мимо него, ничего не заметив: даже Вироне был еще маленьким мальчиком и никогда прежде не выслеживал дракона, и прошло еще немало времени, прежде чем он научится выслеживать более страшную и матерую дичь. Что вы так вздрагиваете, синьор, когда я вспоминаю своего брата Вироне? Я знаю, что вы не привыкли к звучанию его имени, но я хорошая сестра; и не думайте, что я отрекусь от своих братьев из-за ваших пыточных игрушек, скрученных из дерева, металла и веревки.
Но раз вы спрашиваете о драконе, ответствую, что он пошевелился, словно подавая нам знак. Теперь мне кажется, что, пока мы выслеживали его, он сам охотился на нас и устроил эту встречу в безымянном месте, куда я вас не приведу, даже если вы сломаете мне каждую косточку, потому что я не смогу его найти. Помню, это был загон, один из многих, заросший молодой буковой порослью, что в наши дни успела вырасти в величественные деревья, и густым кустарником, который первым проникает на заброшенные поля. Может, надо было уже тогда задуматься, откуда это нашествие малины, терна и боярышника и почему эта ощетинившаяся шипами армия движется к Интестини, но тогда я не задавалась подобными вопросами, как и вы не выясните теперь, отчего сегодня уже никто не пасет овец на горных лугах возле Индиче, а поля зерновых сжались до узкого кольца вокруг деревни, и кажется, достаточно просто посильнее стукнуть, и оно расколется, словно изношенное медное обручальное кольцо, что в день бракосочетания муж надевает жене в знак совместного странствия к свету. Иногда я думаю, что весь наш мир – это такое кольцо, которое, подобно возделываемым полям вокруг Интестини, сжимается, уступая место пустоши. Ибо свет гаснет, милостивый синьор. Каждый свет когда-нибудь выгорает, и я понимаю, что его конец пришелся на наше поколение, поэтому я терпеливо отвечаю на ваши вопросы. Я делаю это не из страха пыток, а потому, что вы – ручей тьмы, через который нужно тем или иным способом переправиться, что каждый пытается сделать по своей совести и разумению.
Как я уже сказала, в ту ночь тоже царила тьма, поэтому я не сразу узнала дракона, и когда он прыгнул на нас, мне удалось лишь оттолкнуть братьев. Я оттолкнула их куда-то далеко во тьму, потому что так поступают сестры, старшие сестры, которые мудры, вдумчивы и полны беспокойства. Мои братья, синьор, покатились по склону мягко и безвольно, как два мешка, разбивая ветки и раздвигая папоротники, и в тот же миг дракон опрокинул меня в лесные травы. Он вовсе не был тяжелым, с него уже отпала большая часть ярмарочных украшений, навешенных комедиантами, дабы придать ему грозный и величественный вид. Нет, он не причинил мне вреда. Он спрыгнул мягко, как кошка, но поскольку я кричала и дергалась под его лапами, ему пришлось придерживать меня крылом, перепончатым, с единственным когтем, как у нетопыря, только более острым и превосходящим по длине детскую ладонь. Закинув крыло на шею, он мог без труда порвать мне артерию, по которой кровь течет прямо из сердца. Однако он этого не сделал. Он склонил голову надо мной, и я увидела, что под редкой шерстью блестит гладкая оливковая чешуя, словно перед смертью он решил сбросить с себя запах ярмарочного балагана, алые ленты, пучки перьев и соломенные метелки. И я вдруг поняла, что он старый, очень старый. Вероятно, мой брат Вироне понял это раньше, раз он привел нас на склон горы, именуемой Сеполькро[7], куда уходят умирающие животные, что подтвердит вам любой пастух, козовод и погонщик мулов. Да, синьор, если их не привязать достаточно крепко, старые животные срываются с веревки, сбегают из загона или конюшни, чтобы прыгнуть в смерть с обрыва Сеполькро. Если вы встанете там, то увидите внизу, среди скал, сотни скелетов животных. Некоторые из них довольно свежие, только что очищенные от мяса птицами, другие явно лежали там очень долго, истлели и рассыпались в камни.
Подтверждаю, что пока я лежала под лапами дракона, чувствуя на себе его мягкий живот, скользкий и холодный, как листья окопника по утрам, я верила, что он непременно собирается меня убить. Почему бы ему этого не сделать? Ведь я сидела с другими в шатре, где его травили, кололи и били хлыстом, что, если вдуматься, доставляет и вам удовольствие, когда вы так же стоите в молитвенном сосредоточении в этом освященном месте. Но больше всего я думала о своих братьях, о том, что они в безопасности, скрыты где-то во тьме. И я подумала, пусть дракон убьет меня так быстро, чтобы Вироне и Сальво не успели прийти на помощь, а они, конечно, пытались это сделать, ибо, когда ты рождаешься ребенком деревенской распутницы, лишенной наследства и изгнанной с семейного двора, и когда таких детей только трое во всей деревне, нет иного выхода, как держаться вместе и каждому жить в двух остальных. Потому я подумала, что мне нужно что-то сделать, причем очень быстро. Тогда я схватила голову дракона и потянула ее вниз, чтобы его взгляд упал на меня; дракон не должен был заметить моих братьев, если они вернутся на волчью тропу.
Ответствую, синьор, что вопреки тому, что написано в ваших книгах, глаза дракона не золотистого цвета и не отлиты из жидкого огня. Они коричневые и морщинистые, как кожа старика, а внутри скрывается черный вертикальный зрачок, мутный и раздувающийся от гнева.
Я также ответствую, что дракон смотрел и качал головой, как гадюка. И почувствовала, как по шее потекла кровь. Посмотрите, синьор, а также и вы, безымянные грифы в капюшонах, явившиеся посмеяться над моим несчастьем, вот мой шрам, след от когтя дракона, который вы не найдете ни у одной другой женщины или мужчины; хотя я вижу по вам, что вы не верите мне и думаете, что я столкнулась в лучшем случае с одним из этих странных существ, что привозят на кораблях с дальних островов Востока и водят по деревням. Однако мои соседи – если бы их не ослепила ненависть и страх за своих овец, коз, дочерей и мулов – подтвердили бы, что в ту ночь на Сеполькро был дракон. И этот дракон смотрел на меня так пристально, словно хотел рассмотреть насквозь, а потом слизывал кровь с моей шеи и груди. Язык у него был шершавый, как у козла, раздвоенный и такой пронзительно-холодный, что я начала кричать. Я попыталась взять себя в руки, но губы сами собой раскрылись для крика, и тут дракон приблизился ко мне вплотную и просунул язык между моих губ. От него пахло мятой и зеленью, которую жуют старики, заглушая могильный запах, уже исходящий из их внутренностей. Он просунул язык так глубоко, как только смог, и вдохнул в меня свое дыхание, а потом замер. Он вдруг склонился надо мной и обмяк, а в его глазах уже не было жизни.
Подтверждаю, синьор, так оно и было, и вы прекрасно слышали, что дракон в момент своей смерти стоял надо мной, а потом опустился на меня, как будто с последним вздохом утратил весь вес. Кто знает, может, действительно так произошло и осталась только пустая оболочка кожи, которая уже потеряла зеленовато-золотой оттенок, а более походила на бурую, потрескавшуюся от жары землю и только на шее все еще отсвечивала жабьей, травянистой зеленью. Мгновение горло еще дергалось, будто дракон глотал свой последний вздох, и едва я успела выползти из-под него, увидела, что из боков у него торчат стрелы, добрая дюжина стрел, и из-под них сочится кровь. Я хотела убежать, хотела оказаться как можно дальше, но сразу и непонятно откуда появился чернобородый укротитель животных. Он схватил меня за плечо, а за ним шла толпа пастухов, крестьян и даже богобоязненных мужчин из нашей деревни, все с факелами и вооруженные луками, топорами и длинными ножами. Они мчались так, что камни разлетались у них из-под сабо, и кричали так громко, что я даже не знаю, почему я раньше их не услышала. Я попыталась вырваться из рук чернобородого, но он крепко держал меня, а когда те оказались совсем близко, развернул меня к ним, всю покрытую кровью чудовища, в одной рубашке, разорвавшейся во время восхождения и позже, когда я боролась с драконом. Он дал другим знак остановиться и воскликнул: «Дева нашла дракона и привела его к нам, чтобы мы убили его!» – что, конечно же, было неправдой.
Если вы изволите об этом спросить, я подтверждаю, что – как я уже сказала – в то время я уже знала легенду о святой Фортунате, чистейшей из девственниц, потому что, хотя просветленные и не нуждаются в святых, указывающих путь к спасению, их дети, как и все другие, прислушиваются к историям торговцев, пастухов и батраков. Потому я знала, что дракон, очень злобный обитатель лесных болот, опустошал город, где жила Фортуната. Он затягивал в топь всех, кто пытался выследить его и умертвить, но святая нашла его дремавшим на солнце над лесным озером; когда же она произнесла над ним молитву, чудовище и вовсе стало нежным и послушным, как пес, и исполненным раскаяния за свои прежние деяния. Затем святая привела укрощенного монстра под ворота города, где толпа подмастерьев и иного люда немедленно и без лишних слов забила его камнями, так что я действительно не знаю, какая мораль следует из этой истории. Но поверьте, милостивый синьор, лежа под драконом на каменистом склоне Сеполькро, я не была святой Фортунатой и не пыталась подражать ей, а с того момента, как дракон засунул в меня свой язык и передал свое дыхание, я больше не чувствовала себя чистой.
Я подтверждаю, что мужчины подходили по очереди к дракону, осматривали его раны, обнимали друг друга, смеялись и похвалялись, что именно их стрела лишила его жизни, когда вдруг, синьор, среди всей этой суматохи и веселья первая женская кровь потекла у меня по бедрам, и мне было никак не скрыть ее и не заслонить, потому что – как я вам ранее сказала – укротитель животных сжимал меня так крепко, как будто это я была тем драконом, за которым он отправился в погоню. Он не дал мне уйти даже тогда, когда мужчины развели огонь и распластали тушу, отрубили голову, отметив на его лбу знак света, словно она принадлежала ягненку. Потом они его освежевали. Внутренности и жир они бросали в огонь, веселясь при этом и попивая крепкие напитки, принесенные в баклажках на спине, а чернобородый заставлял меня стоять среди них и вливал мне в горло красное вино, хотя я пыталась защищаться и сжимала губы.
Я также подтверждаю, что мясо дракона шипело на решетке, такой же, как и та, на которой запекли святого Калогера, потому что, как бы вы ни вздрагивали и ни закатывали глаза, в наших горах с тех пор мало что изменилось и человеческая жестокость тоже ничуть не ослабла. Хотя, может, вы напрасно приписываете моим землякам идолопоклонство и склонность к дьявольскому искушению, ибо, по сути, поджаривая над пламенем мясо дракона, они вовсе не обязаны были думать о мученике Калогере – просветленные не забивают себе голову вашими окровавленными святыми; вероятно, двигали ими исключительно экономия и крестьянская практичность; и к тому же именно подобным образом готовят у нас овец, поросят, кроликов и охотничью дичь: разделывают и пекут на решетках, так удобно разбросанных по горным склонам и оставшихся как воспоминание о тех временах, когда жили здесь псоглавцы. Кроме того, если бы дракон, которого я встретила на склоне Сеполькро, жил в той туманной глубине времен, откуда при первой же возможности вы извлекаете святого Калогера, чтобы размахивать им перед нами, словно боевой хоругвью, был бы его злейшим врагом, потому что, не забывайте, что этот святой бродил по горам, убивая монстров, пока, наконец, сам не стал одним из них и не был так же убит.
Ответствую далее, что мужчины плясали вокруг огня, распевая нечестивые песни, которые они никогда не осмелились бы пропеть при своих женах или матерях, а голова дракона тем временем сушилась на шесте, и в его мертвых глазах отражалось пламя. Но нет, синьор, никто не поклонялся чудовищу и не произносил богохульных молитв. Я не видела ни книг, ни заклинаний, начерченных дымом в воздухе. Никто не вызывал демонов, не осквернял образ Создателя и его святых и не предавался наслаждениям, противным природе. Все веселились, потому что дракон был мертв и, в сущности, он был всего лишь старым животным, искавшим место, чтобы умереть, а ночь вокруг парила теплом, пахли травы, растоптанные в дикой пляске – ведь вы наверняка знаете, синьор, что травы испускают самый сильный аромат, когда на них наступают, – в огонь залетали большие мотыльки, чтобы умереть бесшумной смертью, и было выпито очень много вина. А потом кто-то из охотников – я помню, что это был бродячий пастух из одной из наших самых именитых семей, что каждый год во время приготовления сыра пас стадо на общинных лугах, – сорвал с шеста голову дракона и, держа ее перед собой, приблизился ко мне. У него был влажный, измазанный жиром от драконьего мяса рот и вздутый от сытости живот. Его спутники швырнули меня на землю, в смятые травы, и брали меня по очереди, заслоняя лица мордой дракона, хотя они не могли укрыться за ним, и я узнавала каждого из них. Как вы сами понимаете, много лет назад на склоне Сеполькро было осквернено мое тело, но не сокрушайтесь обо мне лицемерно, ибо гораздо сильнее вы оскверняете теперь мою душу своими обвинениями. И знайте, ничто не сможет скрыть подлость, скрывается ли она за головой чудовища или под капюшоном сего почтенного трибунала. Однажды я узнала своих мучителей, а теперь я также знаю имена обвинителей и тех злодеев, которых вы назвали защитниками этого процесса. Напрасно они натягивают сегодня на лица капюшоны предателей. Они не смогут стереть из моей памяти погоню за драконом, потому что именно в ту ночь я и мои братья стали теми, кем мы являемся сегодня.
Поскольку рекомая женщина утверждала, что ей нечего больше добавить, и умоляла о милосердии и освобождении, ей разъяснили, что трибунал не имеет обыкновения задерживать кого-либо без достаточных оснований и подозрений в деяниях, речениях или же соучастии в делах, противных Всевышнему и противных законам, устанавливаемым и провозглашаемым нашим святым орденом. Потому ей следует уразуметь, что схвачена она была на основании неких сведений. Засим увещевали ее именем Господа нашего, а также именами Его великих и блаженных мучеников, чтобы она все досконально вспомнила и признала свою вину, не утаивая ничего, что касалось бы и ее, и нашего брата Рикельмо, и сделала это немедленно, без лжесвидетельства против кого-либо. И ежели она так поступит, то процесс сей пройдет добросовестно и завершится в кратчайшие сроки и с милосердием, которое трибунал проявляет ко всем, дающим показания добровольно. В противном случае да свершится правосудие.
По прочтении сих показаний женщина подтвердила, что они соответствуют истине и сделаны добровольно, не из злости или желания навредить кому-либо. Тайну, согласно присяге, она обещала сохранить, после чего была отведена в тюрьму.
Поскольку же сама она остается неграмотной, доктор Аббандонато ди Сан-Челесте, епископ трибунала, засвидетельствовал вместо нее собственной рукой.
VI
В деревне Чинабро в приходе Сангреале, в тайном зале трибунала, в субботу, в шестнадцатый день сего месяца, в праздник Святого Калогера, мученика, доктор Аббандонато ди Сан-Челесте, председатель трибунала правосудия, присутствовавший на утреннем слушании, приказал вновь привести к нему из тюрьмы рекомую Ла Веккья, что и было сделано, и она предстала перед судом. В присутствии инквизиторов Унги ди Варано и Сарто ди Серафиоре, а также свидетелей: падре Фелипе, пресвитера церкви оного прихода, и падре Леоне, исповедника и духовного наставника наместника Его Сиятельства, а также падре Лапо, проповедника оного наместника, рекомая была расспрошена, помнит ли она еще что-либо, связанное с нашим братом Рикельмо, что ей надлежит раскрыть во всей полноте истины ради очищения своей души.
Ответствую, что нет, я не помню, как утром очутилась в деревне, потому не стану объяснять вам, провожали меня или я вернулась одна. Но не верьте горбуну Амаури, что брешет, будто в ту ночь я впервые явилась ведьмой, ибо не прошло и года, как каждый из тех, кто тронул меня на склоне Сеполькро, умер. Это неправда, они сами ускорили свою смерть, соединив свои тела с моим и влив в меня семя в месте, отмеченном смертью; ибо знайте, синьор, женщина в акте любви вбирает в себя частицу силы мужчины, чтобы вспыхнуть новым светом, но где она обретает, там теряет он. Нет, синьор, в ту ночь я не зачала. Их жизнь канула в бесплодную землю Сеполькро и сгинула, как в могиле, а следом и они сами начали чахнуть и высыхать. Но вы не усмотрите здесь никаких моих заклинаний или ненависти, ведь, соединяясь со мной, они были сдержанны и не выказывали злобы. Потому поверьте, в то утро я не желала им смерти; мной овладело болезненное оцепенение, и я отрицаю, отрицаю снова и снова, что я якобы способствовала их смерти, так как ни тогда, ни позднее я не занималась колдовством, хотя и совершала, признаюсь, много иных вещей, которые не найдут одобрения в ваших глазах. Но я верю, что вы привели меня сюда не для того, чтобы я рассказывала о борделях или портовых рынках, где каждое чудо и каждый рассказ безумца можно обменять на горсть медных монет. Признаюсь только, что я и правда встречала людей, уверявших, будто владеют заклинаниями, дающими им силу противостоять железу и смерти, и, если ударить их мечом, кожа останется целой, словно их стегнули веткой орешника. Помню множество людей, утверждавших, будто в их распоряжении находится столь мощная книга, что, если бросить ее в огонь вместе с куском пергамента, на котором начертано имя Всевышнего либо образ святого Калогеро, святой Фортунаты и всех других всемогущих святых, в давние времена странствовавших по миру, эта книга останется невредимой, тогда как имена и лики святых сгорят дотла. Знавала я и шарлатанов, носивших на шее обрывки пергамента с начертанными словами, дающими удачу в картежной игре или помогающими уйти безнаказанно из-под власти суда, даже столь могущественного, как ваш, но я не знаю, упомянуты в них имена святых или демонов, потому что никогда не занималась подобными штуками и, как все подтвердят, никогда не пыталась писать буквы и какие-либо иные тайные знаки. Я умею отмерять муку и считать куриные яйца, а также знаю, когда наступает пора вязать овец и пора делать сыр, но не приписывайте мне никаких других знаний.
Хорошо, раз вы настаиваете на том, чтобы я отвечала только на заданные вопросы, я объясняю, что утром, по возвращении с горы Сеполькро, я не нашла в комнате своей матери, но это не вызвало моего удивления, так как она имела обыкновение вставать до рассвета и отводить мулов к Индиче. Однако, как вы уже выяснили, ей не суждено было туда добраться, и прежде чем солнце поднялось над крышей замка, ее принесли домой на двух жердях, обтянутых грязной холстиной; и поверьте мне, она заслужила чего-то большего, ведь несмотря на свои грехи она всю жизнь тяжело работала, чтобы нас прокормить, и никому не сделала ничего плохого без причины и, вопреки подлым обвинениям этой потаскухи Гиты и ее кумушек Нуччии, Эвталии и Теклы, не уступающих друг другу в своем паскудстве, моя мать не была ведьмой, не наводила порчу на скот нечестивыми словами и не держала под порогом ядовитых змей, что высасывают у коров молоко из вымени и кусают детей.
Еще раз подтверждаю, что ее принесли на грязной холстине, накрытую изношенной тряпкой и тем, что осталось от ее повседневного темного платья, обычно свежего и чистого, но в то утро оказавшегося перепачканным в придорожной грязи и навозе. Мне тогда сказали, что мулы, испугавшись запаха смерти, сорвались и, пытаясь порвать веревку, волокли ее тело, пока не появились вермилиане и не подняли ее из придорожной пыли. Как странно, подумала я тогда, что гнусный убийца, кем бы он ни был, тратил время на привязывание мулов к дереву, но не забрал их с собой, хотя убийство часто идет рука об руку с грабежом. И еще добавлю, что неправда, будто бы мать, как утверждает сейчас Мафальда, сама привязала мулов, сойдя под покровом ночи с тропинки ради встречи с любовником.
Ответствую, что, когда мою мать положили на стол, я увидела, что ее голова полностью отделена от тела; с вытаращенными глазами она лежала на груди покойницы, где, собственно, не должна была находиться. Я полагаю, что потребовалось много усилий, чтобы отрезать ее, потому что, хотя любая шея сломится под железом палача, человеческие кости не так легко поддаются простому ножу. На лбу у нее виднелся знак света, вырезанный кончиком клинка и слегка затертый пылью и сгустившейся кровью, но все же отчетливый. Когда холстина была полностью откинута, я увидела, что живот моей матери распорот и из него извлечены все внутренности, так что он напоминал пустую розоватую скорлупу. Да, синьор, кто-то старательно выпотрошил из нее всю жизнь, и мы так и не нашли часть ее останков, хотя мы с моими братьями много раз прошли по тропе, ведущей к Индиче, в поисках каких-либо следов, отпечатков ее ног или кусочков ее тела, но, как вы правильно заметили, хищные птицы и дикие животные, конечно, нас опередили.
Ответствую далее, что трактирщик Одорико, который впустил этих шестерых вермилиан с их печальной ношей в комнату, поспешил снова прикрыть покойную тряпкой, тщательно подобрав ее края. Он приказал мужчинам молчать, из чего я делаю вывод, что даже если не они убили мою мать своими руками, то наверняка знали, кто причинил ей смерть, а значит, могли сделать нечто большее, чем возложить руки мне на лоб в знак благословения со словами, что свет успокоит мою утрату. Понимаете, это был обычный добрый жест утешения, в котором не отказывают в наших краях сиротам. Но когда они по очереди прикасались ко мне шершавыми, теплыми и успокаивающими руками, я осознала, что все они – все те шесть человек, вошедшие утром в наш дом с трупом матери, а также трактирщик Одорико – были ночью на склоне Сеполькро и трогали меня совершенно иным образом, но тогда я не осмелилась об этом упомянуть, потому что в сравнении с мертвой матерью все остальное казалось несущественным и незначительным. Кроме того, меня быстро отослали во двор, потому что я стала женщиной, а зрелая женщина не должна оставаться под одной крышей с мужчиной, не являвшимся ее братом, мужем, кузеном или кумом. Затем двое из них отправились за старухами и женами, и когда их привезли, дом наполнился шумом и суетой, как никогда раньше. Жены вермилиан, до сих пор не переступавшие наш порог и ускорявшие шаг, когда на общинной дороге встречали мою мать, ведущую на веревке своих мулов, теперь разожгли огонь и принесли свежеотбеленное полотно, чтобы прикрыть ее и перевязать самые ужасающие раны. Одна из старших просветленных нежно взяла меня за руку, подвела к кадке, наполнила ее чистой водой и помогла мне обмыться, потому что я все еще была покрыта драконьей слизью. Она сделала это без единого слова, и теперь мне интересно, действительно ли она считала, что я была перепачкана только кровью моей мертвой матери. Но когда она заметила, что я истекаю кровью, как взрослая женщина, она протянула мне тряпку и показала, что я должна сделать, чтобы позаботиться о себе и не пачкать одежду. Она помогла мне также надеть чистое платье и причесаться, чтобы скрыть следы всего, что произошло ночью, а тем временем ее соседки делали то же с моей матерью, со всей серьезностью и спокойствием, как будто она встретила обычную смерть. Никто со мной не говорил и ни о чем не спрашивал. Меня оттеснили в угол, чтобы я не мешала обрядам, и я стояла там, не говоря ни слова, глядя на них и думая о драконе, потому что он оплел нас своей смертью и из нее уже невозможно было выпутаться.
Далее ее вразумляли именем Всевышнего и милосердием Его, призывая хорошо поразмыслить и поведать всю правду, после чего отвели ее в тюрьму.
Записано и засвидетельствовано доктором Аббандонато ди Сан-Челесте, епископом трибунала.
VII
В деревне Чинабро в приходе Сангреале, в тайном зале трибунала, в среду двадцатого дня сего месяца, в праздник Святого Сервидио, мученика со скалы Акулео, доктор Аббандонато ди Сан-Челесте, председатель трибунала, присутствовавший на утреннем слушании, приказал привести к нему из тюрьмы женщину, именуемую Ла Веккья, что и было сделано, и она предстала перед судом. Далее ее спрашивали в присутствии братьев, сведущих в законах, и свидетелей, помнит ли она что-либо еще по данному делу, что ей надлежит раскрыть, следуя принесенной клятве.
Я отрицаю, что мои братья были в то утро в комнате. Также неправда, что это именно они перед рассветом нашли мертвую мать в месте встречи, которую она им назначила, намереваясь вывезти их из деревни Киноварь, пока наши кумовья и соседи смотрели выступления комедиантов, приглашенных только с той целью, чтобы все честные жители, способные ее остановить, оказались в тот день в стороне от дорог. Я понимаю, достойнейший синьор, что вам наговорили безбожной чуши, которой с удовольствием угощают здесь приезжих, а вы твердо в нее поверили, так как вы предпочитаете видеть в своем несчастном собрате Рикельмо скорее праведного мученика, который – как некогда святой Калогер – пролил кровь за веру и ради спасения своей души, нежели обычного нерасторопного и слишком любопытного монаха, который умер без явной причины и смысла. Обогнала вас слава трибунала, который вы имеете честь представлять, и, зная, чего от вас ожидать, мои соседи принялись варить для вас вкусную ложь задолго до того, как вы въехали под тень Интестини. Зная, что от просветленных вы ожидаете только самого худшего, они накидали в тот котел много всяких нелепостей: святого Калогера и безобразные колдовские штучки, сына графа Дезидерио, чудом спасшегося после побоища, и его пропавших наследников и, наконец, темные, как ночь, грехи, безмерную любовь и великое предательство. Да, это правда, что моя мать умерла в ту же ночь, когда привела нас в шатер бродячего цирка, чтобы показать дракона. И все же она умерла обычной селянкой, разве что более смелой и менее добродетельной, нежели другие; теперь же, обращаясь памятью в глубь времени, я все больше опасаюсь, что это старейшины казнили ее за бесстыдство, приказав выпотрошить ее, как животное, прежде чем она разродится очередным ублюдком, как это случалось уже трижды.
Да, синьор, я с полной уверенностью отрицаю, что моя мать собиралась ночью сбежать из нашей деревни вместе со своими сыновьями, а уловка эта, устроенная не без согласия пристава, провалилась по той лишь причине, что я, движимая любопытством, улизнула с нашего двора, чтобы в шатре увидеть дракона, а затем поняла, что меня оставили на погибель. Нет, это неправда, что мать якобы положила моих братьев в две корзины, притороченные к спине мула, и, не имея возможности спасти всех троих своих детей, выбрала сыновей, которых она зачала от другого отца и любила больше жизни, в то время как я была обычным бастардом, незаконной дочерью бродячего котельщика, зачатой в придорожной пыли из множества лживых слов.
Что же касается котельщика, который, как вы говорите, якобы был моим родителем, ответствую, что я никогда, что бы вам сейчас ни говорили, не видела этого человека с почерневшей рожей, так отвратительно вонявшего гарью, что родиться от него могла лишь ведьма и предательница, пославшая собственную мать на смерть. Я слышала, что кое-кто клялся перед трибуналом, что тот котельщик носил в котомке книги, исписанные странными знаками, и за серебряную монету он очерчивал вокруг капусты, гороха и пастернака настолько сильные круги, что не могли их преодолеть ни улитки, ни тли, ни полевые мыши. И я верю, что чем дольше вы, синьор, будете расспрашивать и дознаваться, тем больше узнаете о моем безымянном отце, о котором сама я не слышала ни единого слова и от которого ничего не получила в наследство, кроме того беспокойного света, что горит у меня в груди. Тем не менее я уверена, что вам нагло врут, желая обнаружить мою вину в давнем грехе отца, и без тени смущения измышляют слова, что он якобы произносил, понося настоятелей, епископов и самого патриарха, смело заявляя в трактире, что они-то, мол, и есть те самые три черта, правящие нашим миром, а с ними граф, герцог и патриарх. Почему вы верите лжесвидетелям, после стольких лет уверенно заявляющим, что мой отец не появлялся в храме во время богослужения, но носил в мешочке на шее удивительный камень с отверстием, который, как он хвастался, подарила ему святая Бенедикта, явившись в чудесном видении во время мольбы у ее гроба? Почему вы слушаете эту старую корову Мафальду, утверждающую, что он открыл ей чудесное свойство камня, на который упала капля мученической крови святой Бенедикты и прожгла его насквозь, и, дескать, если под молодой луной поднести его к глазу, то можно узреть, что кому на роду написано? Зачем врут эти мерзкие негодяи о том, что мой отец якобы проснулся после той ночи, когда соблазнил мою мать и посеял в ней свое семя, посмотрел на нее сквозь чудесный камень и, испугавшись того, что уже шевелилось в ее утробе, поспешно скрылся, оставив ее в неведении, что она брошена, но уже беременна? Откуда им об этом знать? И не слишком ли много мы узнаем спустя столько лет об одном несчастном котельщике, которого, к тому же, никогда не существовало?
Поверьте, досточтимый синьор, вы слышите много подобного вздора, потому что прошлое похоже на тесто, которое каждый замешивает и печет на свой вкус из того, что у него есть под рукой. Однако признаюсь, что на следующий день после похорон матери сам пристав действительно явился к нам в дом. Он присел на стул у очага, где любила сидеть наша родительница, когда у нее было желание и свободное время отдохнуть, а это случалось нечасто, ибо была она женщиной беспокойной и быстрой в движениях. Пристав выглядел невозмутимым и поглядывал на стол с остатками угощения. По обычаю просветленных, мы устроили его для женщин, что помогли подготовить мать к могиле. Я испекла хлеб, который оказался тверже и тяжелее стали, а Вироне убил двух кур, но ни одна из соседок так и не появилась, и мы не без облегчения съели все сами. Давно у нас не было таких восхитительно полных животов. Мы напились пива, что нашли в сарае в кувшине – до сих пор понятия не имею, откуда оно могло там взяться, – и маслеными глазками смотрели на нашего доброго пристава, с которым прежде не обменялись ни единым словом, потому что он не удостаивал таких маленьких бастардов, как мы, разговором. Мы не понимали, что может означать его неожиданный визит, и даже не задумывались над этим, потому что в ту ночь, когда появился дракон, наш мир необратимо сошел со своей колеи, как это случается порой с колесом; целая повозка опрокидывается тогда даже на самой ровной дороге, а груз – брюква, мешки с мукой, овечьи шкуры или бараньи туши – отправляется в канаву или, что еще хуже, в руки нищих бродяг, что постоянно сидят в засаде в придорожной густой траве, дожидаясь именно таких случаев. Поэтому, синьор, мы не знали совершенно, чего ожидать, потому что пристав сначала долго вздыхал и сопел, как будто у него что-то очень тяжелое лежало на животе, а потом сказал, что мать была слугой Интестини в день своей смерти, поэтому в награду за ее труды и для искупления своей души граф Дезидерио одарит нас своей милостью. Именно так он и сказал: одарит нас своей милостью, но не объяснил, что это значит.
Однако я утверждаю, что это, безусловно, был наш благородный пристав, и никто другой, и уж тем более не сам граф Дезидерио. Я знаю, вам было сказано, что синьор граф якобы тайно прибыл в нашу деревню и, под шерстяным плащом скрыв свое траурное одеяние, которое, как известно, он не снимал с момента смерти своих сыновей, в одежде простого пастуха вошел в нашу комнату. Но скажите сами, как жители деревни Киноварь могли узнать графа, хоть переодетого, хоть с открытым лицом, если они никогда раньше не видели его, так как он не удостаивал нас своим присутствием? К тому же наш добрый синьор Дезидерио в те времена уже был стариком, слишком слабым для путешествия через горы и полностью раздавленным горем, обрушившимся на его род, к которому вы, монахи в сандалиях, также имеете отношение; ибо разве не вы подстрекали его сыновей не прятаться в крепости и укрепленных деревнях, как на протяжении веков принято было поступать перед лицом любого вторжения, а оказать сопротивление королю Эфраиму, когда тот, словно ему было мало собственных деревень, городов, рыбных прудов, плодородных полей и лесных угодий, объявил себя нашим герцогом и повелителем?
Ответствую, что в детстве я уже знала о войне, которая началась с королем Эфраимом, которого вы называете тираном и узурпатором, ибо дети, даже самые маленькие, растущие в мирской жизни, испытывают те же несчастья и страхи, что и старшие, более разумные люди. Я не знала, в чем я признаюсь охотно и без лишнего побуждения, причины обиды, какую он питал к нашему герцогу и патриарху, хотя я помню, как шептались наши старейшины в храме, что у вас, почитателей святых, принято друг друга признавать еретиками и лжецами, а это, признаюсь, безмерно удивляет меня: если Бог един, то почему существует так много разновидностей ереси? Однако, милостивый синьор, чтобы вам ни говорили в низинах, просветленные не помогали королю Эфраиму и не указывали пути его лазутчикам, когда он продвигался горными перевалами вниз, в более населенные и зажиточные земли. Зачем нам это делать, если, как вы знаете, у нас есть свои книги и мы соблюдаем истину, содержащуюся в них, и как вы считаете нас еретиками, так и мы считаем вас безбожниками и идолопоклонниками? Да, мы с радостью восприняли новость, что король Эфраим жестоко преследует монахов, причем всех в равной мере: и тех, кто в башмаках, и тех, кто носит сандалии, и, наконец, тех, кто ходит босиком, – ибо ваши собратья с давних пор подстрекали свою паству против просветленных, и мы боялись, что однажды мы станем жертвами их ненависти, что – как сами видите – и произошло ныне. Но мы не верили, что король Эфраим окажется для нас лучше герцога, и не ожидали от него никаких милостей, хотя я соглашусь с вами без принуждения, что в других вопросах мы уже не были столь единодушны.
Подтверждаю, что из-за короля Эфраима возникла среди просветленных великая смута, но – как вы сами знаете – это произошло до моего рождения или вскоре после него; ваши же лихие законники тоже не выросли еще в те времена из детских сорочек; по этой причине я не принимала в тех событиях участия и поведала вам только то, что я услышала от других, потому их и вините за все неточности и ложь. Ибо если вы хотите узнать правду о тех временах, то вам следует обратиться к кому-нибудь из старейшин, если только все они не испустили дух в тайных застенках вашего трибунала. Они доподлинно рассказали бы вам, как в то лето сыновья восстали против отцов и встали рука об руку с сыновьями графа Дезидерио, преградив на реке Тимори[8] дорогу войску короля Эфраима. Почему они так поступили? Вы должны знать, что сыновья графа, как и прежде их предки, любили охотиться в наших горах; когда же они забредали слишком далеко в погоне за медведем или волком, они устраивались на отдых в замке. В отличие от людей из долин, они не проявляли к просветленным презрения, хотя я признаю, что ими мог двигать расчет, ибо источником богатства и влияния их рода в значительной мере был вермилион, добываемый нами в поте лица, и, возможно, дружба, возникшая много веков назад между просветленными и их родом. Они охотно приходили к горным кострам и помогли найти не одну потерянную овцу, ибо по-настоящему великие властители отличаются от простолюдинов настолько, что могут общаться с ними без опаски и без ущерба для своего достоинства. Что тут скрывать, мать не одной из нынешних девок, оговоривших меня перед вами, тайком покидала родной двор, чтобы хоть через дыру в заборе поглядеть, как молодые графы смеются у костра и меряются силой со стражниками. И будьте уверены, юбки на них горели от совсем не безгрешного желания, потому что все трое, как говорят, имели темные волосы, голубые глаза и улыбку, разбивавшую женские сердца и открывавшую ночью двери в девичьи чуланы. А самым смелым из них был младший графский сын – тот, кого звали Корво, Вороном, и которого мой брат Вироне позже объявил своим отцом.
Ответствую далее, что, как мне говорили, старейшины с самого начала опасались, что чрезмерное панибратство нашей молодежи с графскими сыновьями принесет горькие плоды, и это оказалось правдой в темный час Тимори, когда погибли все трое наследников графа Дезидерио, а вместе с ними молодежь из четырех деревень Интестини. Я могу только сказать, что их жертва кажется мне напрасной, ибо наша земля не благоволит к чужакам, и рано или поздно пожирает их с той же неизбежностью, с какой высохшая земля пьет весенний дождь, так что лучше бы они послушались своих отцов и остались в домах. Ибо посмотрите сами, король Эфраим мертв, и ни следа не осталось от его могущества. Кое-где среди пастухов вы встретите остатки его людей, так как, признаюсь, они имеют особую легкость в обращении с животными. Говорят, они уже взяли себе жен из числа местных женщин, и все они – подданные герцога, хотя, казалось бы, совсем недавно граф Дезидерио преклонял колени перед королем Эфраимом и клялся вечно служить, не смея даже упоминать о своих сыновьях. Вы сами видите, милостивый синьор, как недолго длится в наших горах вечность и как скоро увядают клятвы вельмож. И едва король Эфраим испустил дух, тут же объявились наши храбрые господа, и даже сам герцог выскочил, как лягушка из-под листа, хотя прежде никто и не думал потрудиться ради нашей защиты, зато он с великим проворством отправился в изгнание, бросив земли и доверявших ему людей.
Нет, не затыкайте мне рот и не удивляйтесь, что женщина с дерзостью рассуждает о ратном труде и тяготах, хотя та страшная война закончилась. Потому оставим дела, которые кажутся вам неприличными в женских устах, и снова отправимся в дом трактирщика Одорико, где прошли мои ранние годы и куда привезли мою мертвую мать. Еще раз подтверждаю, что пристав навестил нас вечером после ее похорон; он был со своим слугой, который, впрочем, остался стоять при мулах и не видел ни дом, ни моих братьев. Этот слуга ничем не напоминал графа Дезидерио; клянусь Всевышним, что руки у него были испачканы навозом и не было у него на пальцах графских колец! Он шел пешком, когда мои братья уезжали вместе с приставом, обещавшим дать им пропитание и приучить их к какому-нибудь честному ремеслу, о чем я могла только слушать, потому что никто не спрашивал моего мнения. Впрочем, я не осмелилась бы что-либо высказать о той милости, которую оказал нам человек такого ранга, важности и достоинства. Удивляло меня, правда, что он сам приехал на постоялый двор, вместо того чтобы поручить слуге привести сирот в замок, как принято делать с потерявшейся свиньей или ослом, сорвавшимся с привязи; а ведь мои братья в те времена стоили гораздо меньше животного, что безропотно выполняет работу и используется даже против своей воли. Нет, мне не было сказано, куда они едут и кто будет их опекуном, но было очевидно, что они покидают Интестини надолго, в то время как мне предстоит остаться здесь и быть в услужении у Одорико, хотя пристав назначил нового человека вместо моей матери погонять мулов и возить породу в поселок прокаженных.
Ответствую, что едва на дороге улеглась пыль после моих братьев, трактирщик появился в моей сиротской комнате и принялся выгребать с полок и ящиков горшки, платья и утварь, которые хотя и не относятся к этой истории, однако были собственностью моей матери и всем приданым, что она могла мне оставить. Пристав с высокомерным пренебрежением не уделил им ни капли внимания, но прежде чем день подошел к концу, меня ограбили полностью, не пожалели даже двух глиняных чаш, в которых высыхали объедки после поминок. Трактирщик вывел из клети нашу козу и загнал кур в собственный курятник, подавив мои протесты несколькими крепкими затрещинами. Горничная выносила в фартуке нашу фасоль, лук, бобы и пастернак, а жена Одорико достала из сундука платье матери, ее фартук, чепец, чулки и, насмехаясь над изношенностью полотна и штопкой, скреплявшей протертые места, использовала по своему усмотрению; наконец, она приказала батракам разжечь костер, чтобы пламя уничтожило, как она выразилась, любой след распутства моей матери.
Подтверждаю, что в трактире тогда служили два батрака. Старшим из них был лысый Лука, который в молодые годы бродил с овечьими стадами, однако, в отличие от многих других пастухов, он не нажил имущества, семья же отреклась от него, потому что в путешествиях он сбился с пути света, привык к вашим святым и несколько раз в год отправлялся в города, чтобы принять участие в богослужениях. Младшего, по имени Пьетро, обычно называли хромым, потому что, когда он еще лежал в колыбели, дикая собака пробралась в хижину и, прежде чем испуганная мать смогла прогнать ее, неудачно схватила ребенка за ножку, вывернула ее в бедре и размозжила. У Пьетро не получалось ходить так ловко, как это делают другие, потому он только лениво перекатывался с ноги на ногу, но для службы в местной таверне вполне подходил, возможно даже лучше, чем остальные; Одорико платил ему меньше, а понукал больше, чем любым здоровым батраком. Именно эти два негодяя разожгли перед домом костер и сожгли остатки нашего имущества, в перерыве между этой тяжкой работой взбадривая себя терпким терновым вином, что нашли в тайнике стены козьего загона и забрали в качестве своей доли в общем грабеже. Так продолжалось до вечера, потому что жена Одорико, будучи жадной стервой, велела прочесать всю комнату и проверить ножом даже щели в досках. Верьте, синьор, они выволокли из курятника каждую горсть навоза, перепахали огород, не щадя моркови и пастернака, выколупали камни из фундамента, расковыряли порог и очаг, но не нашли ничего, кроме камней, сажи и личинок. И подло лгут те, кто сует вам под нос горстку безделушек, якобы найденных в дымоходе моей хижины, утверждая, что мать получила их от любовника в знак любви и предстоящей свадьбы, о чем якобы свидетельствует украшающий кольцо знак дракона и графское золото ожерелья. Поверьте мне, я их в глаза не видела, пока вы не выложили их из мешка на этот стол. Если бы у моей матери были какие-то тайные драгоценности, Одорико с женой вытащили бы их даже из-под погребального савана. И нет, я бы не смогла их скрыть. За мной так пристально наблюдали, что в течение нескольких недель после похорон, пока не убедились, что я ничего не утаиваю, даже облегчаться мне приходилось при трактирщице, а та продолжала так пристально меня рассматривать, будто я на ее глазах должна была превратиться в осла, срущего золотом, что, как известно, бывает только в сказках.
Ответствую, что в течение последующих лет я ничего не слышала о своих братьях. Они не присылали мне весточки ни через родню, потому что родни у нас не было, ни через погонщиков скота, ни через пастухов. Наконец я перестала высматривать их и бегать к воротам деревни, когда разносилась весть о каком-нибудь страннике, впрочем, в те времена их было немного, и никто не принес мне слов утешения. Тем не менее я видела пристава четыре раза в год, когда он приезжал, чтобы забрать вермилион. Слуги из стражи вьючили мулов, а он ждал у колодца, не слезая с коня, но не принимал, как когда-то, угощения, приготовленные женами вермилиан специально к его приезду.
Ответствую, синьор, что не знаю точно, в чем была причина гримас пристава, но мне кажется, что после смерти дракона что-то сломалось в Интестини, хотя, возможно, это произошло и раньше, после бойни на Тимори. Я не могу сказать вам, синьор, что это было, ибо, клянусь Всевышним, пристав больше ни словом не обмолвился со мной и не подал мне никакого тайного знака. Впоследствии он приходил за вермилионом, и сам вид его седых волос и изможденной, сутулой фигуры убеждал меня, что мои братья живы и здоровы. Я верила, что если бы было иначе, то ничто не помешало бы ему сказать мне это, что – как вы знаете – оказалось не так. И вот однажды ветреной весной наш пристав умер смертью вермилианина, харкая кровью и каменной пылью, что рано или поздно наполняет легкие тех, кто спускается вглубь Интестини. Сам он, правда, никогда не спускался, но болезнь примирила его напоследок с просветленными, ибо, несмотря на все невзгоды, мы разделяли одну судьбу, и теперь своей смертью он, как хлебом, поделился с нами. Старейшины посетили его в замке незадолго до смерти, чтобы привести на путь света. Он принял их без гнева, но остался при своих святых, которые тут же подвели его, отплатив за верность внезапной смертью. К рассвету он был уже мертв, о чем возвестил колокол на башне, и знайте, что в него били крайне редко – чтобы возвестить о пожарах, приезде сыновей или о смерти, а в более близкие вам времена – о нападении рапинатори[9], о которых вы, без сомнения, слышали слишком много.
Признаюсь, тогда, после смерти старого пристава, мы были полны страхов, ведь наша округа все еще принадлежала королю Эфраиму, и никто не знал, что будет дальше. Моя судьба, будьте в этом уверены, мгновенно ухудшилась. Едва утих погребальный звон, Одорико понял, что я потеряла последнего в Интестини заступника и покровителя. Без промедления он выгнал меня из лачуги, которую я занимала с двумя работницами, которых он нанимал каждое лето для помощи с покосом и сбором урожая. Он загнал меня в каморку, примыкающую к стене свинарника, и назначил на самые грязные работы, которым противились Пьетро и Лука. Кроме того, он приходил ко мне по ночам, торчал под стенами и стучал в дверь, так что каждый вечер мне приходилось закладывать ее кормушкой для свиней и вдобавок подпирать жердью. Иногда она опрокидывалась под натиском его туши, производя дикий грохот, и тогда просыпалась жена Одорико и громко обзывала меня мразью и ублюжьим семенем, обвиняя меня в подлой неблагодарности – в ответ на щедрый хлеб, полученный от благодетелей, я раскачиваю бедрами перед ее мужем, достойнейшим человеком, которого только пьяный дурман привел под дверь моей каморки. Теперь я думаю, что мне действительно следовало задирать юбку повыше, когда я отмывала ноги от навоза у колодца – а уборка в хлеву тоже входила в мои обязанности, – или тереться об этого старого борова грудями, когда мы встречались в тесном проходе к каморке. Возможно, это изменило бы мою судьбу к лучшему.
Поверьте, синьор, у меня было множество возможностей соединиться с Одорико, трактирщиком, тем более что и я успела познать его тело, и он помнил запах моей крови, которая текла для него и для других на Сеполькро. Я думаю, просветленные вряд ли упрекнули бы меня в грехе прелюбодеяния, так как, уверенные, что я уродилась в свою мать, не ожидали от меня ничего иного – дурная трава вырастает из тонкого корня. Но тогда я была совсем молода, и вздутый, поросший черным волосом живот, выпирающий из-под расстегнутого кафтана, вызывал у меня отвращение. Мне было противно его обрюзгшее лицо и плечи, терявшие уже прежнюю стать. Я помню, что при жизни моей матери он был крепким мужчиной, но потом достаток и избыток вина размягчили его, как дождь размывает глину, и меня потянуло на молодых длинноногих пастухов. Они останавливались иногда в местной таверне и, дабы сэкономить несколько медяков, спали по трое в одной кровати, а позже, перед рассветом, мылись у колодца за постоялым двором, обнажая стройные и гибкие от трудов тела, которые без рубах и грубых порток выглядели ослепительно. Никто из них не видел дракона и не преследовал меня в ту ночь на склоне Сеполькро, но, кроме пригоршней сладких слов и нескольких поспешных поцелуев, от них не осталось ничего, достойного воспоминания. Наконец наступила та ночь, когда похоть одолела Одорико сильнее, чем прежде, и дверь отступила. Вероятно, это Пьетро или Лука, всегда готовые содействовать замыслам хозяина и рассчитывавшие при случае получить что-то для себя, подпилили доски, чего я в вечерней спешке не смогла разглядеть. Независимо от того, сделали они это или нет, моя каморка оказалась доступной, в отличие от меня самой, о чем вы, должно быть, уже слышали.
Признаюсь, что я убила Одорико, трактирщика, и сделала это его собственным ножом, когда он с неуклюжестью пьяницы пытался выбраться из штанов, уверяя меня страстно, с какой для меня пользой и к какому безмерному моему блаженству прочистит мне дымоход. По правде, следовало ему это сделать гораздо раньше; он похвалялся бесстыдно, что вылечит меня от ублюжьего гнева, прыщей на коже и дурного настроения, чему причиной, как известно, является неудовлетворенная похоть, с юных лет испепеляющая всех блудниц. Слова продолжали литься из него, когда я перерезала ему горло, чего он совершенно не ожидал, ибо, как часто бывает, полагал, что единственная преграда – это дверь, а не мое согласие. Да, я убила его довольно ловко, ведь он не так сильно отличался от свиней и телят, которых держали в таверне для нужд стражи. Затем, все еще обрызганная кровью, я отправилась в замок, где в ту пору распоряжался новый хозяин – сын прежнего пристава, мужчина средних лет, о котором не без насмешки говорили в деревне, что он медлителен в словах и делах. Когда же я выкрикнула под стеной свое имя и причину, по которой пришла, он очень поспешно приказал отворить ворота и впустил меня внутрь.
Нет, синьор, я не знаю, почему он так поступил. Я не стала расспрашивать его о причинах милосердия, достаточно было, что он их проявил. Помнится, что на нем был голубой кафтан, криво застегнутый. Из-под него торчал неприлично изношенный подол рубашки, что напомнило мне, что не одна рубашка успела протереться на спинах моих братьев за эти четыре года, с тех пор, как старый пристав их забрал, оставив меня у Одорико, как будто треснувший горшок, которой не стоит скреплять проволокой. И, видимо, все это время что-то внутри меня вскипало, чтобы наконец выплеснуться несчастному приставу прямо в лицо. Но неправда, что я якобы околдовала его взглядом и заставила проявить ко мне милосердие. Я стояла перед ним и кричала, что я дитя Интестини, рожденное из крови дракона, потому что моя мать служила графу как вермилианка, ходила к Индиче, ощущая близость вермилиона, а он ведь является не чем иным, как порождением чудовищ, что владели этой округой до того, как сюда пришли святые; и кто знает, не пробудятся ли драконы снова, если мы уйдем достаточно глубоко под землю, ведь по собственной воле мы создаем для них удобные переходы и коридоры, и, возможно, именно об этом вам стоит задуматься, мой добрый синьор, вместо того чтобы выкладывать передо мной все эти кусачки, винты и железные прутья, которые – как вы, наверное, уже успели догадаться – не новы для моего измученного тела и, по правде говоря, на вкус не столь терпки, как в молодости.
Да, синьор, подтверждаю, я кричала тогда, что все они – пристав, стражники, старейшины и вермилиане – должны вместо моей матери лежать на склоне Сеполькро среди костей мертвых коз и баранов. «Зря вы не убили и меня, – кричала я, а кровь стекала у меня по рубахе, потому что Одорико, неуклюжий как при жизни, так и после смерти, рухнул на меня всем весом откормленной туши и осквернил смертельными соками, – и пусть не думают, что я забуду дракона, что видела в ночь убийства; я ничего не забуду и ничего не прощу; и когда-нибудь я найду способ, чтобы им отплатить, о да, потому что они отрыжка на лице земли».
Так я сказала.
Далее она заявила, что уже поведала всю правду, еще раз опровергла все обвинения и, заклиная самыми святыми именами, умоляла освободить ее.
Прочитанное признание она подтвердила как истинное, сделанное по собственной воле и без злого умысла против кого бы то ни было.
Поскольку же сама она остается неграмотной, доктор Аббандонато ди Сан-Челесте, епископ трибунала, поставил подпись вместо нее собственной рукой.
Записано и засвидетельствовано мной, доктором Аббандонато ди Сан-Челесте, епископом сего трибунала.
VIII
В деревне Чинабро в приходе Сангреале, в тайном зале трибунала, в воскресенье одиннадцатого дня июня месяца, в праздник Святого Пелегрино, смиренного странника, что покорил дальние острова Востока, кои мы зовем Сиамунтера, Андалас и Нусантара, и открыл их для нас силой своей веры, доктор Аббандонато ди Сан-Челесте приказал во время утреннего слушания привести из тюрьмы женщину, именуемую Ла Веккья, что и было сделано, и она предстала перед судом. В ответ на вопрос в присутствии инквизиторов Унги ди Варано и Сарто ди Серафиоре, а также свидетелей: падре Фелипе, пресвитера церкви оного прихода, и падре Леоне, исповедника и духовного наставника Его Сиятельства наместника, а также падре Лапо, проповедника оного наместника, помнит ли она еще что-либо, что согласно принесенной присяге должна открыть, женщина утверждала, что ей нечего больше добавить и она не помнит ничего, кроме поведанной прежде правды. Затем ее показания были зачитаны ей, и она снова подтвердила, что записаны они были верно и точно. Ее продолжали увещевать и настоятельно призывать вспомнить все, что касается рассматриваемого дела, но она отказалась и не произнесла ни слова.
Потом ее вновь увещевали именем Создателя и его свидетелей и вновь уговаривали очиститься от всех угрызений, как и подобает честной и набожной женщине, дабы сей процесс мог быть завершен без излишних хлопот и промедления, ибо в противном случае ее ждет смертный приговор.
Предъявлены ей были также и зачитаны обвинения, против нее выдвинутые, записанные и клятвенно подтвержденные, признанные полностью достоверными и достаточными для признания ее виновной во многих преступлениях и достойной самой суровой кары, предусмотренной священными законами, буллами и общим правом сего герцогства, во устрашение и назидание для других.
В довершение всего ей пригрозили, что, ежели потребуется, она может подвергнуться суровой пытке, которая будет продлеваться и повторяться до тех пор, пока она не сознается во всех своих преступлениях и проступках.
Ответствую, что молодой пристав дал мне кошель, наполненный серебром, размером с ладонь, а потом велел сесть на толстого мула и больше никогда не возвращаться. Так он и сказал: «Больше никогда не возвращайся!» – но я осознала его слова, только когда уже сидела в седле; вдруг вся злоба и страх спали с меня, как с зернышка спадает плева. Я ослабла и чуть не упала на землю, и тогда один из стражников придержал меня, но тут же убрал руки, как после прикосновения к чему-то нечистому; впрочем, сейчас я думаю, что это был скорее испуг, ведь мои крики не остались без внимания, а на моей одежде и волосах все еще оставалась засохшая кровь Одорико.
Поясню также, что о молодом приставе я мало что могу сообщить, ибо он вырос далеко от Интестини, в одном из замков графа Дезидерио, и с младых ногтей пропитался придворными привычками. Старый пристав мог во время сенокоса сам схватить косу и просто так, для удовольствия, встать в ряд вместе с другими косарями и укладывать сноп за снопом, не уступая ни в чем ни крестьянам, ни вермилианам, также имевшим свои семейные наделы на склонах долины и охотно выращивавшим там пшеницу и овес. Он плясал вокруг осенних костров, когда собирали с полей остатки репы и пастернака, и по местному обычаю пил молодое вино, подставляя рот прямо под отверстие бочки. Однако его сын, по-видимому, уродился в мать или же служба в Интестини была для него тягостной мукой, и потому он держался особняком и назначал более строгие наказания, чем отец, имевший тоже не легкую руку, но поступавший по-человечески. При жизни старого пристава просветленные проявляли больше смелости, а при его сыне молчаливо опускали взгляд, что, впрочем, в ночь смерти Одорико сыграло мне на руку. Никто из стражников, даже седой Серво, являвшийся правой рукой старого синьора, не осмелился сказать ни слова, хотя наверняка предчувствовал, что запоздалое милосердие еще аукнется его хозяину и как стрела войдет под кожу. Ведь молодой пристав избежал сего трибунала только благодаря тому, что вскоре кабан повредил ему ногу. Несмотря на старания хирурга, немедленно прибывшего из замка графа Дезидерио, он умирал в муках, гнил заживо и проклинал себя и остальных, но разве же мог он предвидеть, что вы потрепали бы его не хуже кабана. Переломали бы ему все косточки, лишь бы вытряхнуть из него тайны, доверенные ему отцом на смертном одре; сам же он тайны эти мог бы передать разве что жирным червям в могиле, так как не дождался он появления сына, что, как наверняка вам уже сообщили Мафальда и прочие старые курицы – Гита, Нуччия, Эвталия и Текла, доказывает его вину.
Подтверждаю, что в ту ночь молодой пристав на свою и чужую беду и погибель отпустил убийцу и помог ей затеряться в местах столь многолюдных, что своего не отличишь там от чужого, а злодея от праведника; но верно также и то, что кроме мула, плаща и кошеля я не получила от него иной помощи. Он не сказал мне доброго слова на прощанье и не указал места, где я могла бы найти убежище. Но все ж была у него причина, не позволившая прогнать меня, как собаку; возможно, это было некое обязательство, причем, как я заметила, неприятное ему, но все же он не смел ему перечить. Помню, как он дал знак открыть южную калитку, а за ней тракт и поля расстилались безмерной, пугающей чернотой. Я вдруг поняла, что не знаю, куда ехать, и с детской наивностью спросила у пристава, в какую сторону бежать. Он сухо рассмеялся и ответил: «Езжай на запад!» – после чего накинул мне на спину собственный плащ, хлопнул коня по крупу и отослал меня в темноту.
Поэтому я отрицаю, что держала на молодого пристава обиду, ведь из жителей деревни он один не имел никакого отношения к произошедшему на склоне Сеполькро, потому что он в тот момент пребывал рядом с графом Дезидерио и его не было в наших краях. В ночь смерти Одорико, спасаясь от неминуемой казни на Ла Голе, я решила, что он отсылает меня прямиком к братьям, и если я буду упорно ехать на запад, то найду их в каком-нибудь тайном, хорошо охраняемом месте. Именно эта мысль, синьор, помогала мне держаться в седле, подбадривала меня, и ею я утоляла жажду. К тому же, на мое счастье, мул оказался покладистым, терпеливым животным, которое само следило за тропой и находило броды у горных ручьев. Когда нужна была передышка, он останавливался для еды, водопоя и ночлега, он согревал меня ночами своим телом, пока какой-то крестьянин не отобрал его у меня вместе с седлом, когда я постучалась в его избу, прося кусок хлеба. Поначалу он казался добродушным; возможно, просто испугался плаща пристава, сшитого из красного сукна и подбитого мехом. Он дал мне миску гороха и позволил отдохнуть у очага. Но, убедившись, что я одна, украл у меня мула и прогнал меня прочь. Однако он не добрался до серебра; серебра я лишилась позднее. Его украли у меня, когда я спала в общей комнате в придорожной таверне; посему из всех даров пристава дольше и лучше всех послужил мне его плащ. Я продала его одной толстухе на ярмарке в каком-то городе. Она, конечно, подумала, что он краденый, потому торговалась яростно и в конце концов отдала мне за него горстку жалких медяков. Тогда я была уже осторожнее и спрятала монеты в ботинке.
