Профессор Гегемор
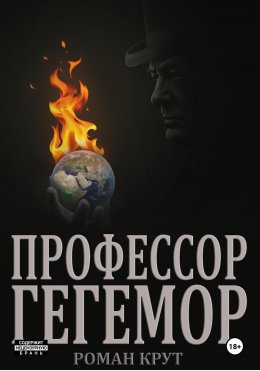
Глава 1. Госпиталь. Все началось с того, что в наш и без того переполненный госпиталь людей стало поступать все больше и больше с каждым днем. Госпиталь этот, или как мы его обитатели называем: “Пансионат для душевнобольных”, маленьким не назовешь, а если еще и пожить там какое-то время, посещая практически все, даже самые отдаленные его места, внимательно всматриваясь в постройки и архитектуру некоторых больничных корпусов, а также углубляясь в культуру и быт разных народностей там проживающих (хронически больных), то госпиталь этот может показаться бескрайним и в тоже время каким-то маленьким перенаселенным вечно хлопотным с суматошными больными хаотично снующими по нему взад и вперед, и с растущей на глазах массой бездарных главврачей и их подчиненных, утративших, или если точнее выразиться, продавших свои жалкие душонки. Нет-нет, не подумайте, что там находятся только больные пациенты, нет, – там также масса совершенно здоровых, адекватных людей, по крайней мере, они сами так считают, так им кажется, так они себя успокаивают. В нашей больнице покой сейчас это роскошь и он нам, как обитателям, так и работникам, только снится. Вот только доктор уже не тот пошел, совсем не тот, что раньше – Честный, Благородный, Добросовестный, Справедливый, Порядошный, давший клятву Гиппократа и сдержавший ее, но нет… сейчас доктор совсем не тот… – сейчас все больше по вральнику трезвонит, рассказывая как нужно жить и не болеть… Да что там доктор, вся армия была на страже мирных жителей, вся жандармерия боролась только с заядлыми преступниками, не то что сейчас издеваются над своими же пациентами… И все это, как не странно, происходит на территории нашего госпиталя, а что твориться за его стенами – это всегда оставалось загадкой. Мне сложно предположить, что же творится за пределами нашего убогого заведения, ведь я, как рядовой работник, так никогда и не покидал его пределов. Хотя сейчас все чаще показывают по вральнику (транслирующему всего лишь один агитационный канал), как местные олигвархи строят летательные аппараты и время от времени покидают территорию нашей убогой больнички, вздымаясь над ее пределами в небесные бескрайние просторы, но всё равно возвращаются обратно, тут им как мёдом намазано. Ведь здесь есть все: рестораны с разной изысканной кухней, бары, в которых разливают все вина мира, повсеместные опиумные курильни и шныряющие повсюду продавцы этого же опиума, улицы с продающими себя красавицами и красавцами, казино, где можно выбрасывать свои несметные капиталы на ветер, банки, обдирающие местную публику, даже Батикан свой тоже есть со своим Папой, как он сам себя величает, и его свитой, которая, честно вам признаюсь, настолько больна, что, как утверждает наш самый главный владелец Всея Больницы, Профессор Гегемор, или Гемор, как мы называем его за глаза: “С больнички им уж точно никогда не выбраться!”. А я слушаю его и думаю: а зачем им из неё выбираться? Ведь их и здесь совсем неплохо кормят их же почитатели, которых, как оказалось, огромное множество, готовых самозванца Папу носить на руках, да и Гегемора, честно говоря, тоже. Не зря они частенько, как утверждает один из моих постоянных клиентов, который работает поваром в столовой Батикана, – собираются на крыше, пьют, едят и о чем то тайно договариваются… Ну, да “Биг” с ними, раз народ в них так нуждается, пусть будут им на утешение. Кстати, “Биг” – это их идол, которому душевнобольных по-началу заставляли, а потом кое-где даже разубеждали, ему поклоняться: кружиться на месте с умиленными лицами и, подняв руку вверх, вырисовывать круги над головой; только и этих душевнобольных тоже разделили: одним сказали, что правая рука более эффективная, а другим – левая, также научили их мохльбе, в которой они занимаются попрошайничеством, – просят “Бига” о здравии, которое поможет им зарабатывать пиастры, которыми нужно будет делиться с Гегемором, Папой и его свитой, которая по всей территории нашего больничного комплекса отстроила несметное количество церкхковных филиалов. Так и получается, что мохлятся в небо о здравии, а в головах думы о престиже, золотых монетах и прелюбодеянии… Здравия им уж точно не видать на ряду с сегодняшними событиями, о которых я расскажу позже, а что насчёт монет, так я всегда их спрашиваю, зачем вам для этого захудалого заведения все ваши накопления? Ведь в нашем незамысловатом госпитале уж давным-давно как всё пришло в негодность, всё стало каким-то ненастоящим что ли, искусственным, неживым, всё утратило свою цену. Вселенские Человеческие, Душевные качества исчезли, люди как то было принято раньше: отзывчивые, добрые, честные, доброжелательные, благородные, любящие, интеллигентные, весёлые наконец, просто пропали, – испарились с лица Вселенной. Теперь другое время они говорят… “Время цифрового прогресса: Ди-жи-та-ли-задница” – матюг одним словом. И нет чтобы уделить больше времени энергии и тех же накопленных финансов на саморазвитие, заняться созиданием, облагораживанием себя в первую очередь, может быть даже и помочь таким же больным наконец, но нет, они продолжают из-за коврижек друг с дружкой собачиться, а ещё хуже, перед друг другом кичиться, кто же кого искуснее обдурит иль кто же под матрац побольше монет засунет, имея при этом полную пустоту внутри, заполняя её лишь радостью о наживе, прикрываясь своим идолом. И всё это произошло не так давно или это просто я не так давно живу, и не видел предыдущих распрей в нашем захудалом, но всё же мало-мальски когда-то живеньком Пансионате, в котором поменялся владелец, выторговав его у своих собратьев, банкрекетиров и олигвархов, которые были настолько стары и безмозглы, что абсолютно не знали как же его обновить, привести в годность, заставить задышать по-новому… А как по-мне, то лучше бы они вообще его не трогали, всё и так шло своим чередом, а также не влазили бы в жизнь и без того уже душевнобольных обитателей, которые с приходом нового владельца Профессора Гегемора и его новшеств вообще потеряли всякую надежду на выздоровление; но потеряв надежду, они обрели веру, которую вовремя, и главное искусно, преподнес им наш постоянный пациент “Папа Руинский”. Поговаривают, что нашли его на руинах одной из психушек, разрушенной такими же психбольными, где находился он в тяжелом душевном состоянии и жил там долгое время отшельником, голый и босый, имея при этом только две сакральные мечты: жить в роскоши, которую никто не запрещал, а также иметь вокруг себя смиренных и послушных пациентов, которые сами себя обеспечивают, не забывая естественно и о нём. И похоже, что у него всё получилось, мечта его сбылась, вернее местные главврачи, увидев в нем потенциал, помогли ему в этом, взяв на поруки и разделив паству. Поэтому так и повелось, что все обитатели, ну, или почти все, не считая парочки идиотов, к которым относится и ваш верный рассказчик, биготворят лишь двух вменяемых на их взгляд персонажей – Папу Руинского, которому предыдущий главврач поставил два диагноза: душевнобольной и патологический врун, и Профессора Гегемора. Хотя сам Гемор и его свита делают абсолютно всё, что пожелают, и которому, как я понял, с первых же минут его вступления на должность абсолютно безразличны обитатели нашей больницы, а из последних его заявлений было ясно, что госпиталь переполнен и его надо определённо проредить, желательно, раза в два, утверждал он. “Готовьтесь друзья мои!” – доносился его голос из радиолы: “Выживут лишь сильнейшие!” Но самое примечательное здесь то, что Гегемора никто никогда не видел в лицо. Он, сравнимо вездесущему рупору, который не выходя в свет, пряча своё истинное лицо, вещает на весь госпиталь, захватывая при этом даже самые отдаленные его уголки.
Да! Забыл упомянуть о том, что нашу когда-то единую (во всех смыслах этого слова) Вселенную, поверхность которой на 70% покрыта соленой водой, разделили на тысячи разных частей, приставив к каждой из них своего главврача (надсмотрщика), который держит под своим контролем вверенную ему территорию. И это, казалось бы абсолютно разные люди (близкие друзья нашего Гегемора), главврачи, врачи и их замы, затеявшие большую игру, имитируя из себя миссию (спасителей Вселенной), хотя на самом деле делают всё с точностью до наоборот… Ну, да ладно, оставим их на потом… И как сказал бы наш местный Папа Руинский: “Биг им судья!”. Хотя исходя из его психического состояния, его так называемая реликхвия – вера, наряду с происходящими событиями, вызывает сейчас большое сомнение, но не у масс, конечно же, их всегда всё устраивало, лишь только у некоторых индивидуумов, которые почему-то становятся неугодны сегодняшнему правящему больничному персоналу, да и массы, честно говоря, уже тоже криво начинают поглядывать, почесывая репу, задумываются на мгновение и снова погружаются в бессознательное – свое привычное состояние. И, как я уже сказал, после того как много-много лет назад территорию госпиталя поделили, соответственно и население сильно поменялось, принимая и подстраиваясь именно к той части куска земли, где они обитают. Вот, например, в отдаленных частях, которые были оставлены без присмотра, до сих пор бегают племена, охотятся там на мамонтов, а также лазят и живут на деревьях, не стесняясь этого. Что не скажешь о так называемой центральной части, где мы все с вами находимся, и которая не была лишена цивилизации, от этого развивалась и постепенно облагораживалась. Вот только местные в те смутные времена тогда еще царьки не всегда способствовали этому развитию, скорее даже наоборот тормозили его, не давая массам выйти за рамки им дозволенного (в развитии)… И если посмотреть внимательней на всех правящих тогда царьков, то можно с легкостью увидеть то, что они сами по себе являлись людишками недалекими, слабо образованными, ленивыми, не отличающимися здравомыслием и рассудительностью, от того то и народец вокруг них всегда им соответствовал. А там, где царствовал умный и честный царь, там всегда был порядок, успех и процветание. Поэтому можно с лёгкостью сейчас оседлать гнедую и проехаться по всем регионам нашего захудалого госпиталя и соответственно оценить ситуацию, определить для себя, где же всё таки тот Умный, Благородный, Честный и Рассудительный главврач (в наше время), и есть ли он сейчас вообще?.. Хотелось бы ещё сказать, что рассказывать я буду только о центральной части нашего Пансионата, где сам нахожусь и работаю, и о которой рассказывала мне ещё моя бабушка, будучи в добром здравии, не захватывая дальних уголков нашей больницы, – у них там свои вожди, шаманы и тараканы, как говорится, ничем не отличающиеся от нашего брата, ну, может разве что тем, что живут они в горах и лесах и бегают в том, в чем мать родила; а так как лесов становится все меньше, соответственно, и дикие племена постепенно превращаются в “цивилизованных людей” только с другими повадками и другой кожей, о цвете которой запретил высказываться Гегемор, подразумевая под этим заявлением то, “что все мы равны!” Таким вот ненавязчивым образом, все прибывающие к нам племена и отщепенцы рано или поздно попадают под власть Гегемора, тем самым чистосердечно признавая себя душевнобольными. Как же всё таки я презираю это Геморовское правление, эту систему. Сколько вреда они несут человечеству. Да, человечество это не видит и не понимает, даже наоборот: они думают, что о них кто-то беспокоится, что за их драгоценное здоровье борются главврачи и их подчиненные, даже не предполагая, что эти же лица целенаправленно, с их же на то согласия, ведут на убой. Лоботомия уже сделана посредством СМИ, осталось этот атрофированный овощ всего лишь дотянуть до кладбища, а там, на месте, он уже сам свалится в заранее подготовленную ему яму.
Более буйных переселяли в особые корпуса с охраной. В общем, все пациенты, кто представлял для главврачей какой то “интерес” или опасность, распределялись по их усмотрению. Остальными же смиренными, которые составляли большую часть нашей психлечебницы, никто не интересовался, их сомнамбульная жизнь приходилась им только на руку. Так их воспитывали с раннего детства, рассказывая истории о свободе и правах человека, но только в тех рамках, которые выгодны местным главврачам. Другими словами, выращивают капусту, чтобы постепенно в течении жизни обдирать ее до качана. В связи с этим, как на дрожжах, растет высокопоставленный врачебный персонал, который только и делает, что обдирает слой за слоем капустные листы. Ведь на самом-то деле работать никто не хочет. И чем больше лени, бездарности и безрассудства там… тем меньше ее и здесь. “Неужели остались еще слабоумные, которые верят в сказки, рассказываемые врачевателями?..” Говорила моя бабушка в последние часы ее жизни, слушая по радиоле дебаты перед выборами. Какое же все таки счастье, что она не дожила до всего того, что сейчас происходит, и что в ее памяти все таки остались жить Честь, Доблесть, Справедливость, Свобода и Индивидуализм. Якобинство – было частое слово, употребляемое ею при виде распада и разложения правящей верхушки. Она застала всего лишь начало. В наши же дни мы наблюдаем полный конец, который перевернул мир с ног на голову, где все живое стерлось и осталось то, что теперь будет называться реальным миром или “живым”, а это и есть наша всеми любимая “бескрайняя” одноцветная, однонациональная, “однорелигиозная” – психушка, в которой все смешалось, устаканилось и выстроилось в послушный, покорный ряд, в ожидании своей участи, – “В ожидании Годо”(С. Беккет), где он так и не пришел, а они все ждали и ждали… И так прошли долгие тысячелетия ожидания того, чего никогда не существовало. А мы – были! Были ли?.. Есть ли мы сейчас? Вопрос, как мне кажется, не риторический, как многие могли бы подумать. Что мы делаем для нашей общей психушки? Делаем ли что-то кроме себя, кроме своего я? Хоть что-то для больнички?.. Хоть самую малость? – Ни-че-го… Может быть что-то для ближних? Для самых близких и хорошо знакомых нам людей? От чистого сердца, безвозмездно, ничего не ожидая взамен? Единицы! На 8 миллиардов – е-ди-ни-цы. Папа Руинкий говорит, что Диабло сидит в наших головах и что мы все должны с ним бороться, изгонять из себя, а самое главное, утверждал Папа Руинский, мы должны помнить, что все мы большие грешники (больные на голову значит), и исцелению не подлежим, а значит будем тащить тяжкий булыжник греха на шее и выглядеть хмуро и понуро, как на иконах, ибо счастье, радость, осознанность и здравомыслие, а значит прелюбодеяние по их мнению – удел дьявольщины. Говорил также, что Биг живет в каждом сердце. А вот моя бабушка, отработавшая всю свою жизнь в нашей серой зоне в рентген отделении, утверждала, что всепроникающие лучи в бьющемся органе ничего кроме текучей крови не обнаружили, а вот из головы, по ее наблюдениям, во всей нашей психбольнице, вылезти никто не может, нету у больных сил перевести энергию с больной головы в здоровое, неосязаемое добро и любовь, от которой при перевозбуждении оно болит. К тому же “добропорядочные” главврачи, говорила бабушка, всячески препятствуют этому процессу смены энергии или перевоплощения, дабы не тревожить их занятые повседневной обыденностью души. Притвориться народец, конечно же, может, лицемерить тоже, а вот действовать по сердцу, как мы видим – нет. Нас не научили. Некому было учить. А я вот думаю, если бы этому учила цверкхков (филиал Батикана), учила правильно, не так как всегда, а по-совести (где ее никогда не было), то не прошло бы и недели, как всё ее вековое псевдоучение пошло бы псу под хвост, а обслуживающий её персонал остался бы бродить по улицам, пополнив ряды свободолюбцев или обленившихся “интеллектуалов”.
“От чего они такие важные?” – спрашивал я своего отца, когда мы проходили мимо позолоченных куполов и звенящих колоколов, смотря, как проходят, выпучив животы, с огромными на них крестами, бородатые Папские Попы. “О того,” – отвечал отец, – “что для того, чтобы обманывать народ, нужно быть важным. Тогда тебе поверят. Нужно убедить народ, что ты знаешь больше, чем они, и что все Вселенские тайны доступны лишь тебе, но не им – то есть не нам. Ведь само по себе учение элементарно: “Бига придумал Папа Руинский, чтобы превозносить, почитать и т.п.. А Диабло, чтобы отвАдить и запугать.” Убери одного и второй отпадет автоматически, и живи себе счастливо, независимо, свободно и непринужденно. Все проблемы исчезнут сами собой.” – я слушал тогда своего отца и думал, может быть они, эти толстопузые Попы, и в самом деле особенные?.. пока не вырос и не убедился в его правоте. Выходя из нашей серой зоны, которую непременно нужно посещать, хотя бы время от времени, хотя бы для того, чтобы почувствовать себя живым, – живым среди вычурных зданий и ровно вымощенных мостовых, среди снобов и холодного расчетливого ума, среди всего нарочитого и искусственного, среди всего того, что, к моему большому сожалению, начинает заполнять и наши серые, кодта-то полуживые, зоны. И все таки какой-то дух – дух анархизма, непослушания, свободолюбия, в тех выстраданных, серых руинах, пока еще остается, улавливается чуткому чутью чувственного пациента, который понимает все происходящее и даже не мечтает воспроизвести все утраченное, но мечтает о том, чтобы живые души живых живущих продолжали жить и творить, создавать и любить! Даже в этих условиях, которые вот-вот сотрут с лица Вселенной большую часть нашего переполненного, съехавшего с катушек санатория. А винить то будет некого… Ну, а если пройти через квартал немного подальше от наших однотипных серых коробок, где я провел все свое детство, и выйти прогуляться по старинным ухоженным узким улочкам, из окон которых слышна ненавязчиво звучащая музыка барокко, то там можно встретить чинно и благородно гуляющих парами или поодиночке людей, которые, прохаживаясь по этим милым улочкам, спешат в оперу, на балет или в театр. Там, как могло бы показаться на первый взгляд, течёт совсем другая жизнь: спокойная и умеренная, с другой ментальностью, осознанностью и “человеколюбием”, но нет… всё, что я перечислил, было присуще этим, казалось бы умиротворенным, душевно больным, лишь только до недавнего времени; но наряду с нагнетающей обстановкой все эти “человеческие” качества, привычки, “свобода”, наконец, канули в лету, пропали, испарились… Осталось лишь послушание и повиновение, которого эти регионы (в определенный промежуток времени) были лишены, в отличии от наших: в меру своей образованности, просвещенности, интеллектуальности и т.п., но ничего, как мы видим, им не помогло… Человеческий мозг слаб и покорен, в особенности, если он напуган. Поэтому на сегодняшнее время, даже слушая спокойную барочную музыку, массы постояльцев этого тихого уголка, как смиренная рота новобранцев, молчаливо шагают под дудку Гегемора, раскланиваясь покорно по сторонам таким же умиротворенным душевно больным, но уже из соседних корпусов, в которых обожают обгладывать лягушачьи лапки, выбрасывая остатки в Сену, и пялиться на высоченный кусок металлолома, возвышающийся у них на центральной площади. Есть ещё два очень важных региона, имеющих наверное самый значительный вес и уважение со стороны как своих больных, так и соседних корпусов. Правда, находятся они не совсем в центре, скорее на окраине, но все еще в пешей доступности. Один главврач обосновался на острове, построив на маленьком клочке суши, образовавшейся посреди нашего заброшенного озера, несколько пансионатов и “Биг-Бэн”, заняв этим абсолютно всю территорию. А второй – обосновался на “новой земле”, пустыне другими словами. Там вообще ничего не было кроме песков, колючек и индейцев. Не так давно этот заброшенный кусок земли застроили и облагородили, как смогли, вот только благородных людей там днем с огнем не сыщешь. Так и получается, что на сегодняшний день все варятся в одном и том же котле, с одинаковыми правилами игры, одинаковыми психическими заболеваниями и больными постояльцами, за состоянием которых непрестанно следит вездесущий Профессор Гегемор.
Глава 2. Либериус.
Автор, как мне кажется, расскажет обо мне лучше, чем я сам буду говорить о себе, хотя, как мне бы хотелось, иногда мы все таки будем меняться ролями и я тоже буду вставлять своих пять копеек, на которые когда-то можно было совершить местный телефонный звонок из уличного автомата, стоявшего на углу между корпусами. Помимо этого телефона автомата были раскиданы ещё несколько автоматов чудо техники: автомат газированной воды, пивной автомат, автомат с пепси колой и было даже несколько автоматов выдающих мороженое. Как ни странно, но мне почему-то кажется, что раньше, если не все, то очень многое, было создано для людей – для жизни. И еда была более натуральная, и отношение к пациентам, которые ценили такой подход и пытались хоть что-то сделать ради своей территории, своих палат, врачей и всей утопической идеи, которая рухнула из-за слабого и неразумного правления. И если тогда, раньше, все создавалось для жизни, для пациентов, то сейчас для кого или для чего?.. Сначала эпидемии и войны, а затем псевдо восстановление. Всё довольно ясно, как мне кажется. Всё идет через века и по кругу – по кругу крутящегося нашего Вселенского шарика, который вздыхает и расстраивается, перенося на своих плечах этот сумасшедший дом, непроизвольно выдавливая из себя катаклизмы. Система одна. План неизменен. Страдает планета от нашей лени. “Все мы разные, все индивидуальные. Одинаковых людей не бывает, а они хотят, чтобы были; делают все для этого, борются за это и добились, в конце концов, своего – мы им позволили.” – говорила моя бабушка, когда мы оставались наедине. Родители работали до поздна, а бабушка получала заслуженную пенсию, продолжая выполнять свой рабочий долг, но только на половину, приходя домой после обеда, что и служило нашему частому общению или просто молчанию, в котором мы пребывали большую часть времени, особенно по вечерам, когда она что-то штопала, слушая свой старый патефон, а я, отложив недоделанные уроки, читал. Между нами была идиллия. Мне было лет тринадцать или четырнадцать на то время, когда бабушка решила покинуть “Клинику Мечты”, уволившись из нее, предварительно написав письмо тогдашнему главврачу с просьбой освободить ее от обязанностей, которые за сорок непрерывных лет труда обессилили ее тело и разум и впоследствии заставили уйти в мир иной: тело – под землю, душа – на очередной старый виток. И так как родился я среди отделений и палат построенных без малейших архитектурных изысканий, в виде серых каменных однотипных коробок, в которых порой менялись только формы, начиная от квадрата и заканчивая прямоугольником, и все местные постояльцы носили поверх халатов однотипные верхние одежды, а детвора игралась палками, приспосабливая их ко всему, что приходило на ум, то от всего этого обозрения не могло не возникнуть чувства иронии, и в то же время это же чувство от незнания и неведения не позволяло наслаждаться прекрасным, находиться среди него, созерцая архитектуру, наслаждаясь при этом атмосферой свободы, которая всё же присутствовала, но только в других не столь отдалённых частях нашего закрытого (как выяснилось) пансионата. Всё, что создаётся вокруг человека: архитектура, музыка, живопись, литература, поэзия и т.п., в большей или меньшей степени влияют на его душевный мир, формируя внутреннюю красоту, развивая интеллект и расширяя мировоззрение. Или ты растешь среди Прекрасного, или же среди трущоб, по-другому я не хочу называть захудалый уголок нашей больницы. От этого всё местное общество и соответственно моё поколение, проживающее в той же части что и я, уже с рождения имели своего рода ментальные отклонения и в связи с ними, на сколько я могу судить, отведенную территорию нашей больницы никто не покидал, пытаясь хоть как-то, если не излечиться, то хотя бы дожить там до конца своих дней, успокаивая себя тем, что живёт в превосходном обществе единомышленников и абсолютно одинаковых по духу и развитию собратьев; хотя, как я выяснил чуть позже, по истечении ряда лет проведенных в странствиях, общество, проживающее в близлежащих регионах, через квартал или два, ничем особенным не отличалось, а может быть даже было еще более ущемлено, загнано в рамки, навеки утратив способность к правде и душевной, откровенной любви, – больше притворствуя. Да, я часто убеждался в холодном, рассудительном, отрешенном, эгоистичном, расчетливом складе ума и характере наших соседей, которые казалось бы живут в идеальных условиях для жизни, где эстетика, искуство, наука и красота архитектурных сооружений завораживает и сводит с ума, и в то же время все перечисленные мной прикрасы ни в коей мере не сформировали свободную, независимую, душевную, наполненную любовью индивидуальность, которая сама должна была созреть и шагнуть уверенно во Вселенную. Индивидуум должен родиться и созреть точно так же, как и Гений. Это индивидуальный процесс внутреннего развития – внутреннего роста. И, да, конечно, если тело и сознание (душа) рождается в прекрасной обстановке и условиях, ему соответственно легче, но только в том случае, если оно созрело уже в утробе матери, если же нет – это может быть долгий, не всегда завершенный, путь идущий по кругу. Имя Либериус я получил в роддоме, когда мои родители, выбирая между несколькими именами придуманными ими лично или подсказанными им их друзьями, не могли прийти к общему решению, поэтому решение принимал наш выдающийся хирург Гиппократ, который не чурался своей работы и делал ее с огромным удовольствием, предпочитая ее вместо душного бездушного кабинета. Он взял тогда меня на руки, посмотрел улыбающимся – мудрым взглядом и сказал: “Да будешь зваться ты, Вселенское созданье, Либериусом, сыном Кроноса и Реи!” Так мне об этом рассказывал мой отец, а я никогда не мог понять, шутит он или говорит чистую правду; но то, что всю свою сознательную жизнь, которая началась еще в раннем возрасте и продолжается по сей час, я чувствовал себя каким-то особенным, не таким как все (как и каждый взрослый, не только ребенок) – это факт; даже когда рубил дрова или работал на каменоломне, добывал уголь или просто ловил рыбу, вся эта деятельность проходила независимо от меня, не вовлекая мою созерцающую душу порой в совсем нелегкий физический труд, а также мысленные процессы, которые казались видимы моему отвлеченному сознанию, а оно в свою очередь не соприкасалось с чередой воображаемых мыслей. Тело могло трудиться до износа, до полного изнеможения, мысли клубиться, туманиться и закручиваться, а сознание (душа) в это время парило в сторонке, улыбалось никому не видимой улыбкой и наслаждалось своей текучей эфирностью, которую невозможно нагрузить никаким, даже самым невыносимым, трудом, задурманить самыми изощренными потусторонними мыслями, сознание, которое невозможно унизить и оскорбить, как бы не старались главврачи, а с ними и слаборазвитые пациенты (которых большинство) нашей общей психушке, – ничего у них не получалось. “Душа непричастна и бессмертна! Она может жить независимо от тела.” – это именно то, что говорил мой кузен Сократ перед самой смертью, которого приговорили за то, что он отверг всех Греческих, да и не только, Бигов, обязав под присмотром палачей принять лошадиную дозу яда. “Тело мое постепенно умирает. – говорил он своим ученикам, стоящим подле его ложе. – Я не чувствую уже своих ног, но внутренняя энергия жива, жива независимо от отмирающих конечностей. – ученики стояли и оплакивали его. – Не стоит плакать друзья мои. – успокаивал их Сократ: – Я уже не чувствую своего тела, но энергия как и прежде жива. Через несколько секунд я уже не смогу говорить и видеть вас, но энергия, душа или сознание будет продолжать жить – жить своей неземной жизнью. Вот и сечас, я уже не вижу и не слышу вашего рыданья, а вы не слышите меня, но эфирная энергия все также течет в этом обездвиженном, умиротворенном, окаченелом теле, которое вскоре зароют в каменистую афинскую глину, а я… – я растворюсь во Вселенной! Я уже это делаю…” Либериусу вспомнился их последний разговор, когда Сократ зашел к ним в гости прямо перед судом попрощаться, зная прекрасно о последствиях. “Здравствуй, Либериус!” – сказал он мне. Мне было тогда лет шесть или семь. Я указал ему на стул. Он отказался, но не остался на пороге и вошел в наш светлый дом. Дома никого кроме меня не оказалось. “Перед тем как я исчезну, – улыбаясь, он говорил со мной так, как описывались сказки в детских книжках. – мне хотелось бы рассказать тебе об одном противном, непослушном сером веществе, живущем в наших головах. – он улыбался и я ему в ответ. Его белоснежная тога светилась от прозрачности, как и все его светлое естество. – Не бойся смерти. – сказал он, смотря своими голубыми открытыми глазами в мои голубые детские глаза. – Серое вещество, друг мой, будет еще долго бунтовать, такова его природа, но ты не поддавайся. У него масса приверженцев и последователей, но тебе с ними не по пути. Даже после смерти оно будет кочевряжиться, не обращай на него внимания; а сейчас тебе нужно подготовить свое подсознание, которое гораздо глубже и мудрее, которое и есть – ты! твоя сущность!” – его улыбка еще сильней расплылась, а я с каждым его словом погружался в неведомую мне глубину. В доме было тихо, тепло и солнечно. С улицы доносилось пение птиц и треск цикад. Он стоял передо мной как солнце, согревающее и обнадеживающее. Я верил каждому его слову и не верил всем остальным, не понимающим его. – “Твое подсознание, сынок, поможет тебе перейти в другой портал, – я уже слабо его понимал, но слушал очень внимательно. – который напрямую связан с Космосом. – он указал указательным пальцем в потолок. – Там, макрокосм, а здесь, – он, этим же пальцем, прикоснулся к моему сердцу, пронзив грудь, – здесь – микро. Нужно развивать его и беречь, беречь от безумных масс, которыми переполнился наш бедный госпиталь. Но, возможно, я научу тебя, а ты, когда вырастешь – их. – он снова широко улыбнулся. – Поэтому развитое обнаруженное тобой подсознание или интуиция или, как многие привыкли называть, душа, действующая независимо от серого вещества, поможет тебе жить и умереть сознательно, бесстрашно, с улыбкой на лице, не хватаясь за ценности серого вещества, которых масса… у них оно называется коллективное бессознательное, и кочует без остановки из тела в тело, из ума в ум; а сознательному обнаруженное им подсознание поможет оторваться от отжившего тела и отлететь домой, в Макрокосм, чтобы снова не перерождаться и не мучаться еще и еще, снова и снова…” – пока я стоял так с открытым ртом, усваивая то, о чем говорил кузен, что даже и не заметил, как он ушел.
В последнее время меня стало посещать очень странное незнакомое мне ранее чувство, похожее на клаустрофобию. Только замкнутость пространства вызывала у меня не комната, а весь наш регион, где из окон гремела патриотическая музыка, а люди своей одинаковостью напоминали роботов или рабов, что, в принципе, одно и тоже. Ох, как же это будоражило сознание местных больных, вселяло чувство собственного достоинства, пробуждало патриотизм. Я чувствовал, что больше в него не вмещаюсь, что меня выдавливает наружу, как дрожжевое тесто из кастрюли. Мне было 20, когда в мой сон проникла Абеона, сказав, что я уже вырос и готов к путешествиям, тогда я впервые перешел через дорогу и очутился в соседнем регионе, где пахло шоколадом, кофе, сдобой и развратом. У людей на лицах вырисовывалась недоверчивая улыбка, а в глазах прослеживалась искринка осторожности и лукавства. Но, что больше всего меня удивило, это пустые души и дворы без бегающей и играющий детворы. Все смотрели на меня, как на пришельца, с осторожностью, держась обособленно. Я поинтересовался у первого встречного, где же дети, почему они не играют во дворах? Он сказал, что безопасней находиться дома. Друзья ходят друг к другу в гости. И какая же у вас в районе может быть опасность? – спросил я. Он пожал плечами, недоверчиво оглядел меня и сказал, что сам не знает, но она точно есть. И тем не менее, несмотря на ряд странностей, которые я обозреваю и по сей день, я решил всё-таки остаться здесь, лишь изредка возвращаясь в родные пенаты, чтобы пощекотать нервишки и вспомнить былое… Пациенты же в этих облагороженных регионах заметно отличались от нашего безнадежно больного брата, который тратил всю свою силу и энергию на борьбу за выживание, они же казались уверенными в себе и самодостаточными, благодаря их материальному положению, в случае потери которого, происходило помутнение рассудка, терялся смысл жизни и совершались массовые самоубийства. Им с детства была сделана прививка принудительной покорности, прижившаяся до такой степени, что даже мысли о распокоривании никого из местной публики не посещали. Это было в порядке вещей. Ну, а если говорить о себе, так мне нахождение в таком покорном мире приходилось даже по душе, так как наблюдая нескончаемое бунтарство в наших серых регионах и сравнивая его, с так называемым цивилизованным миром, идти с ними нога в ногу и в тоже время незаметно менять походку, не составляло для меня особого труда. Я знал, что чем меньше безумного, безудержного бунтарства, тем меньше хаоса, а чем меньше хаоса тем больше спокойствия и свободного времени для самого себя. Пусть маршируют так, как им удобно, а я буду идти, как удобно мне. У простого раба, работающего на плантации, больше шансов стать свободным, чем у местной публики, у него хотя бы есть мечта и он знает, что с ней делать… У этих же даже мечты нет, хотя одна все же есть, и эта мечта заключается в том, чтобы выиграть лотерею и спустить на ветер все до единого пенса, ничего при этом не делая, не создавая. И такой незамысловатой мечте подвержены, если не солгать, примерно девяносто процентов покорных, “цивилизованных” обывателей, живущих одной этой мечтой и ходящих на работу, как на каторгу. Поэтому большой разницы между рабом на плантации и ими нет. Все ненавидят место своей деятельности одинаково. И только десять процентов живут и любят свое ремесло, а если быть более точным, то исскуство, так как другого слова к роду деятельности таких людей не подобрать. И с ними, к своему глубочайшему сожалению, я встречаюсь крайне редко, можно сказать мимолетом; в меру своей занятости и профессионализма они меня не замечают среди толпы, а может быть это и к лучшему, ведь кто знает, я этого точно не знаю, быть может они такие же покорно привитые, как и те девяносто процентов, от которых я их по ошибке отделил, и общение с такими покорными людьми, пусть даже и искусства, не принесет мне особой радости и эстетического наслаждения. Все таки мы разные, а лицемерить – это не мой конек, ведь глубоко внутри, как не крути, наши сердца будут выполнять функцию диамагнетики. И как пел Омар Хайам: “И лучше одному, чем вместе с кем попало!” А энергия Космоса или Вселенной, несомненно, рано или поздно, а точнее своевременно, сведет вместе схожие, звучащие души – звенящие сердца. Записав свои мысли в блокнот, Либериус отправился спать.
В свободное от прогулок и размышлений время (благо территория у нас огромная, есть где развернуться), я выхожу на работу (ничего не поделаешь, как бы мне этого не хотелось, но нужно платить по счетам: покупать провизию и уголь для печи), где в своей небольшой повозке (вмещающей только двух персон), переделанной и усовершенствованной моим земляком (сбежавшим из захудалых серых корпусов), бывшим кузнецом, а ныне привилегированным извозчиком, извозящим изысканную, незаурядную, зазнавшуюся публику, – развожу клиентов, в основном, спешащих домой с работы, кроме которой у кое-кого из них в жизни ничего и не осталось. По выходным дням эта же публика спешит себя забавлять, бронируя места в варьете, клубах, барах и ресторанах, чтобы насытиться и забыться от повседневных хлопот, растворившись в алкогольном либо наркотическом угаре. Во время работы приходится вести бесполезные на мой взгляд беседы, стараясь всячески поддержать, развлечь, а также успокоить отчаявшегося клиента, и в основном это случается после неудачного трудного дня, а порой и отговорить от безумного поступка, который назревает и явно прочитывается в опустевших и безразличных глазах, в большинстве случаев это происходит после крупного проигрыша в казино, реже – от безысходности, которую они сами себе создают, не желая приложить ни капли усилия, чтобы выкарабкаться… Это болтание языком или пустозвонство так утомительно… Никакой нет от этого пользы, хотя!.. Всё же есть одна – и это информация. И так как я уже давно выкинул свой вральник со всеми его новостными враками и депрессивными передачами на помойку, свежая информация (не всегда достоверная), полученная от болтливых клиентов, бывает не то чтобы полезной, но всё же где-то познавательной… Часто моя повозка или двуколка служит не только транспортным средством для местной публики, она также выполняет функцию незамедлительной доставки продуктов питания, и так как я все равно курсирую между лечебницами, то местные работники порой ловят меня (как и остальных извозчиков) и просят перевезти кое-какую провизию, указывая точный адрес, тем самым оставляя при деле и при хороших чаевых. Утром везу пациентов на работу, вечером – с работы, а между тем развожу заброшенную мне в повозку провизию. Вот сегодня, например, проезжая мимо Баварской психбольницы, прямо на ходу мне забросили несколько ящиков отменных свежих сосисок и попросили перевезти в соседнюю провинцию Бордо, за углом оттуда я тоже не уехал пустой, получив из той же психушки две бочки отменного вина, изготовленного местными монками, предназначенного для страждущих Англосаксов, из-за которых мне пришлось спускаться в подземку Le Shuttle, цокая копытами по Le Manche; вторая бочка предназначалась для их соседей, умирающих от жажды Кельтов, где у клифов караулил старый седой паромщик, и в три рывка перетянув деревянный плот через мутное Ирландское море, пожелал на прощанье, затерявшейся под радужными лучами, лепреконо – кельтской удачи;
и только к вечеру я возвращался к своему отделению, и уставший, оставив лошадь у местного конюха, поднимался к себе в одноместную палату на последнем этаже, прямо под крышей. Коня своего, утратившего былую прыть, я приобрел у бывшего жокея, переименовав с Виконта на Пегас. За скакуном моим покорно-непреклонным следит местный конюх Андрюшка, имея большую ухоженную конюшню, в аккурат возведенную между несколькими корпусами; он никогда благодаря любви сердечной не жалеет для своих любимцев ни отрубей, ни овса, ни свежей колодезной воды, которая уже считалась артезианской и разливалась для продажи по бутылкам. Самое обидное из того, что я вижу среди госпитализированных, объезжая и доставляя им продовольствие, заходя в палаты и общаясь с ними, – это то, что они, проживая замкнутую слабоинтелектуальную, отрешенную, а может быть даже и обреченную на безысходность жизнь, не имеют ни малейшего желания менять, развивать и исследовать ее. Вселенная открыта! но привязанность, местечковость, надуманная “любовь к родине”, долг и обязанность, переходящие в патриотизм (играющий на руку только главврачам), несущий в себе недопонимание, разлады и распри, мешают обитателям, как серых, так и остальных регионов, посмотреть на себя со стороны: оценить, взвесить, переосмыслить и изменить мировоззрение или хотя бы понять, что ими пользуются. Но почему-то сделать это не представляется им возможным. Таков их склад ума – таков их удел.
Глава 3. Знакомство.
Сегодняшний вечер выдался дождливый и холодный. Либериус, не выпуская из рук вожжи, сжимался внутренними мышцами и слегка подергивался от колкой сырой прохлады. Публики по улицам ходило немного, лишь изредка можно было увидеть несколько пар, проходящих и жавшихся друг к другу, прикрываясь большими черными зонтами. Либериус заехал в закрытый квартал и остановился напротив старинного мало доступного в меру своей дороговизны питейного дома. Взад и вперед курсировали извозчики, вылавливая своего клиента; дорогие экипажи с позолотой или бронзой подъезжали за своими хозяевами, а сверху, сбавляя обороты, подлетал громоздкий разукрашенный мигающими разноцветными огоньками дирижабль, плавно падающий на крышу соседнего роскошного отеля в стиле Рококо с высокими и широкими арочными окнами и подтянутыми элегантными французскими балкончиками увешанными цветами (особенно красочно это смотрится весной – в пору повсеместного цветения), – где всегда было уготовано его посадочное место. Закрытый квартал, находившейся в черте центра Вселенной, был единственным местом, где свободно по улице Свободы могли прогуливаться состоятельные банкрэкетиры, бизнесмены и их леди, професора, главврачи и их друзья и это благодаря тому, что он был взят в кольцо местной охранкой из жандармерии, которая охранительно охраняла его со всех сторон, не подпуская нищих душевнобольных обывателей и любопытных ротозеев; лишь извозчики с допустимой лицензией могли проникнуть вглубь этого квартала, чтобы развозить отдыхающих с одного злачного заведения в другое, а после доставлять их ко дворцам, усадьбам и поместьям, откуда они после продолжительного вальяжного отдыха без малейшего на то желания к полудню будут отправляться на свои рабочие места. Дождь усилился, Либериус снял картуз, накинул капюшон и полностью застегнул широкий не по размеру плащ-палатку. “Холодно, холодно, совсем захолодило… и не зима ведь еще, а уж холод такой. Уфф…” – съежился он. Около полуночи из питейного дома вышел высокий, широкоплечий, толстый джентльмен в цилиндре и длинной шубе нараспашку. Он шагал по вымощенной дорожке тяжело, медленно и широко, аккуратно опуская в мелкие образовавшиеся лужи свои лаковые блестящие туфли огромного размера, увеселительно что-то напевая себе под нос. Да-а-а… подумал про себя Либериус, смотря на этого состоятельного буржуя, который подошел к черным, высоким, кованым воротам с лакеем у входа, и достав из внутреннего кармана пиджака длинную, толстую сигару, стал хлопать по карманам. Лакей помог ему прикурить и вежливо откланялся, – такой в мою телегу точно не сядет, он, вероятно, ждет свою карету, и если взять во внимание его неподъемную тушу, то лучше бы он воспользовался дирижаблем. Осыпаемый дождем, Либериус сдержанно улыбался, созерцая свои мысли. Огромный джентельмен докурил, отдал остаток сигары лакею, и слегка покачиваясь, как большой, деревянный, старый, скрипучий фрегат на легких волнах, направился к неопрятно подъехавшей, наехавшей на бордюр, черкнувшись слегка об афишную тумбу, роскошной карете, в которой извозчик был мертвецки пьян, сумев все же вовремя остановить двух молодых черных жеребцов и согнуться от потери контроля над собой в колач, тем самым развеселив местную гуляющую публику, которая смеялась и хлопала одновременно. Большой господин недовольно мотнул головой и направился к своей карете, мысленно намереваясь задать хорошую взбучку своему Ваньке. В это время из этого же питейного заведения выскочили две смеющиеся молодые барышни одетые в длинные облегающие яркие платья, а из открытой двери отчетливо доносились звуки джаза. Они достали длинные мундштуки, вставили в них сигареты, и не обращая внимания на прохладу и то усиливающийся, то затихающий дождь, слегка пританцовывая, курили и смеялись, постреливая блестящими глазками в сторону Либериуса, который с умилением смотрел на беззаботных молодых особ. Ему всегда нравилось подвозить таких веселых, раскрепощенных, скрывающихся от обывательского взгляда, где-то даже вульгарных, молодых девиц, которые всю дорогу смеялись и шутили, пели и рассказывали всякие небывалые сплетни, и часто уже у места прибытия рылись долго в своих дамских сумочках или мешочках, в надежде нащупать ключи от дома, а также чаевые, чтобы неопрятно бросить их скромному, молчаливому вознице, показав этим свою “незыблемую” щедрость. Мои клиенты! Подумал Либериус, когда они докурив и накинув свои полушубки, вынесенные им гардеробщиком, направились, грациозно виляя своими бедрами, в его сторону. В карете, которая нелепо припарковалась и так и не тронулась с места, открылась дверь и оттуда, с тяжестью и без малейшего желания шевелиться, вылез недовольный практически такой же пьяный, как и его извозчик, большой джентльмен, оправившись, он направился к повозке, на которой сидел Либериус и с умилением наблюдал за приближающимися милыми особами, не сводя глаз с их изящной походки.
– Свободен?! – неприветливо прогудел большой джентльмен, опираясь о сидушку, на которой сидел и недовольно смотрел на него Либериус.
– Садитесь. Не знаю сможете ли подняться на ступеньку?.. – с неприязнью сказал он. Джентльмен угрюмо посмотрел на извозчика, и чуть не перевернув двухместный экипаж тяжестью неподъемного тела, забрался внутрь, заняв своим телом целых два места.
– К Башне. – невнятно буркнул он. Отъезжая, Либериус, не придавая значения тому, что сказал его клиент, скинул капюшон и улыбаясь смотрел на милых дам, которые кокетливо состроили ему глазки и нежно помахали вслед тоненькими пальчиками, облеченными в кружевные перчатки. Повозка не спеша выехала на перпендикулярную улицу баров, ресторанов, казино и барделей, где, оставив в госпиталях свои халаты, резвились и гуляли врачи, а также их оголтелые клиенты, которые привыкли смотреть свысока на простой народ, который занимается, в принципе, тем же самым только в облезлых подворотнях и вонючих кабаках. А напиваются и ведут себя – одинаково. Просто отдают ли они себе отчет в том, что те же врачи, ничем не отличаются от своих пациентов? И понимают ли то, что многие из них гораздо глупее? Наверное понимают – предполагал Либериус, лицезрея по сторонам. Но им наплевать! Здесь, в этой зоне, также присутствовали заведения не совсем уж высокого класса, куда приходили и веселились медсестры, медбратья и лаборанты, а также простые работники нашей общей психушки, кому выписывали пропускные билеты их же лечащие врачи. Не крепко держа вожжи между пальцев, Либериус смотрел на пьяных и разнузданных людей, толпящихся возле всех этих заведений, слушая в то же время хриплый, громкий, прерывистый храп своего пассажира, он пытался упорядочить свои мысли. Что же он сказал?.. К Башне по-моему?… Либериус обернулся вполоборота и одним глазом посмотрел на спящего старого толстого джентльмена, с которого свалился цилиндр. Важная персона, наверное, раз направляется прямиком в Башню?.. Размышлял он про себя. Башня возвышалась прямо в центре Вселенной. Поговаривали, что с высоты ее верхушки обозревается вся наша психбольница, и что именно здесь правит и восседает Профессор Гегемор. Ветер поднялся. Дождь усилился. Либериус снова накинул капюшон. И как же он собирается туда проникнуть?.. Ведь его сейчас и пушкой не разбудить. Ладно, подвезу к первым воротам, а там будь что будет… Повозка ехала по освещенным старинными фонарями центральным улицам, слегка удалившись, пошли мосты и парки, холмы и горы, лесопосадки и озера, чуть по отдаль они миновали набережную Северного моря, солдатские казармы и несколько жандармерий, где-то поблизости доносился шум Красного моря и, впадающих в него, Средиземного и Аравийского. Минув пАгодные корпуса, через которые протянулась Китайская стена, экипаж двинулся в сторону, где виднелись серые облущенные корпуса, где жил когда-то Либериус со своими родителями, когда был еще маленьким мальчиком, они слабо освещались экономным светом. Там жизнь шла своим чередом: кто-то сидел как ни в чем не бывало и потягивал водку, ну а кое-где виднелись пожары, слышался плач, крики и взрывы, но и это не могло разбудить расплывшегося, как желе, и похрапывающего джентльмена. Примерно через четверть часа они вырулили на прямую гладковымощенную дорогу с яркими фонарями и молодыми вечнозелеными деревцами по бокам. Вдали виднелись высоченные хорошо освещенные кованные ворота с огромным золотым гербом сверху, возле которых караулили одетые в красные камзолы и высокие меховые шапки чинные вычурные часовые. Навстречу вышел один из них, не желая подпускать повозку, не имеющую особых знаков отличий, вплотную к воротам.
– Ты не туда заехал! – выкрикнул он из далека, махая факелом. – Разворачивайся! Либериус не спеша направлял Пегаса к воротам. На моей кибитке даже фонарики не горят, керосин закончился, думал он про себя.
– Стой! Я кому говорю?! – солдат приблизился, схватил за узду лошадь и остановил ее. – Ты что уснул? – грозно вопрошал часавой.
– Я нет, а вот он – да. Либериус указал на спящего джентльмена. Солдат вскочил на ступеньку и мгновенно замер от удивления.
– Где, мистер… – недоговорил он. – сел в твою бричку?
– На улице Свободы. Его извозчик был слегка пьян.
– Предъяви лицензию? – фамильярно бросил он. Либериус привстал и открыв крышку у своих переделанных козел, достал оттуда заламинированный документ с фотографией. Часовой подсвечивая факелом тщательно изучил его. – Проезжай прямиком к башне, там вас встретят. – сказал он, и подав знак факелом, чтобы открыли ворота, спрыгнул с подножки и последовал сзади. Ворота отворились и они въехали внутрь. Высоченный, железный, кованый, черный забор опоясывал Башню по кругу. От одних пропускных ворот к другим расстояние составляло метров пятьдесят, дорожка была неширокая, слегка приподнята каменистой насыпью над уровнем воды, а по обеим сторонам полукругом, огибая Башню справа и слева и встречаясь с противоположной стороны, отделяясь подобной дорожкой, красовались озера: Каспийское и Гурон, по которым медленно передвигались паруса белых и слабозаметных в темноте черных лебедей. За другими воротами, которые лошадь прошла аллюром без остановки, распростерлись Висячие сады Семирамиды. Расстояние, которое невооруженным взглядом от вторых ворот и до Башни отмерил Либериус, занимало примерно метров сто, не больше, и эта часть была очень хорошо освещена. Как ни странно, но кроме трех часовых у первых ворот и двух – у вторых, охраны больше нигде не наблюдалось, не беря во внимание то, что камеры наблюдения были натыканы повсюду, чуть ли не на каждом фонаре. Повозка подъехала прямо к входным высоким прямоугольным дверям Башни. Либериус посмотрел на крепко спящего пассажира, снял капюшон и прикрикнул:
– Приехали! Просыпаемся! – клиент по-видимому не слышал. Либериус спрыгнул вниз, стал на подножку, посмотрел на спящего господина, недовольно вздохнул, и взявшись крепко за плечо, с усилием потрусил его:
– Приехали! Пора вставать! – громко сказал он. Джентльмен приоткрыл затуманенные глаза и хотел было тут же их закрыть. – Встаем, встаем! – не давая ему заснуть, тормошил его Либериус. Клиент снова открыл глаза и широко открыв рот зевнул, навел фокус, посидел еще минуту, протер большими ладонями сонное, уставшее, лоснящееся лицо и, подняв упавший цилиндр, сказал:
– Послушай… ты парень крепкий, рослый. Помоги мне встать и добраться до двери, дальше я сам. Казалось, что разница у них в весе была килограммов сто не меньше. Либериус встал с подножки и дал ему руку для опоры. Тучный джентльмен надел цилиндр и опершись правой рукой об крепкую руку извозчика, кряхтя, стал постепенно подниматься, опираясь левой рукой о сидушку. Вся повозка ходила ходуном. Казалось, что вот-вот проломится пол.
– Становитесь на ступеньку. Аккуратно… Я держу, держу. – Джентльмен тяжело дыша, с усилием, но благодаря крепкому подставленному плечу, все же ступил на землю.
– Подожди, подожди… – его все еще шатало. – Помоги мне дойти до двери. – Либериус бесцеремонно закинул его тяжелую руку себе за голову. Благо, что они были примерно одного роста. С трудом дойдя до высокой на вид невероятно тяжелой массивной железной двери, они остановились, джентльмен попросил завести его внутрь, сказав при этом код из четырех цифр. Либериус прислонил его к стене.
– Год моего рождения. – усмехнулся он и удобно подпер спиной серые массивные камни, из которых была возведена высоченная Башня. ЗамОк отщелкнулся и огромная, толстая дверь бесшумно приоткрылась.
– Ты хороший парень, как тебя звать?
– Либериус, – сходу ответил он. – Легко запоминающееся имя. – господин одобрительно покачал головой.
– Послушай, Либериус, будь добр, доведи меня до моей комнаты. Боюсь, что не дойду сам, ног не чувствую, да и в руках силы нет совсем. Не дай Бох упаду, некому будет меня и поднять. – усмехнулся он, не веря в то, что его состарившееся тело стало реагировать так, как ему это угодно, а не владельцу. Машина движется уже сама собой. Подумал Либериус. – Сегодня… – джентльмен, широко улыбаясь, поправился. – Да, нет, по-видимому, уже вчера, был день рождения моего сына. Вот я и перебрал.
– Пойдемте уже. – Либериус снова подошел к джентльмену, не желая задерживаться, закинул его податливую правую руку себе за голову, левой попытался обнять необъятную талию и делая упор на ноги завел его внутрь, где при слабом свете он разглядел винтовую каменную лестницу с левого боку и подъемную квадратную старинную кабинку лифта, обрамленную золотыми узорами, расположившуюся посередине. Они зашли внутрь этого уникального лифта, джентльмен глубоко вздохнул, собрался, откашлялся и, насколько это было возможно, трезвым голосом произнес:
– Предпоследний этаж. – двери сами медленно закрылись и лифт с тихим шелестом потянулся вверх. Пространство внутри было просторное, человек на 6-8. Красное дерево, которым он был обит, поблескивало от неяркого света исходящего из мутно желтого плафона, напоминающего бутон тюльпана, висевшего сбоку. На полу лежал темно бордовый ковер с золотистым узором, в который слегка проваливались мокрые от дождя ботинки. Кнопок нигде не было. Вероятно, каждый называл нужный ему или ей этаж, подумал про себя Либериус, вспоминая старые изношенные лифты в госпиталях, которыми он часто пользуется доставляя провизию, а также поднимаясь к себе на девятый этаж, где находилась его крохотная студия, в которой интерьер был очень скудный: кухонная плита над маленьким холодильником, навесной шкаф с набором посуды на двух персон, столик с двумя стульями, кровать и старинный бабушкин патефон, в правом углу стоял когда-то вральник, по которому бабушка любила смотреть балет и экранизированные театральные представления, но сейчас всего этого не показывают, а показывают такую глупость, что Либериус не долго думая, первым делом, избавился от этого ненужного громоздкого ящика. Либериус, поддерживая обмякшего господина, который устало и сонно дышал, смотрел вниз и разглядывал узоры под ногами, вспоминая, как когда-то, будучи ещё маленьким мальчиком, его бабушка ездила с ним на поезде, объезжая все укромные уголки нашего, тогда ещё Пансионата, и прогуливаясь по улочкам, они всегда заходили в местное кафе, чтобы попробовать здешнюю своеобразную кухню и пообщаться с его посетителями и обитателями, и так как бабушке, будучи тогда ещё довольно молодой, всегда хотелось узнать как можно больше о людях живущих в самых удаленных местах нашей Вселенной, со всех концов омываемой бескрайними океанами, которые при нужде можно было перепрыгнуть, если хорошо разогнаться, поэтому она и выискивала маленькие местечковые местечки, местными посещаемые. И находясь однажды в одном таком уютном кафе, где они пили чай и кушали хумус вместе с фалафелем, маленький Либериус стоял на таком же темно-бордовом мягком ковре с похожим узором. Лифт остановился, двери открылись и Либериус с тяжелым господином шагнули в очень просторную, панорамную, круглую, тускло освещенную одним ночником, висевшим над кроватью, комнату с высоким потолком. Окна размером чуть больше иллюминатора равномерно расположились по кругу. Кровать неприлично большого размера стояла посередине, позади ее возвышался деревянный шкаф-купе со множеством узких ячеек, где на каждой виднелся маленький флажок. Слух Либериуса потревожил очень странный звук похожий на храп, который он сразу же услышал, и не поверив своим ушам, округлив до безумия глаза, как-будто бы он увидел то, что предполагал увидеть, но об этом даже и не мечтал, – бесцеремонно потащил джентльмена к кровати, чтобы убедиться в том, что ему не показалось. Приблизившись к кровати и неопрятно уронив господина в рядом стоящее кресло, он пригляделся и не поверил своим глазам. Там, в ряд под одним одеялом, тесно прижавшись друг к другу, по-детски улыбаясь во сне и похрапывая, мирно спали все известнейшие, не сходящие с экранов вральника, главврачи. Каждый из них безмятежно прижимал к себе свою мягкую домашнюю игрушку: бурого мишку, панду, круасан, овчарку, статую свободы, месяц со звездой, щит Давида и Биг Бен, а также еще несколько голов и игрушек, которых Либериус не смог разглядеть. Кто-то даже двигался тазом во сне, ублажая соседа единого пола, своей дружеской, самодумающей телесной торпедой, ковыряясь ей в чужом мусорном баке, как в своем.
– Я так и думал!.. – утвердительно покачал головой Либериус. – Так и думал. Удивляться здесь нечему… – Джентльмен, тяжело дыша, опустил голову на мягкий воротник и сказал:
– Тебе все равно никто не поверит. – почти шепотом проговорил он. Либериус с легкой ухмылкой наблюдал эту милую спящую идиллию.
– Все эти спящие головы только гавкать умеют по команде. Раньше мы выбирали лучших из лучших, а теперь приходится выбирать лучших из худших. Тра-ги-ко-ме-дия, одним словом, пьяным усталым тоном протянул джентльмен. – но трагедия все таки превалирует.
– Деградация начинается с верхушки. – заметил Либериус. Джентльмен только глубоко вздохнул, без малейшего желания разговаривать на эту тему.
– Странно, что здесь, под одеялом, нету Папы Руинского. – Либериус вопросительно взглянул на джентльмена, который звучно усмехнулся.
– У него есть с кем спать, ты не переживай.
– Не сомневаюсь…
– Ты поможешь мне раздеться? – властно и в то же время с какой то беспомощностью вопросил джентльмен. – Я очень устал и, как назло не подумав, отпустил вчера еще своего лакея, дав ему выходной.
– Вы же здесь не поместитесь? – с иронией спросил Либериус, кивая на кровать и помогая снять объемную мягкую шубу. – И ячейка в шкафу слишком узка для вас.
– У меня отдельная кровать, там, – он махнул головой, – за этим шкафом. Там же и мой личный гардероб. – Либериус помог подняться не подъемному пожилому господину и они обойдя высокий шкаф оказались, как бы в отдельной комнате с массивной резной деревянной кроватью, таким же резным старинным гардеробом, креслом и письменным столом, стоящим под иллюминатором, откуда открывался вид на часть мерцающей ночной Вселенной.
– Друг мой, будь добр, помоги мне пожалуйста избавиться от этих колодок. – умоляюще попросил джентльмен, указывая головой на свои туфли 48-го размера. Либериус повесил в гардероб шубу, подошел ближе, и видя его мучение, помог снять прилипшие к ногам туфли, моментально воскресив этим действием благодарного господина. – Ху-ух… Уфф… Наконец-то… Ты мне жизнь спас, спасибо! – с огромным облегчением улыбнулся он. Либериус собрался уже было откланяться, но джентльмен остановил его:
– Нет нет, постой. Ты что без денег собирался уйти?! Я ведь тебя не отблагодарил ещё?.. Либериус остановился на полпути к лифту, он догадывался, кто на самом деле был этот Большой джентльмен и кого он привез домой.
– Не стоит. То, что я сегодня увидел – бесценно! И, да! Вы правы мне никто не поверит, а мне это и не нужно. Я всегда догадывался о том, что они все спят под одним одеялом. Всегда! Особенно… нет, благодаря Вашему правлению, Вашей монополистической системе… Прощайте!
– Прощай, Либериус. Благодарю за помощь. Да!.. Когда зайдешь в лифт, просто скажи: “Вниз.” Либериус кивнул и скрылся за длинным шкафом, на прощанье окинув взглядом общее ложе. Домой он приехал с чувством глубокого удовлетворения и разочарования одновременно. Заварив себе чай из цветков ромашки, и слушая на бабушкином старинном патефоне партиты И.С. Баха за кухонным столом, он уснул.
Глава 4. Морок.
… и я бы мог еще рассказывать и рассказывать о массе душевнобольных: правдолюбах, истинноверцах, докторах, их прислугах, неврастениках и т.д. и т.п., но всё будет только повторяться, как и повторяется уже много-много веков подряд. Меня все время преследует один вопрос: почему они нас истребляют? Почему сначала создают все условия для безмятежной спокойной жизни, а потом снова войны и катаклизмы, эпидемии и пандермии?.. Кто отвечает за все это? Чьих это рук дело? Пациенты, это понятно, виновны только от части, по доверчивости своей и незнанию; вернее от принятия незнания и неосознанным отказом от знания. Кому нужны эти войны?! Они сами не хватаются за оружие, – они могут договариваться, уступать, меняться, соглашаться на компромиссы… оружие вкладывается им в руки, а идеология вдалбливается в головы. Конечно! Ну, конечно, сначала провокация – страшная, безжалостная, кровавая провокация. Это ужасно! Человечностью здесь даже и не пахнет. Обманом, да! гнилью, да! расчетливостью и псевдопомощью тоже да, но только не искренностью, тем более Человечностью! И так снова и снова… Мы должны противостоять этому! Должны вернуть наше человеческое сознание обратно, а с ним и права, которых нас лишили, потому что мы и сами не знали как ими пользоваться!.. Нельзя быть настолько глухими, слепыми, немыми, а главное тупыми, пациентами. Нужно приложить все усилия, чтобы переродиться в Человека.
“Вас не перевоспитать! Как не бросай соломинку. Устал и я кричать раскладывая логику. Устал и я реветь и падать обессиленным, как зимний я медведь, шатаюсь весь в унынии. Незванный зимний гость, голодный, обездоленный, – он ищет свою кость, а с ней – людскую логику.” – говорю себе, что бесполезно и все равно пытаюсь до них достучаться, а может быть уже и не до них, а до тех, – тех, кто будет после них? Ведь все же перерождается. Все циклично… И после страшного кошмара всегда наступает преображение, и в сознании тоже, и тоже контролируемое, не самоличное. Не знаю… Звон в ушах… Опять этот звон или гул… Усиливается, потом исчезает, затем снова… Я задумался, попытался по крайней мере, на сколько хватало самообладания, и постарался посмотреть пристально в окно, – окно?! Свет! Свет в окне… Улица…Оконная ветхая рама. Белый подоконник. Свежий, влажный воздух повеял из маленькой приоткрытой форточки. Дневной свет… и в то же время все плыло, как в тумане… Плыло ли это мое подсознание, которое казалось мне всегда четким, нет, не думаю, наверное, это мое сознание, было чем-то затуманено, чем-то искусственным, не своим естественным мусором, а какой-то тяжестью вызванной посторонним химическим вмешательством в серую кору головного мозга. Мозг казалось раздваивался и работал сам собой, создавая идеально чистое воображение и видение, унося и части моего тела в утопические фантазии; один был лишний, но, кто именно? Я или он? или он – это я?.. Или не он и не я? Непонятно… Стараясь навести фокус и чувствуя, как напрягается серое вещество, я первый раз, как мне казалось за долгое время отсутствия, обратил внимание на ржавую решётку с наружной стороны, на которой повис пожухлый, мокрый дубовый лист, дергающийся от порывистого ветра. Осень, подумал я и глубоко вздохнул, ощущая возвращающиеся чувства осязания, обоняния, зрения, – да, зрения, которое, как многие думают, одно, но это не так, каждое наше душевное, а также умственное состояние, меняет ракурс зрения или созерцания, все зависит от состояния нервных клеток, способствующих по-своему рассматривать людей и предметы нас окружающие, и все это напрямую связано с отсутствующим какое-то время сознанием. Даже появилось чувство голода, и такое, будто бы я не ел целый месяц.
