Чудеса
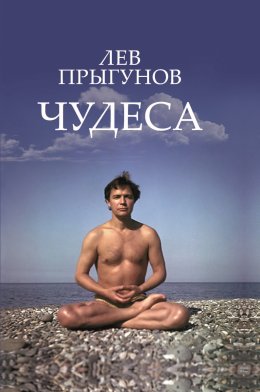
© Прыгунов Л.Г., 2024
© Издательство «У Никитских ворот», 2024
Предисловие
«Чудеса». В этой изящно и со вкусом оформленной книжке помещены автобиографический роман «Чудеса» (впервые опубликован в журнале «Звезда», № 4, 2023), роман «Азиатское детство Ивана Ташкентского» (написан в 1972-м, впервые опубликован в журнале «Звезда», № 9, 2017) и рассказ «Тёща» (впервые опубликован в журнале «Звезда», № 4, 2019).
Достопочтенный автор Лев Георгиевич Прыгунов (далее Л. Г.) предельно искренен. Только во втором романе он примеряет на себя чужую личину (правда, весьма успешно взяв образ своего друга, музыканта, ксилофониста и ложечника). В остальном же это его собственная жизнь, собственная биография, собственные детство, юность, зрелость, но рассказанные с такой страстью, с такой пассионарностью, с таким напряжением гортани и голосовых связок, рассказанные, так сказать, «на разрыв аорты», что любая фантазия отдыхает под напором этих безумных приключений, страстей, падений и подъёмов.
В чём же лейтмотив жизненного пути, описанного Л. Г? На мой взгляд, он заключается в глаголе «Бежать!». Бег этот в метафизическом смысле двойственен. С одной стороны – бег по жизни, по местам, обстоятельствам, женщинам, книгам, друзьям. Этот бег напоминает мне манеру великого в прошлом спортсмена-стайера Владимира Куца. Он на длинной дистанции то ускорялся, то притормаживал, изнуряя соперников таким рваным темпом. И Л. Г. перемещается от депрессии к душевному подъёму, от истории России к китайскому языку, от театра к кино, от поэзии к живописи, от отчаяния к надежде, от ненависти к прощению.
С другой стороны – это бегство ОТ. От окружающей действительности, от наглости, от издевательств киношных и других начальников, от блата и невозможности нормально жить и зарабатывать, от бессовестного обирания артистов с отъёмом честно заработанной валюты на зарубежных гастролях, от бездомности, от прописок, от абсолютного бесправия, от униженности, от грязных провинциальных сортиров, от столичных циников, приспособленцев, стукачей и провокаторов…
Словами автора: «…неустанно мотаюсь я по дозволенной мне нашими “великими человеколюбцами” территории в одну шестую часть света под трескучий аккомпанемент великих Паганини, Моцарта, Сарасате, Листа и проч., молясь каждый день, каждую ночь вот уже больше десяти лет о том мгновении, когда наконец-то я окажусь в любой точке земного шара “по ту сторону баррикад добра и зла”, где по меньшей мере я обрету душевный покой».
Спасение Л. Г. находит, по крайней мере в доперестроечной жизни, в дружбе с удивительно интересными людьми, такими как поэты Бродский, Уфлянд, Ерёмин, замечательно описанный им (жаль, что книга не вошла в этот сборник) Сергей Чудаков, художники Целков, Кубасов, в любовных приключениях.
В медитациях, в которых он убедительно описывает свои прошлые жизни, твёрдо веря в реинкарнацию. И самое интересное, что он встречает в жизни людей, которых он знал в самых разных ипостасях в тех, прошлых жизнях!
В реставрации старых икон, в сочинении стихов, которые он имел наглость писать, имея в приятелях таких поэтов, как Бродский и Рейн, в живописи, наконец, которая стала для него отдушиной и ещё одним средством самовыражения.
В увлечении мировоззрениями тибетских монахов, в любви к сыну, в занятиях румынским, английским, китайским и другими языками, в напряжённо-внимательном изучении мира и мировой культуры, от которой страна была отрезана для подавляющего большинства советских граждан железным занавесом.
В написании «в стол» без надежды на опубликование литературных произведений (одно из которых было выкрадено у него чекистами, что имело неприятные для автора последствия).
И от всего этого стремления убежать и невозможности побега – неврозы, болезни, бессонницы, отчаяние, едва ли не переходящее в суицид.
Но в финале – перестройка, которая открыла для него мир, возможность путешествовать, увидеть старых друзей – от Бродского до Романа Каплана, честно зарабатывать деньги, публиковать свои книги, выставлять и продавать свои картины, и, наконец, жена Ольга, давшая ему тот мир и покой, которого ему так не хватало.
Но если вернуться к стилистике текстов романов в этой книге, то я не могу не отметить, что занятия поэзией обеспечили ему прекрасный ритмический рисунок текста, а занятия живописью – глубокую и впечатляющую образность выписанных характеров.
А врождённое чувство юмора – великолепную ироничность в описании ситуаций.
Вот только один пример (из рассказа «Тёща»). Тяжело больная тёща лежит в постели и внимает новостям по радио.
«И когда в день открытия съезда она услышала несвязную речь нашего генсека, она вдруг сорвала с себя наушники, встала с кровати, вышла – страшная, полуголая, растрёпанная, безумная – в коридор и куда-то пошла! К ней бросились медсёстры, но она их оттолкнула и прохрипела свои последние слова в этой жизни: “Леонид Ильич мне сказал: “Встань и иди!”»
В общем, эта книга полна занимательных и чудесных историй, смешных ситуаций, философских рассуждений, ламентаций и панегириков, обличений и восхвалений, анекдотов и ужаса, и ещё – она удивительно правдива!
Я завидую тем, кто откроет её в первый раз!
Леонид Романков,
член Союза писателей Санкт-Петербурга
Чудеса
Автобиографический роман
Есть только два способа прожить жизнь. Первый – будто чудес не существует. Второй – будто кругом одни чудеса.
Альберт Эйнштейн
Самое великое чудо моей жизни – моя мама.
Нет никаких сомнений в том, что у каждого человека в жизни случались всякие чудеса или нечто, что он сам воспринимал как Чудо. Впрочем, какая разница! Даже само воображение, скрупулёзно рисуя и выделяя не существовавшие детали и тем самым обманывая своими картинками нашу память, является одним из самых многочисленных Чудес! Ведь, в сущности, все так называемые чудеса являются всего лишь торжеством трансцендентного, то есть чего-то тонкого, «надмирного», что принято называть Духом Святым, над грубым и материальным. В переводе на китайское мышление – торжество Божественной энергии «Шень» над примитивной физической энергией «Ли». И ещё из «китайского» – «Подобное притягивается подобным» – один из универсальных законов даосской философии.
Что касается моей собственной жизни, то тут я честно и открыто заявляю, что всё моё существование в этом мире от рождения и до секунды, когда я пишу эти строки (а это уже более 80 лет!), плотно набито, как рюкзак альпиниста, всевозможными необъяснимыми совпадениями, которые только и можно назвать чудесами.
Ну, во-первых, – само рождение. Мои родители хотели избавиться от меня-эмбриона в первые два месяца после моего зачатия. Я и был-то тогда всего лишь (по Дарвину) каким-то пучеглазым земноводным или ещё чёрт знает кем. Но в самый последний момент – буквально в больнице! – мои родители (прежде всего моя мама) передумали и решили смириться со вторым ребёнком – у меня тогда уже была двухлетняя сестра. Это событие, конечно, самое главное чудо в моей жизни – иначе никаких остальных чудес и в помине бы не было!
В это же чудо я включаю тот факт, что я родился в Алма-Ате, далеко от России, в абсолютно русскоговорящем городе, где жили в основном либо потомки семиреченских казаков, либо сосланные за сорок лет махрового большевизма лучшие люди России и их родственники. К примеру: в моём классе из сорока двух учеников был только один казах. Даже фамилию его помню – Каматаев. А бывшие москвичи и ленинградцы, чувствуя свою провинциальную ущербность, изо всех сил старались «успевать» за всеми столичными новостями, которыми неизбежно делились с окружающими.
За полтора месяца до начала войны, когда мне было ровно два года, родители уехали с моей сестрой на курорт, а меня оставили с няней, которая на мой вопрос «Где мама?» отвечала, что она ушла к тёте Рите. Поскольку я часто бывал с мамой у тёти Риты, я отлично знал начало пути, и я в два года босиком (май месяц), без трусов, в короткой рубашонке потопал к тёте Рите! Я до сих пор помню смутные кадры этой документальной ленты – надо было долго идти вдоль зоопарка, пересечь два оврага, затем пройти весь громадный Парк культуры и отдыха им. Горького (всё это не меньше трёх километров) и затем выйти на остановку трамвая. На остановке была толпа народа, я не знал, что мне дальше делать, и заревел в голос. В конце концов я оказался в отделении милиции парка и на весь день был заперт в маленькой душной комнатушке, набитой какими-то очень колючими мешками (это я запомнил больше всего!). А чудо, как я это понимаю, было не в том, что меня никто не украл, что я не утонул в большом арыке, через который надо было переползать по бревну, и т. д. и т. п., а в том, что я, двухлетний малыш, попёр, точно зная, куда мне надо!
Во время войны мы жили в Алма-Ате в маленьком домике, построенном моим отцом как временное жильё, – он собирался строить большой, настоящий дом, но война этому помешала. Мама работала в двух школах, и одна из них находилась примерно в километре от нашего домика. Школу и наш дом разделяло большое клеверное поле, и, когда мама задерживалась на всяких собраниях до самой ночи, я всегда сидел у окна и её «высматривал». Однажды ночью я, ожидая маму, слегка подвинул оконную занавеску, чтобы лучше видеть дорожку из школы, и занавеска попала прямо на огонь «коптилки». Занавеска мгновенно вспыхнула, и огонь перекинулся на штору, которая тоже загорелась. Мне было три года, сестре – пять. Я очень испугался, побежал в спальню и там залез под кровать. Сестра тоже испугалась, но схватила на кухне кружку и стала бегать и поливать водой из кружки угол комнаты, охваченный огнём. На наше счастье, каким-то Чудом мимо нашего дома (почти в полночь!) проходила мамина знакомая. Она вбежала в дом, схватила с кровати одеяло и успела сбить пламя, которое уже прихватило стену и потолок. А ведь стена дома, просушенная летней азиатской жарой, всего через каких-то пару минут вспыхнула бы как порох, и никакое одеяло не смогло бы остановить убийственное пламя!
Был в моей жизни ещё один пожар, который тоже чудом не закончился трагедией. Зимой в 1959 году, когда я учился на первом курсе театрального института в Ленинграде, меня пригласил мой друг художник Кид Кубасов, который учился на курсе Н.П. Акимова, поехать на зимние каникулы к себе на родину – на Кольский полуостров в город Мончегорск. К нам приехал наш третий друг, тоже художник, и уже в Мончегорске мы решили идти на лыжах (80 км!) в Волчью тундру на озеро Вайкес. Кид где-то раздобыл карту 1937 года (он утверждал, что с тех пор в этих местах не ступала нога человека), три пары лыж, ижевскую двустволку 16-го калибра, патронташ с патронами, «двойную» (сшитую из двух) палатку и железную печку с трубой. Словом, хорошо подготовившись (у нас ещё было шесть бутылок водки!), рано утром в кромешной тьме полярной ночи мы отправились в экспедицию. Прошли первые тридцать километров (весь день ветер дул нам в лицо), и я вдруг почувствовал невероятную и какую-то блаженную усталость. Мороз для этих мест был небольшой – градусов 20 ниже нуля, – я лёг в сугроб и заявил, что дальше не пойду, пока не высплюсь. Я никогда в жизни не чувствовал подобного счастья! Кид буквально пинками заставил меня встать и дал мне выпить «пару глотков» водки. Я одним залпом выпил половину бутылки и должен сказать, что вкуснее той водки я никогда ничего не пил. Как потом объяснил Кид, в тундре наступает так называемое сахарное голодание, люди теряют рассудок, засыпают и больше никогда не просыпаются. А он забыл взять с собой сахар. А в водке, как я понял на себе, сахар есть! На наше счастье, мы вскоре подошли к последнему жилью в тундре – бараку лесорубов, где нас очень радостно встретили здоровые и незамысловатые ребята (мы выставили две бутылки водки!). Весь следующий полярный день мы шли против ветра по озёрам и болотам Волчьей тундры и к ночи уже были на мрачном берегу озера Вайкес. Очень грамотно на большую подушку из еловых веток поставили палатку, нарубили дров, установили и растопили печь, и всё это происходило под фантастическими сполохами полярного сияния, и даже Кид признался, что за всю его жизнь на Севере он ничего подобного не видел – «аж страшно»! Мы залезли в нашу «двойную» палатку, и я сам закрывал её полог – одну палатку на деревянные пуговицы, а другую на завязки. Мы выпили втроём бутылку водки и мгновенно уснули. Первым «дежурил» Кид, и я проснулся как раз на вторую (свою) смену дежурства. Кид спать не хотел, мы с ним болтали, читали стихи, печка горела исправно, в палатке было душно и жарко, мы разделись до нижнего белья, и я не заметил, как уснул. Проснулся от удушья и яркого пламени прямо перед глазами. Вскочил и, рванувшись к входу в палатку, руками наткнулся на раскалённую печку – она перевернулась, и, казалось, всё загорелось! Я подскочил к пологу палатки и одним рывком разорвал все пуговицы и застёжки! И это было ЧУДО! Как только я выскочил из палатки, она вспыхнула, как факел, – первым выпрыгнул, словно мячик, Кид, а уже второго художника мы спасли – просто стянули с него горящую палатку. Больше всех пострадал я – у меня были сожжены ресницы, брови и до самых корней все волосы на голове, ладони походили на два кровавых бифштекса, на лбу надулся гигантский волдырь, да ещё моё пальто, лежавшее рядом с печкой, сгорело ровно на треть. Мороз был уже за тридцать, пять часов утра, и у нас началась истерика, мы хохотали до слёз, потому что никак не получалось разжечь костёр, чтобы согреться и приготовить что-нибудь на завтрак. Пробовали оторвать кусок от оставшейся палатки, и… никто не смог! Друзья пытались повторить мой «подвиг» на той части полога, который не был разорван, – то же самое! В конце концов подожгли саму палатку, устроили кое-как костёр, попили чаю и пошли на лыжах домой. Нам невероятно повезло – ветер всё время дул в спину, и мы, ни разу не останавливаясь, не говоря друг другу ни слова, шли в Мончегорск ровно сутки. На следующий день в пять часов утра, еле передвигая ноги с лыжами, мы вошли в город.
Во время войны мы с моим соседом Шуриком Каковкиным, который был старше меня на год, весной, летом и осенью ходили в детский сад одни, без взрослых. Ему было пять лет, мне четыре. И однажды я сделал открытие, которое я тоже причисляю к чудесам. Мы переходили по шлюзу речку, и я каким-то образом соскользнул и полетел вниз! И я до сих пор помню, как на меня летело бетонное дно шлюза, и буквально в момент удара головой о дно я почувствовал на своей голове мамины руки, снимавшие с меня повязку. А как потом оказалось, я был без сознания двое суток! Когда я это осознал, я уже тогда понял, что СМЕРТИ нет!
У нас в доме была маленькая комната, в которую мамино начальство в военные годы просило «на время» приютить какую-нибудь семью, эвакуированную из центральных или западных областей России. И однажды, когда мне уже было пять с половиной лет, к нам подселили маму с дочкой, которую звали Ира. Мою сестру тоже звали Ира, но она была старше меня на два года, а «подселённой» Ире было чуть больше четырёх лет, и мы все звали её Ира-маленькая. И я её водил каждый весенне-летне-осенний день в наш детский сад. Дорога шла через всю Малую станицу – самый центр первого поселения отряда казаков, основавших город Верный, переименованный позже в Алма-Ату. И пыльная дорога шла между деревенскими домами, а прямо вдоль дороги были заросли лебеды, подорожника и крапивы, в которых паслись коровы и козы. И как-то ранним утром маленькая Ира подошла слишком близко к здоровенной корове, которой почему-то маленькая Ира не понравилась, и корова буквально ринулась на девочку. И тут я, чувствуя ответственность за её жизнь, как заправский тореадор, с криком бросился на это гигантское животное! И корова, поддев меня головой с большими и острыми рогами, перекинула меня через всё своё громадное туловище прямо в дорожную пыль! На моё счастье, я попал точно между её острыми рогами и каким-то чудом приземлился без особых потерь – ни переломов, ни открытых ран. Как ни странно, больше всего я до сих пор помню сам полёт – долгий и длинный! А потом – причитания хозяев этой коровы, их извинения и угощения нас чаем и конфетами! Самое удивительное было в том, что эта история в один день разошлась по всей округе и в этот же день дошла до моей мамы! А я впервые почувствовал себя «героем», осенённым бледными лучами славы нашей Малой станицы!
И ещё из того же детского сада. У нас в старшей группе были два сопливых придурка – братья Сокольские. Их мамаша была то ли сторожихой детсада, то ли уборщицей, и они, прекрасно понимая свою безнаказанность, буквально терроризировали всех детей, включая нас с Шуриком. И вот однажды, когда мы подходили к детскому саду, я придумал, как с ними справиться. «Давай скажем всем, что к нам прилетел наш Брат-Великан! – сказал я Шурику. – И что мы в любой момент можем его позвать! Он прилетит и накажет каждого нашего обидчика! Ростом он выше тополя, а одной только ладошкой он может прихлопнуть два домика нашего детского сада!» Это заявление я произнёс уверенно и угрожающе в сторону сопливых придурков Сокольских, испугавшихся, кстати, больше всех. С этого момента «хозяевами» детского сада стали мы с Шуриком благодаря безграничной силе и власти нашего Непобедимого Брата-Великана, который, как дух святой, был с этого момента всегда с нами. Но самым удивительным было то, что мы с Шуриком сами поверили в нашего всесильного Брата, и вера эта придала нам громадные силы! Не так ли примерно, когда человечество только-только вышло из яслей и проходило детсадовскую стадию, Моисей и Авраам с Аароном придумали своего Всемогущего Брата-Великана и посрамили всех тогдашних сопливых и доверчивых «филистимлян – Сокольских»?! Увы, никто никогда не узнает этой величайшей Тайны! Так что это событие в нашей маленькой детской жизни стало очередным Чудом!
В годы войны мы жили страшно. Мама работала в двух школах, получая в каждой около 700 рублей в месяц. Чтобы понять ничтожность этой суммы: буханка чёрного хлеба на барахолке стоила 500–600 рублей. Нас, несмотря на нашу нищету, несколько раз грабили, и однажды утром мы увидели нашу маму – жгучую брюнетку – почти совсем седой. Ночью через подвал к нам залезли два вора, и мама, застывшая от ужаса, пролежала с закрытыми глазами около часа, моля Бога только о том, чтобы никто из нас не проснулся. Бандиты знали, что она не спит, и приняли её игру. Один из них, мерзко пошучивая, стоял над нами с топором в руках, пока второй шарил по комодам и вытаскивал на крыльцо жалкие пожитки: отцов костюм, хлебные карточки, старые пустые шкатулки, сломанные часы и прочую дребедень. Стоило мне или сестре открыть глаза и заорать от страха… Думаю, никому в голову не придёт сомневаться в том, что без ЧУДА, или какого-либо вмешательства из «тонкого мира» в ту нашу страшную ночную действительность, никак не обошлось. А годы войны до сих пор преследуют меня настолько яркими воспоминаниями, что каким-то образом из далёкого прошлого всплывают запахи – то запах дорожной пыли, раскалённой летним азиатским солнцем и прибитой грозой, то нежнейшие дуновения ночной прохлады, смешанные с запахом костра, на котором мама готовила для нас ужин. Привожу стихи, которые, как сказал поэт, помогли мне «снять тяжесть с плеч»:
- Я детство прожил в нищете войны,
- хотя наш город и не знал бомбёжки.
- Все зимы – с осени и до весны —
- давились мы гнилой картошкой.
- Зато весной – какая благодать!
- Крапива, лебеда, лучок-голубчик…
- Колдует ночью у костра с кастрюлькой мать,
- слезами заправляя жидкий супчик.
- А голод борется во мне с голодным сном.
- Сон победил, закапал летний дождик.
- Вдали осёл перекликается с ослом,
- сестра толкает в бок: не спи, художник!
- Художнику три года. На ногах
- в кровавых кракелюрах цыпки-клинопись —
- «Испанский башмачок» – замечу на полях:
- так началась любовь к испанской живописи.
- Нас будят предрассветные гудки —
- хрипят, свистят, гудят, трубят, меняются…
- И жизнь у матери на страшном полпути.
- А у меня лишь только начинается.
В самом конце войны у нас в Алма-Ате участились землетрясения, а мой отец, зная, что мы живём в сейсмически опасном районе, перед уходом на фронт купил большой дубовый стол на толстенных ногах специально для того, чтобы мы, когда будут начинаться землетрясения, все втроём под него залезали. Если бы потолок нашего домика обрушился, с нами ничего бы не случилось: крышка стола состояла из трёх очень тяжёлых и крепких дубовых плит, которые могли бы выдержать десять потолков, подобных нашему. Я запомнил три случая, когда мама запихивала нас с сестрой под этот стол, сама залезала к нам, и стол вместе с нами ходил ходуном. В последнее, особенно запомнившееся мне ночное землетрясение – самое сильное, которое мне удалось пережить, да ещё с каким-то неистовым ураганом, выворачивавшим деревья, – ровно через сто метров от нас небольшой домик, очень похожий на наш, провалился в разверзшуюся земную трещину. Через пару дней мы ходили смотреть на то, что от него осталось. Семью из четырёх человек вместе с домом раздавила эта самая трещина, и я тогда в ней увидел какое-то месиво из домашней утвари, комьев земли и камней. К нашему счастью, трещина проходила поперёк нашего квартала и уходила в огороды. Но если бы наш дом в неё попал, нас бы дубовый стол не спас. Одно слово – чудо!
В детстве я много и часто болел. Мама оставляла меня одного – другого выхода не было – и давала мне в кровать большую пачку цветных открыток из Третьяковской галереи, Русского музея или Лувра, которые я перебирал часами и знал их наизусть. И, возможно, от этого я всю свою жизнь очень хорошо относился и к одиночеству, и ко всем болезням, и я точно знаю, что и Лувр, и Третьяковка, и Русский музей инфицировали моё сознание РЕАЛИЗМОМ на всю жизнь! А болею я всегда с удивительным ощущением животного несчастья-счастья – лежу, напичканный лекарствами, голова раскалывается, жар, слабость, но почему-то появляется необыкновенно лёгкое дыхание, и я чувствую, как я полностью растворяюсь в самом себе! Если бы смерть была хоть чуточку похожа на такое бредовое, полублаженное страдание! В детстве, когда у меня была температура за сорок, я всегда пел! Щёки пылали, глаза вылезали из орбит, но ощущение болезненного счастья и желание петь были всегда. Это свойство я тоже отношу к неведомым мне чудесам!
Примерно в одиннадцать-двенадцать лет у меня появилась навязчивая идея: мне казалось, что я могу научиться силой взгляда двигать предметы! Сначала спички, мелкие бумажки и карандаши, потом шкафы и табуретки, а там, глядишь, и до гор недалеко! И я мог больше часа сидеть, уставясь глазами в спичку или круглый карандаш, и ждать этого крошечного, но так необходимого мне тогда чуда! Но, увы, так ничего не добился, и только во сне я был всесилен: летал почти каждую ночь, снижая или набирая высоту по своему желанию, проходил сквозь стены и двигал предметы – от нашего дубового стола до соседского сарая. И уже в моей московской молодости, когда я иногда часами просиживал в третьем зале «Ленинки», я наткнулся на фразу Ницше, которая напомнила мои детские увлечения: «Надо научить глаз заставлять приближаться к себе!» То есть всё наоборот! И только одно это знание частично изменило мою жизнь.
Тренировал я его на всех, но чаще всего, естественно, на симпатичных девушках. Иногда весьма успешно.
9 мая 1945 года мне было шесть лет и шестнадцать дней. Накануне к нам пришли две мои двоюродные сестры – обе близкие подруги мамы и почти её одногодки (мама была в своей поповской семье последней – двенадцатой!). И они остались у нас ночевать. Мы жили на окраине города, и только у нас, поскольку мама была учительницей, было радио! Рано утром я проснулся от радостных криков, счастливых слёз, смеха… Меня вытащили из кроватки (я эту картинку «сфотографировал» в памяти до мельчайших деталей на всю свою жизнь!), и мама попросила меня бежать ко всем нашим соседям и «оповещать» их о великом событии: КОНЧИЛАСЬ ВОИНА!!! Я побежал босиком в одной майке и трусиках к нашим самым близким соседям-татарам. «Тётя Банат! – закричал я во всё горло. – Война кончилась!», и тётя Банат заголосила, заохала, заахала и, схватив меня в охапку, потащила на «гульбище» второго этажа – только у татар были тогда такие дома. Там завела меня в комнатку, открыла сундук и стала пихать мне в майку деньги! Рубли, трёшки, пятёрки!.. И я тут же «прикинул», сколько же я сегодня заработаю и как порадую маму! Но татар, увы, по соседству больше не было, и, как я ни надрывался, ни один сосед не дал мне ни копейки! Но в любом случае это было моё первое публичное выступление, за которое по тем меркам я получил солидный гонорар! И конечно, я воспринимаю этот случай как одно из чудес!
А вот три эпизода, связанных одной темой, – один в детстве и два в зрелом возрасте. Мне было десять лет, когда я внезапно и страшно заболел. Я лежал дома почти в беспамятстве, мама была в ужасе от моей температуры – 41,2, и тут я вдруг увидел на нашем большом шкафу старичка-карлика ростом чуть меньше метра с небольшой седой бородкой и узкими глазами. Он как-то очень легко и бесшумно спрыгнул со шкафа прямо на мой больничный столик и стал чего-то бормотать и делать руками какие-то пассы. В это время зашёл отец, встречавший скорую помощь, и старик пропал. Отец поднял меня и посадил к себе на плечи – я прекрасно помню всё то, что я видел с громадной, как мне тогда казалось, высоты, и я с удовольствием и ясным сознанием ему сказал: «Папа, я сейчас умру», и я хорошо помню, что смерть была совсем рядом, где-то надо мной у самого потолка – стоило только протянуть руку. И я, кажется, так и сделал! Но в тот раз не достал. Меня отвезли в больницу, отец просидел всю ночь в коридоре перед моей палатой, а на следующий день я проснулся абсолютно здоровым. Никто ничего не мог понять, врачи меня продержали у себя две недели и в конце концов отпустили, поставив диагноз: «Отравление неизвестным ядом пищевого происхождения».
Сосед моего детства Шурик Каковкин после долгих мытарств сначала в Суворовском, потом в военном училище, а потом ещё и в армии приехал в Ленинград и поступил в Академию художеств на искусствоведческий факультет. А ещё через некоторое время стал учёным-востоковедом, а потом и доктором наук, и работал всю жизнь в Эрмитаже в отделе Востока. В 1971 году меня решили отправить с мосфильмовской делегацией в Будапешт, и когда Шурик об этом узнал, он дал мне номер телефона своего друга-коллеги – директора Будапештского музея Востока. Я ему позвонил из гостиницы, и мы встретились. После замечательной экскурсии по музею мы сидели в его кабинете и пили чудесное венгерское вино. Над его столом висела большая фотография конца XIX века, на которой на фоне старинных ворот буддийского монастыря в несколько рядов сидело человек сорок тибетских монахов в разных одеждах, судя по тону и покрою. Я уже тогда занимался йогой, китайской философией и особенно буддизмом, и меня эта фотография буквально притягивала к себе. Я не мог оторвать глаз от трёх центральных фигур, две из которых, обрамляющих главную, были одеты почему-то в контрастные чёрно-белые одежды. Кроме того, на фоне седобородых и толстых монахов они казались тридцати-сорокалетними. Больше всего мне нравился монах, сидящий справа от самой центральной фигуры, то есть далай-ламы; мне показалось, что он мне кого-то напоминает. Я попросил у директора увеличительное стекло и стал рассматривать его внимательней. У меня было чувство, что он смотрит куда-то далеко внутрь меня. Я спросил у директора, почему самые молодые сидят в центре. Он засмеялся и сказал, что это самые старые. Я не помню, какого возраста был далай-лама, но обоим панчен-ламам, сидевшим справа и слева от него, было на то время, по словам директора, по девяносто лет. Я снова стал его разглядывать – мне казалось, что я видел где-то и когда-то его клинообразную седую бородку. И уже ночью в номере, когда я сидел в позе лотоса и бормотал: «ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ», меня словно пронзило – это был мой старик-карлик, излечивший меня от неизвестной болезни, когда мне было десять лет!
Ещё через несколько лет я познакомился с удивительным человеком – Альбертом Леонгом, американским китайцем, заведующим русской (!) кафедрой в Орегонском университете (город Юджин), и он стал посылать мне самую редкую и лучшую литературу по восточной философии, йоге, буддизму и даосизму по мере моего продвижения. Я тогда страстно увлёкся Тибетом и тибетским тантризмом – Альберт Леонг снабдил меня уникальными практическими книгами, где объяснялся каждый шаг и каждое слово тибетского пути к «освобождению». Однажды в своей медитации я дошёл «до предела»: осознавая, что я сижу в позе лотоса, я летел с бешеной скоростью вертикально вверх, как ракета, сквозь гудящее пламя, рёв, визг, скрежет! И вдруг из темноты на меня стали вылезать тибетские демоны и чудовища – «стражи нирваны» – точно такие, какие нарисованы на стенах буддийских храмов и буддийских иконах-танках. И – это я тоже называю чудом – среди всех этих чудовищ, словно их вытесняя, появилось лицо Ульянова-Ленина! Я по-настоящему испугался и «повернул назад». До этой «точки» в моей медитации я доходил ещё два раза, и каждый раз среди демонов появлялся «наш родной Ильич»! И всё-таки наступил момент, когда я попробовал «прорваться» сквозь всех этих демонов, но гул, рёв, какая-то неведомая до этих пор вибрация, ещё большее пламя и ещё более страшные морды демонов, включая морду вождя Мордора – Ильича, снова меня испугали. И тут где-то вверху справа появился мой старик с седой бородёнкой и на русском языке пронзительно мне закричал: «ИДИ! ИДИ! ИДИ!» Я испугался его ещё больше и в третий раз «повернул назад», а он яростно плюнул в мою сторону и грязно выругался: «Тьфу!.. твою мать!» И ровно через неделю я получаю бандероль с книгой от Альберта Леонга, в которой описывается последняя тантрийская медитация – «выход в нирвану». Привожу её по памяти в переводе с английского: «Эту практику необходимо выполнять только в присутствии Учителя. Он встаёт с правой стороны от адепта, сидящего под ним в позе лотоса, и когда наступает самый решительный момент, Учитель кричит: “GO! GO! GO!!!”» Намного позже в одной из книг Альберта я нашёл объяснение и этому чуду. Учитель может являться ученику «из Пустоты», если они были тесно связаны каким-то образом в одной из прежних жизней. И у меня обо всём этом есть стихи:
- Одноглазый посол и кротов, и летучих мышей —
- ты не раз заходил уже в тени гробов, но был выгнан взашей:
- видно, рано ещё, видно, главного ты не нашёл,
- видно, раны не так глубоки, и гамбургский счёт не пришёл.
- А твои лабиринты, твои закоулочки сумрачных нор,
- как и мёртвые петли – слепые ночные – пустой разговор
- одного полушария мозга с другим полушарием, как
- с дураком иногда говорит ещё более глупый дурак.
- Так давай, погребай себя заживо – но смелее, без страха! —
- в мозговых катакомбах извилин слепящего мрака!
- Падай камнем на дно! Может, дастся тебе этой ночью
- иль спозаранку
- Величайшее Чудо: со всею Вселенной вдруг вывернуться
- наизнанку!
Нирвана
А в том, что в какой-то из прежних жизней я был буддийским монахом, у меня нет никаких сомнений. В 1969 году я впервые оказался в Монголии, в которую с первых же дней влюбился раз и навсегда. И всё время хотел попасть в буддийский монастырь. И однажды попал. И как заворожённый простоял там всю службу – около пяти часов! А уже в середине семидесятых годов, когда я погрузился в буддизм «с головой», я оказался на кинофестивале в столице Бурятии Улан-Удэ и всё время уговаривал организаторов фестиваля устроить нам экскурсию в бурятский дацан. Наконец они согласовали наш визит со всеми инстанциями, и мы (актёры, режиссёры и те, кому захотелось туда попасть) на большом автобусе приехали в главный монастырь Бурятии. Когда мы все «вываливали» из автобуса, я мельком увидел у ворот монастыря трёх, как мне показалось, нищих, с одним из которых я на сотую долю секунды встретился глазами, как говорится, только «чиркнул глазом». Мы пробыли в монастыре больше двух часов, и все мои попытки завязать знакомство с каким-нибудь монахом заканчивались полным провалом – думаю, что все были предупреждены, поскольку наш визит был согласован «по партийной линии». Но когда уже почти в полной темноте мы выходили из дацана, меня кто-то осторожно похлопал по плечу. Я обернулся и увидел того самого «нищего», с которым я переглянулся при выходе из автобуса.
Он мне молча показал на дверь маленькой сторожки прямо в воротах монастыря и пригласил зайти. Я зашёл, а он из подола вывалил на стол несколько предметов – три статуэтки Будды из позолоченной бронзы, две «Тары», два-три устрашающих демона, а также бронзовые чайничек, колокольчик и чашу для зёрен (необходимые для службы). Я сразу увидел, что некоторые вещи тибетского происхождения и явно XIX или даже XVIII века. Я спросил: «Сколько?» Он: «Всё пятьдесят рублей». Я: «А почему так дёшево?» Он: «Так не моё же!» Я: «А почему вы подошли ко мне?» Он: «А к кому же ещё?» И в тот момент я вспомнил даосский закон «Подобное притягивается подобным» и подумал: «А не вернулись ли ко мне те “предметы культа”, которыми я, будучи в одной из прежних жизней тибетским монахом, пользовался во время многочасовых молений и медитаций?» Во всяком случае таким неожиданным для себя образом я оказался обладателем неплохой коллекции буддийской бронзы. Но у меня начались безумные ночи: мне стали являться всякие Ямантаки, «стражи нирваны» в устрашающих обликах и прочие ламаистские демоны. На моё счастье, как раз в это время жизнь свела меня с человеком, который несколько лет был моим учителем ушу и тайцзицюань. Он сказал, что, пока я не выну из этих статуэток бумажные ленты с заклинаниями, у меня будут продолжаться ночные кошмары и в конце концов я «попаду в тантрийский ад», то есть попросту сойду с ума. И на самом деле, в каждой статуэтке днище было запаяно оловянной пластиной, а под ней лежали свёрнутые узенькие полоски древней бумаги, на которых были написаны очень красивыми тибетскими буквами слова – сотни и тысячи слов. Я сдуру выкинул все эти бумажные ленты, но зато все ночные кошмары тут же прошли.
В конце 1947 года моего отца «направляют», а практически ссылают (вместе с семьёй) в павлодарскую полупустыню в ста километрах от границы с Китаем в село Ленинское и назначают директором школы-интерната для детей «врагов народа». В селе было десять-пятнадцать дворов, в которых жили и работали поволжские немцы, высланные сюда в самые первые дни войны. В интернате было около ста завшивленных, запущенных и больных туберкулёзом детей всех национальностей – тех же немцев, чеченцев, ингушей, украинцев и даже испанцев, китайцев и корейцев. Моя мама прекрасно понимала, что в нашей жизни случилось нечто страшное и почти безнадёжное. И тут произошло то, что я называю чудо с минусом: моя сестра заболевает туберкулёзом, и мы втроём – мама, сестра и я – возвращаемся в Алма-Ату, где нас с мамой пригревает у себя одна из моих тётушек, а сестра попадает в больницу. Мама сочиняет десятки писем, которые переписывает детским почерком сестра, и все эти письма отправляются нашим великим вождям – Сталину, Ворошилову, Калинину, Берии и т. д. И каким-то чудом отцу разрешают уехать из села Ленинское, и он едет к себе на родину – в вятские края, чтобы перевезти и нас туда. Но разруха, голод, холод и безнадёжное убожество российской послевоенной жизни заставляют его вернуться в Азию.
Я учился в Алма-Ате в мужской 33-й школе. В ней же и жил. После неудачной поездки в Россию моего отца направили в эту школу преподавать химию, ботанику и зоологию и на время (до полугода) поселили в крохотную комнату, где раньше хранились вёдра и швабры уборщиц. И каким-то образом (чудом?) я попал во второй «А», где классным руководителем была Мария Ивановна Гуданец – высокая красивая женщина, курившая папиросы прямо на уроках (впрочем, как и остальные курящие учителя – в те времена все оглядывались на Вождя всех народов, которого даже на парадных портретах изображали с трубкой в руке.) Мария Ивановна отбирала в свои классы не детей, а родителей: в нашем классе учились три генеральских сыночка, один сын дипломата, дети работников Совмина, директоров заводов и фабрик и т. д. и т. и. (Самое удивительное – в случае с нашим классом она оказалась права на все сто процентов: десятый «А» 33-й алма-атинской школы в 1956 году закончили десять (!) медалистов.)
Мой отец проработал в нашей школе чуть больше года. В 1949 году в июле он погиб в горах при загадочных обстоятельствах – ни одного свидетеля! Правда, он был убеждённым генетиком и никогда этого не скрывал, а в августе 1948 года в СССР началась большая чистка в советской биологической науке – с посадками и расстрелами. Гонение на генетиков! Которое готовилось, как мы поняли на своей шкуре, всего-то полтора года назад. И мы – мама, сестра и я – остались в этой крохотной комнатушке ещё почти на восемь лет! И это тоже было чудом: восемь лет, пока нам не дали две комнаты в коммуналке на окраине города, я жил в десяти-двенадцати шагах от своего класса! (Два шага от моей двери до лестничного пролёта, три шага сама лестница, следующие два шага – дверь в учительский туалет и три-четыре шага до входа в мой класс!) И естественно, был героем – во-первых, меня знала вся школа, а во-вторых, не было дня, чтобы я не опаздывал на какой-нибудь урок, потому что на все перемены шёл к себе домой к своим птичкам! А после смерти отца у меня остались две двустволки: одна – английская 12-го калибра, а другая, детская, но тоже очень серьёзная – оба её ствола стреляли наганными патронами (калибр патрона 7,62 мм, а диаметр пули 7,8 мм), но один из стволов был гладким, специально высверленным (скорее всего, тем же мастером, который её делал) для стрельбы очень мелкой дробью по небольшим птицам, из которых отец делал невероятно «живые» чучела. Занятия в школе начинались в 2:30 дня, а так как до горных склонов от моей школы было очень близко, то я раз или два в неделю вставал в пять-шесть часов утра и успевал «сходить в горы» на ловлю птиц или по воскресеньям в компании друзей на охоту (осенью и зимой в горах было много дроздов и диких голубей). А к оружию в послевоенные годы у наших «правоохранительных органов» было очень снисходительное отношения. Всего лишь один раз мою маленькую двустволку у меня отобрал молодой мент, но, на моё счастье, дочка начальника отдела милиции оказалась ученицей моей мамы, и я тогда первый раз в своей жизни столкнулся с наглым лжесвидетельством. Мент вытащил из кармана боевые патроны для нагана и заявил, что эти патроны он «изъял» у меня! К счастью, у меня были гильзы с высверленными донышками для больших охотничьих капсюлей, и мент-лжесвидетель был посрамлён!
Следующим чудом в моём детстве были мои способности почти ко всем видам спорта – я с успехом занимался в секции акробатики, меня уговаривали заняться боксом, гимнастикой; летом – баскетбол, зимой – коньки и хоккей, но! В одиннадцать лет мне отвратительно сделали операцию аппендицита, у меня начался перитонит, меня снова вскрыли, промыли, и я чудом остался жив. И! Ровно год я ходил с палочкой на всякие облучения и перевязки, и в это время я просто вынужден был читать! Причём читал запоем и всё подряд. А когда у меня затянулся последний свищ, мои ровесники обогнали меня в спорте настолько же, насколько я обогнал их в чтении, и спорт мне стал неинтересен. И это я тоже считаю великим чудом для всей моей будущей жизни! ГОСПОДЬ, или НЕЧТО, его заменяющее, остановил моё возможное продвижение на спортивной арене и полностью изменил вектор моего развития. Зато позже на всех вечерах и танцах, которые устраивали старшеклассники, я сначала был зрителем, а уже с седьмого класса – участником! Я быстро научился танцевать вальс и танго, а потом и фокстрот! Тут мне помогли фильмы, «взятые в качестве трофеев»! Раз десять я смотрел «Серенаду Солнечной долины», «Петер» с блистательной «мальчиковой» Франческой Гааль и по нескольку раз массу всяких немецких, английских и американских фильмов. По субботам я старался более или менее «прилично» одеться, насколько мне позволяла мамина нищенская зарплата, и, когда до нашей комнаты доносилась музыка, выходил в коридор. Затем, пройдя родные двенадцать шагов, входил в зал, где уже крутились пары. Зал в нашей школе был придуман довольно остроумно: в трёх классах, находившихся на втором этаже, включая и мой, были тонкие, но плотные стены, которые при необходимости поднимались лебёдками, стоявшими на чердаке, прямо в полые и более толстые стены классов третьего этажа. А парты выносились в коридор и ставились друг на друга в два, а то и в три ряда. (До шестого класса в дни праздников и вечеров эти ряды парт в тёмном коридоре были самым притягательным местом игры для меня и ещё двух парнишек – детей уборщиц, которые тоже жили в нашей школе.) В зале я выбирал какую-нибудь хорошо танцующую девочку и приглашал на танец. Лучше всего у меня получался вальс, и однажды я так разошёлся, что моя партнёрша споткнулась о свою собственную ногу, а я не сумел её удержать. Бедная девочка покатилась по полу, все очень смеялись, а девочка горько плакала. Я переживал не меньше её.
Ещё с четвёртого класса наша Мария Ивановна начала ставить всякие спектакли. Главные роли всегда играли наши первые отличники (как правило, дети очень важных родителей!), а дальше уже шли середняки, в числе которых всегда был и я. И каждый раз, когда я смотрел на бездарную игру отличников, у меня всё внутри переворачивалось, поскольку я точно знал, что я бы сыграл лучше! И эта традиция была до седьмого и восьмого класса, пока наш класс не начал приглашать на вечера седьмой или восьмой «А» из женской школы № 19, которая находилась в четырёх кварталах от нашей. Вот тут даже учителя поняли, что отличники отличниками, но надо и «товар лицом» выдавать! И я стал играть главные, в основном комические роли. В восьмом «А» девятнадцатой женской школы было много симпатичных девочек, но самой ослепительной была Галя Велижанинова – громадные «пушистые» глаза, восхитительная, уже почти оформленная фигура и роскошная коса, которую она иногда закручивала на голове, а иногда просто оставляла висеть чуть не до пят. И все наши отличники вздрогнули! Первым провожать её по окончании вечера вызвался «звезда» нашего класса Виталий Савельев, который с ней больше всех и танцевал. А жила она за Пугасовым мостом, на речке Малая Алматинка, и вверх по речке до её дома надо было ещё с километр идти в кромешной азиатской тьме по узенькой тропинке. На следующий день все узнали, что Савельева крепко побили какие-то хулиганы. После очередного вечера её провожал уже сын дипломата Вадик Макаров, но и его тоже побили. Зато появилась и информация: недалеко от дома Гали Велижаниновой жил шестнадцатилетний чеченец, который заявил, как пушкинский Онегин: «Она моя!», хотя сам он ни разу с ней не встречался и не говорил! У этого чеченца, которого звали Адам, уже была небольшая, но крепко сбитая банда, а поскольку он жил в «моём» районе, то в нашей школе я о нём уже слышал. И наконец наступил вечер, когда ни один отличник не осмелился пригласить её на танец!
У меня в детстве было очень мало драк, я был словно заговорённый. Когда я учился в первом классе, а Шурик уже во втором, он мне пожаловался, что его кто-то в классе обижает. Я вызвался защитить Шурика. И когда у них закончились уроки, я встретил обидчика моего друга, вокруг которого стоял весь его класс, и, можно сказать, при всех вызвал его на дуэль! Дуэль началась прямо у входа в школу, и для меня самым большим потрясением оказалось то, что все вокруг почему-то болеют за моего противника! А не за МЕНЯ!!! И я точно знаю, что я проиграл моё сражение только поэтому! Да ещё мне разбили нос, а по кодексу школьных драк «дерутся до первой крови»! И я заревел только из-за несправедливости – во-первых, что все болели не за меня, а «за этого мерзавца», и, во-вторых, я точно знал, что сил побить его было у меня достаточно. Когда я, всхлипывая и утираясь, рассказывал всё это моему отцу, он сказал мне фразу, которая осталась у меня в голове на всю жизнь: «Сынок, если тебя и побьют, ничего в этом страшного нет».
И вот тогда, на вечере, вспомнив эти замечательные слова отца, я с удовольствием пригласил Галю Велижанинову на танго! Потом на вальс! Потом на фокстрот! И мы с ней всё время танцевали, и я пошёл её провожать по очень мне знакомой тропинке, по которой я ходил в горы на охоту или на ловлю птиц. Тьма была страшной – ни луны, ни звёзд. Пахло цветущей сиренью и прохладной сыростью от грохочущей в двух метрах от нас горной реки. Мы держали друг друга за руки, чтобы в темноте помочь оступившемуся… И тут я услышал в кустах какие-то шорохи – то справа, то слева, и сердце моё бешено забилось. Но я уже тогда был артистом! Я стал рассказывать ей какую-то весёлую историю, а она преувеличенно смеялась; я тоже смеялся, и когда мы вышли на более или менее освещённую площадку, нас окружили трое или четверо парней. Я мгновенно заметил, что двое из них курят. И я, не останавливаясь, обрадованно вскрикнул: «Здорово, ребята! Как хорошо, что вы здесь! Угостите папироской! Я живу в тридцать третьей школе на втором этаже и завтра же подарю вам коробку “Казбека”. Только обязательно приходите!» Они оторопело молчали, и как под гипнозом один из них протянул мне папиросу. А кто-то вышел из темноты и дал мне прикурить от самодельной зажигалки. И в её свете я увидел напряжённое лицо молодого чеченца. «Тебя зовут Адам? – спросил я его. – Ты нохч?» – «Да», – с достоинством и спокойно ответил Адам. Это был он. И, повернувшись к парням, добавил: «Этому можно». И они тут же растворились в темноте. А мы через пять минут были у Гали дома, и её мама угощала нас чаем и охала и ахала, когда дочка рассказывала ей, какой я бесстрашный. Мама настаивала на том, что обязательно пойдёт меня провожать, но я категорически отказался, потому что знал, что со мной в этот вечер ничего не случится. Мы с Галей влюбились друг в друга мгновенно, но! На следующий день пришли бумаги, по которым наша семья в кратчайший срок должна была переезжать в настоящие две комнаты в настоящей квартире с ванной, кухней и туалетом! Правда, с соседями и в противоположном конце города, но это было настолько невероятным счастьем, что моя влюблённость в Галю Велижанинову как-то незаметно, с хлопотами, отодвинулась на второй план. Ко всему прочему больше не было танцевальных вечеров, потом начались экзамены, потом переезд, новая школа и первый год совместного обучения с девочками! Да ещё после мужской школы! А в новом классе три Лиды – одна лучше другой: Лида Стрыгина, Лида Парамонова и – Лида Шишкина, моя самая первая любовь! И когда, оказавшись после демонстрации Седьмого ноября в центре города, я увидел на противоположной стороне проспекта Калинина – нашего алма-атинского Бродвея – Галю Велижанинову, я ахнул! Красавица! Рысь! Снежная Барсиха! Только вместо хвоста у неё была роскошная коса, которой играл идущий прямо за ней высокий, красивый, модно одетый парень! Он подбрасывал её косу и тут же ловил. И снова подбрасывал. И снова ловил. И ещё подбрасывал, и ещё ловил! А она важно шла, словно не замечая своего ухажёра, и что-то сыто мурлыкала своей подруге.
После смерти отца я оказался почти беспризорным: мама около года была в больницах – то в одной, то в другой; сестра – в туберкулёзном санатории, а я жил у двух тётушек попеременно. Одна из них купила самый крутой по тем временам радиоприёмник «Балтика» – это было как «Мерседес» по сравнению с нашими «Москвичами». Я уже тогда стал увлекаться музыкой: у нас был патефон, и я коллекционировал полузапрещённые тогда пластинки Вадима Козина, Петра Лещенко, Изабеллы Юрьевой, Александра Вертинского и др. И однажды, ещё до тётушкиной «Балтики», я услышал настоящий джаз! На «рёбрах и черепах», то есть на самодельно сделанных пластинках из больших рентгеновских снимков грудной клетки, черепов, тазобедренных суставов и прочих органов неведомых мне пациентов! И я променял всю свою коллекцию Козина и Ко. на пачку «черепов и рёбер»! И часами слушал Эллу Фицджеральд, Луи Армстронга и Дюка Эллингтона до тех пор, пока они не превратились в настоящие ошмётки. А когда я ночевал у тётушки с «Балтикой», то ночами ловил джаз на этом фантастическом приёмнике. Тётушка даже выставила в коридор мой диванчик, чтобы я не мешал ей спать. И однажды (о, чудо!) я впервые услышал «Голос Америки»! И сквозь всякие завывания и хрипы я наслушался ТАКОГО, что мне стало СТРАШНО! Но страх был совсем не от того, ЧТО я услышал, а от того, что я мгновенно поверил во всё услышанное. И про Ленина, и про Сталина, и про Берию, и про все расстрелы, пытки, лагеря и т. д. и т. п…После этого дня каждое событие, каждая статья в газете или каждое собрание в школе, а потом в институте проверялось (и поверялось!) мной по всяким «вражеским голосам». У меня хватило ума ни с кем это не обсуждать – здесь, возможно, проявились гены моего дедушки-священника, которого замучили пьяные чекисты в 1919 году в селе Красногорское Тобольской губернии, а также всех моих родственников, которые сбежали от преследований большевиков сначала в Ташкент, а потом в Алма-Ату. И я более всего благодарен Судьбе именно за этот подарок: через вой, свист и скрежет глушителей (очень, кстати, похожие на устрашающие звуки на пути к тибетскому освобождению и просветлению) – первый шаг к ПРОСВЕТЛЕНИЮ и ОСВОБОЖДЕНИЮ моего сознания от ленинско-сталинской подлой галиматьи!
В 1948 году, как раз в то время, когда отец подыскивал нам новое местожительство в Вятской губернии, мы жили у другой моей тётушки. Её муж работал где-то бухгалтером и приходил всегда поздно ночью и тут же со словами «Поживу хоть немного!» ложился спать вместе с тётушкой на единственную кровать в большой (относительно) комнате. Старшая дочь вышла замуж за младшего лейтенанта НКВД, и они спали в маленькой комнатке. А мои две другие двоюродные сестры, моя мама и я спали на полу. Почти каждую ночь в три часа я должен был бегать «на переклички» в свою очередь – у меня на руке чернильным карандашом всегда был написан какой-нибудь четырёхзначный номер, «как в немецком концлагере», и я почти по спящим телам моих сестёр пробирался к выходу. В 1948 году были чудовищные очереди за хлебом – иногда они доходили до двух рабочих дней! Если же «давали» муку, то очередь могла длиться до двух-трёх суток. Тогда всю очередь (а она, как правило, занимала полный квадрат четырёх кварталов, из которых состояли все районы центральной части Алма-Аты) разбивали на сотни, а потом каждую сотню – на десятки, и так получалось, что «дежурным» по своей десятке всегда был я. А днём почти все должны были выстаивать подобные очереди. И однажды, часа в три невероятно жаркого летнего дня, раздались какие-то крики, и я успел увидеть, как к молодому человеку, по всей вероятности студенту, державшему в руках убогий фотоаппарат «Любитель», кинулись какие-то свирепые дядьки и тётки, вырвали у него аппарат, стали его бить и орать на всю улицу: «Милиция! НКВД!» Тут же появились и те и другие, и беднягу, уже всего в крови, поволокли какие-то полувоенные люди! Потом вся очередь взахлёб хвасталась, что «поймали шпиона!». У меня вся эта история вызвала только рвотноподобные реакции, и это я тоже считаю небольшим, но важным чудом – ведь мне было тогда всего девять лет! А параноидальная «шпиономания» продолжалась чуть ли не до XX хрущёвского съезда. Когда я закончил девятый класс, я с большим трудом накопил деньги на фотоаппарат «Зоркий» – в два-три раза больше работал в яблочном совхозе «Горный гигант», примерно во столько же раз больше делал клеток для чижей и щеглов и был бесконечно счастлив! В самые жаркие дни я уходил в свой любимый Парк культуры, где был очаровательный пруд, правда, с не совсем «кристально чистой» водой, поскольку берега у пруда были глинистыми, но нас это нисколько не волновало. В одном месте берег выдвигался прямо в пруд довольно высоким четырёхметровым холмом, и там собирались самые отважные пловцы и прыгуны, среди которых был и я. Это было нечто! Однажды там появился элегантный мужчина с лучшим по тому времени аппаратом «Лейка» – у меня отвисла челюсть, когда я его увидел. Он это сразу заметил и стал со мной «наводить мосты». В те годы почти никто ничего не знал о гомосексуализме – дня за два до нашего знакомства ни один человек на нашей глиняной скале не обратил внимания на то, что модный мужик с фотоаппаратом уговорил одного мальчика позировать ему абсолютно голым: сказал, что он художник и пишет сейчас картину «На пляже»! Я тоже ничего об этом не знал, но интуитивно мне это совсем не понравилось. Он, вероятно, заметил, как жадно я смотрю на его фотоаппарат, но его порочная фантазия, скорее всего, его обманула, и он смело подсел ко мне и стал меня обрабатывать: предложил мне стать его «секретарём», назвал себя писателем, художником, фотографом журнала «Огонёк» и т. д. и т. п. «Мы поедем высоко в горы, там у меня есть комфортное бунгало, а за твою помощь в работе я буду платить тебе хорошую зарплату», – и назвал мне сумму, о которой я и мечтать не мог! А самое главное, он подарит мне «Лейку»! Я уже был готов закричать: «Я согласен!» – но он в некотором возбуждении, которое я тут же почувствовал, полез ко мне в трусы. В общем, каким-то «предопытным» чувством я понял, что мне от него и его фантастической «Лейки» надо бежать сломя голову, что я и сделал, придумав какие-то спешные и нелепые отговорки. Но тут происходит ещё одно странное совпадение – моя сестра оказалась в компании вполне симпатичных людей, часть из которых была махровыми идеалистами-комсомольцами. Главенствовал в этой компании Боря Уткин – старший брат моего соседа по парте Стасика Уткина (о Стасике будет рассказ позже), он был секретарём комсомольской организации нашей школы. И на следующий день я оказался в их доме и рассказал историю с «Лейкой». И – мгновенно, не сговариваясь, все вскрикнули: «Так он же шпион! Надо срочно принимать меры!» Эту историю я тоже считаю небольшим, но важным для моей дальнейшей судьбы чудом: всю мою юношескую жизнь я чувствовал себя мишенью педерастов – интеллигентных, изящных, знаменитых и богатых, а также примитивных, наглых, но всегда в чём-то для меня омерзительных; я всегда сравнивал их с кагэбистами – и у тех и у других вся их принадлежность «к особому кругу» была чётко написана на их физиономиях!
В тётушкином одноэтажном доме было несколько квартир, и вечерами дети всего нашего дома собирались во дворе и играли во всякие незамысловатые игры. Когда с триумфом прошёл американский фильм «Робин Гуд», «взятый в качестве трофеев», все мы понаделали луков из дубовых веток, стрел из сухого камыша, а наконечники – из консервных банок. Наконечники были очень острыми и эффектно впивались в любое дерево или доску. Однажды вечером, когда уже было темно, напрочь забыв «самый главный закон охотника – никогда не целиться в человека даже палкой», я понарошку прицелился из лука в своего соседа, но не удержал тетиву, и стрела, как нам всем показалось, впилась ему прямо в глаз! Он завопил как резаный, но, к счастью, стрела попала ему не в глаз, а в бровь! Ровно на три миллиметра над глазом! Скандал был чудовищный, но все только и говорили: «Всего в каких-то трёх миллиметрах!», «Если бы не три миллиметра, он бы его убил!» и так далее. Так начались мои настоящие чудеса с этими загадочными тремя миллиметрами.
Каждое лето я отправлялся на все летние каникулы к брату моей мамы в Тюменскую область на мамину родину. Мой дядюшка был талантливым и прирождённым доктором – он единственный избежал преследований чекистов, поскольку лечил не только уездное, но и всё губернское начальство со всеми их жёнами, любовницами и родственниками. А о том, что он был знаменитым врачом во всей Западной Сибири, я узнал, когда пацаном в 1952 году ехал в переполненном вагоне из Омска в Ялуторовск. Лёжа на третьей полке, я вдруг сквозь полудрёму услышал какие-то невероятные истории о каком-то волшебнике и маге, который лечит ВСЕ болезни ВСЕМ, кто к нему обращается, и который живёт в зерносовхозе «Коммунар», куда я тогда и направлялся! Я, конечно, не выдержал и гордо заявил, что это мой дядя и зовут его не Фролентий, а Флорентий Николаевич Ржевский, и что еду я сейчас именно к нему! После насмешек и издевательств, а потом строгих экзаменов мне поверили и до самого Ялуторовска меня кормили всякими вкусностями. У «дяди Флори», как я его звал, был просторный дом с удивительным громадным чердаком, похожим на заброшенный музей, где я сразу же обосновался, чтобы не беспокоить хозяев, – на крышу был отдельный ход, и я мог в любое время ночи возвращаться «домой» после деревенских романтических посиделок. Каждое лето мой дядя устраивал меня на «работу» – покос сена для больничных лошадей, где я верхом на лошади управлял волокушей, то есть подвозил скирды к громадному, как мне казалось, стогу сена, а в обеденные перерывы или вечерами мы (волокушники) носились на наших лошадях, как индейцы. Покосы для больницы выделялись довольно далеко, и я всегда сидел на облучке брички и управлял лошадью, чему, естественно, был несказанно счастлив. В одно лето больница купила великолепную молодую кобылу, и мы все (и особенно я) не могли на неё нарадоваться. Я всегда управлял «главной» бричкой, в которой сидел мой гениальный дядюшка, и в тот раз, о котором идёт речь, мы почему-то замешкались и выехали уже под вечер. Дорога была хорошо укатана и шла между уже темнеющими перелесками, кобыла бежала иноходью (что было большой редкостью), и, когда впереди показалась сплошная линия тёмного леса, через который шла дорога, наша кобыла этого леса испугалась и стала как вкопанная. А я, как заправский ямщик, стал цокать, нокать и в конце концов огрел её хорошенько кнутом. И тут случилось «нечто»: за сотую долю секунды я почувствовал Катастрофу, Большую Беду, возможно, СМЕРТЬ и, как на занятиях по акробатике, сделал мощное сальто назад. И в момент моего прыжка заднее, хорошо подкованное кобылье копыто с гигантской силой и скоростью ударило по самому кончику моего носа, сломав мне хрящ, но не задев кости. Я упал без сознания прямо на колени к лучшему доктору Западной Сибири, который мгновенно перевернул меня лицом вниз, иначе бы я захлебнулся собственной кровью. И целых две недели, прикладывая к моему пухлому и чёрному лицу компрессы, мой дядюшка каждый раз бормотал: «Три миллиметра… Всего три миллиметра!..»
Кто заставил меня прыгнуть? Если бы я не прыгнул, она бы попала мне в грудь… (СМЕРТЬ!) Или в шею… (СМЕРТЬ!) Или в лоб… (СМЕРТЬ!) Если бы во время моего сальто она задела носовую кость… (Стопроцентная СМЕРТЬ!) Или верхнюю или нижнюю челюсть… (Всё одно – СМЕРТЬ!!!) А в это время Земля крутилась вокруг своей оси… Неслась вокруг Солнца… В кобыльей вселенной мгновенно родился взрыв гнева… В моей крохотной, ещё неокрепшей вселенной появился ВЗРЫВ СТРАХА, который и спас меня от смерти. Но откуда взялись эти ТРИ миллиметра?! КТО ИХ ОТМЕРИЛ? Думаю, что объяснить это можно только… Великим Чудом!
Но… Проходит каких-то шестьдесят лет, и история с тремя миллиметрами повторяется ещё раз! В 1988 году я купил половину старого здания сельской школы постройки 1904 года с намерением сделать из неё «загородную мастерскую». Мне достался один класс с двумя большими окнами и часть коридора. Между классом и коридором – громадная печь из белого кафеля, на которую можно только любоваться – для обогрева она требовала огромное количество дров. Кончилось всё тем, что я приобрёл замечательную печку – суперусовершенствованный чугунный вариант буржуйки военных лет – и вмонтировал сияющую трубу из нержавейки в дымоход кафельной школьной печи. Высота моего класса – четыре метра, высота чугунной печки – около метра, а последнее кольцо трубы-нержавейки заходит в печь на высоте чуть больше трёх с половиной метров. Раз в год и трубу, и дымоход необходимо прочищать, и вот лет семь назад, приехав ночью поздней осенью в громадную, нетопленую кирпичную пещеру и затопив свою буржуйку, я вдруг оказался в холодном и полном густого дыма классе. Я забыл почистить дымоход и трубы перед отопительным сезоном! Не буду останавливаться на деталях, как я вываливал глубокой ночью на белый снег густую сажу из всех колен трубы, как, стоя на хлипкой стремянке, вытаскивал ковшом сажу из дымохода… Наконец, когда всё было вычищено, я стал монтировать трубы с самого верха. Внизу из печки выходила короткая стальная труба, намертво приваренная к корпусу печки, на которую и нанизывались все остальные звенья. И в момент, когда я пытался глубже вставить в дымоход самое верхнее коленце, моя стремянка выскользнула из-под моих ног, а я полетел с трёхметровой высоты вниз и попал нижней губой (к величайшему счастью, вскользь!) прямо на край стальной трубы! А вес у меня 85 кг! Удар по челюсти – даже вскользь! – и на несколько секунд потеря сознания! Развалившаяся пополам нижняя губа и, как я тогда думал, страшная потеря крови! В моей аптечке оказались пачки салфеток и бинтов, две склянки настойки прополиса, несколько пакетиков белого стрептоцида и пакет бактерицидных пластырей – и всё ушло только на то, чтобы остановить кровь. Но что-то, видно, произошло и с мозгами (небольшое сотрясение?): остановив кровь, я тупо снова полез наверх, установил все трубы, зажёг печь и только после этого поехал в травмпункт ближайшего райцентра, где мне в три часа ночи молодой доктор на удивление изящно зашил губу. А после расспросов о моей травме он сказал поразительные слова: «Вам невероятно повезло: если бы вы упали на вашу трубу всего на три миллиметра ближе, мы бы с вами сейчас не разговаривали – у вас были бы срезаны носовые кости, а это СМЕРТЬ!»
Наша славная мужская 33-я школа была одной из самых спортивных и одновременно самых бандитских школ в городе. «Главными» видами спорта были баскетбол и бокс. Ну и, конечно, после того, как открыли высоко в горах каток «Медео», коньки! Один из наших десятиклассников (я даже помню его имя – Володя Мухамеджанов) играл за сборную баскетбольную команду СССР! А у меня перед глазами каждый день было баскетбольное поле во дворе моего дома-школы. И как только выдавалось свободное время, я играл в баскетбол как угорелый до самой темноты, и моя мама очень часто звала меня «домой» из окна второго этажа нашей школьной комнаты. На первом этаже у нас был громадный физкультурный зал, в котором почти каждый месяц проходили заседания судов (в основном над бандитами из нашей же школы). Весь седьмой класс со мной за одной партой сидел странный парень Стасик Уткин – худой, бледный, всегда спавший на уроках, потому что ночами, как он говорил, работал в гараже Центрального парка. Его старший брат, как я уже сказал выше, был комсомольским секретарём нашей школы. Понимая, что Стасику приходится работать по ночам в гараже, я никогда не был против, если он списывал у меня всякие домашние задания. Он был очень стеснительный и молчаливый, и с ним никто не дружил. Когда я переехал в новую школу, я попал на какое-то время в юношескую баскетбольную команду алма-атинского «Динамо» и каждый свободный день (от птиц, охоты и занятий в школе) через весь город ездил на тренировки на стадион «Динамо». Руководила нашей баскетбольной группой алма-атинская знаменитость – гигант-чеченец Уайс Ахтаев, его рост, как нам говорили, был 2 метра 14 сантиметров! И вдруг – весь город буквально «встаёт на дыбы»! (Я узнал об этих страшных событиях как раз на стадионе «Динамо», где шли тренировки.) Открылась банда убийц, которыми руководил заведующий тем самым гаражом, в котором «работал», по его словам, Стасик Уткин! Они орудовали довольно долго, разъезжая по ночному городу на гаражной «полуторке», и успели убить и ограбить десятки жертв. Суд проходил в спортивном зале моей бывшей 33-й к тому времени уже не мужской школы, и Стасику за два жестоких убийства, которые совершил лично он, «по малолетству» дали десять лет колонии строгого режима. А в январе 1959-го, всего через четыре года после суда в 33-й школе, случилась наша «яркая» поездка на Кольский полуостров, и мы с Кидом Кубасовым стояли в дверях вагона, сплошь покрытого ледяными наростами и сосульками, на станции Оленегорск (для нас конечной) и ждали, когда под нами вдоль нашего поезда пройдёт нескончаемый, как нам казалось, этап заключённых – под свирепый лай немецких овчарок и хриплый мат вертухаев-охранников. И вдруг – я до сих пор считаю этот случай одним из величайших чудес моей жизни – прямо подо мной при сполохе полярного сияния один из зэков поднял голову, и мы встретились глазами. Боже мой! Как редко в жизни я бывал так же взволнован, как в тот момент. Я буквально заорал: «Уткин!» И выпрыгнул из вагона прямо к нему в объятья. Мы оба заревели то ли от неожиданности, то ли от счастья – я уж не знаю. Но в это мгновение наступила звенящая тишина – даже собаки, по-моему, всё поняли. И – невероятная реакция командира охраны, молоденького лейтенанта. «СТОЯТЬ!» – заорал он натруженным голосом, и колонна остановилась. Казалось, лейтенант был ещё более счастлив, чем мы с Уткиным. «Вы что, родственники? – радостно улыбаясь, хрипел он. – Братья?» И Стасик Уткин сквозь слёзы выдавил: «Мы одноклассники…» И мы с ним снова блаженно заревели. Его слова услышали все – и охранники, и зэки, словом, те, кто был в радиусе нашей встречи, и тут раздались аплодисменты, как в театре! Кид вынул фляжку с водкой, и мы вчетвером осушили её «за встречу за полярным кругом»! Бог знает где! – за тысячи километров от нашей парты в 33-й школе, стоявшей всего в двенадцати шагах от моей комнаты, где я прожил целых восемь лет! И снова: КТО нас свёл? Тютелька в тютельку, как говорится! Мы только в тамбуре простояли около получаса! Да и Уткин мог пройти в первых отрядах! Получается, что больше четырёх лет мы шли разными дорогами из нашей родной 33-й мужской, чтобы оказаться в Оленегорске в семь утра кромешной полярной ночи и при случайном сполохе полумёртвого зеленоватого света встретиться глазами! Примерно через пятьдесят лет мои воспоминания о путешествии на Кольский полуостров вылились вот в такие стихи:
- Полдневный жар в долине Дагестана…
- М.Ю. Лермонтов
Ловозеро[1] 1959
- Полдневный мрак в долине лопарей.
- Декабрь. Ловозеро. И вместо фонарей
- сверкает в небе буйное сиянье
- и будит в каждом смутные желанья.
- Сна нет ни у людей, ни у зверей,
- и всякий рвётся из своих дверей.
- Здесь сроки спорные: день за год, год за день.
- От карликовой хвои летом тень
- теряется в болотистых просторах,
- а водка ценится, как соболь или порох.
- И трудно предсказуема погода.
- От преступлений здесь спасает лень, к
- ак и любовь, поскольку тьма – полгода.
- Love-озеро! Пельмени и уха.
- Любовь в санях… Олени и меха.
- Любовь в сенях на дьявольском морозе
- и споры пьяные о лермонтовской прозе.
- Ночною ночью непрерывно бдение,
- в шуршащих сполохах тревожно пробуждение.
- Love. Озеро. Мороз. Двойная мгла.
- Смерть скалится из каждого угла.
Мои занятия баскетболом тоже обернулись невероятной, смешной и очень показательной историей. В 1972 году в Алма-Ате проводился Всесоюзный кинофестиваль, и мой город принимал меня как героя, вплоть до громадной статьи в местной «Правде» и приглашения к «хозяину» – Динмухамеду Ахмедовичу Кунаеву. Однажды в полдень ко мне в гостинице подбегает восторженная молодая женщина и умоляет меня всего на полчаса приехать в «ту школу, которую вы окончили…Там сейчас проходит торжественное собрание, и вся школа ждёт вас. А главное – вас ждёт ваш лучший друг, с которым вы играли в баскетбол!». Я не помню ни одного человека, с которым я тогда играл в баскетбол, кроме уникального гиганта Уайса Ахтаева, замечательного спортсмена и очень доброго человека, который вёл наши тренировки. Но – родная школа есть родная школа, и я, естественно, тут же соглашаюсь ехать. Сажусь в машину, и она меня везёт… в противоположную сторону! Я осторожно спрашиваю: «А куда мы едем?» – «В вашу школу, а куда же!» – «Интересно, – говорю я, – она что, переехала?» Женщина весело смеётся: «Ну вы и шутник!» Мне становится интересно, чем кончится наша поездка. В конце концов меня привозят в какую-то школу «физкультурной направленности», где я никогда в жизни не был, и там меня торжественно подводят к стенду с моими многочисленными фотографиями и моей БИОГРАФИЕЙ!!! И в этот момент распахивается дверь актового зала, заполненного школьниками, из которой выскакивает какой-то сумасшедший (он же директор этой школы) и кричит во весь голос, чтобы все в зале его слышали: «Лёва, дорогой! Ты помнишь, как мы играли в баскетбол?! Расскажи, как ты не дал Арменаку Алачечану закинуть ни одного мяча!» Господи! Я не помню, чтобы я когда-то видел этого человека, не помню, чтобы я когда-нибудь играл с ним в баскетбол! А Арменак Алачечан – великий спортсмен – в 1956–1957 годах был студентом Алма-Атинского физкультурного института, и на институтских соревнованиях я на самом деле был в команде нашего пединститута. А поскольку у меня был стиль «прохода» и дриблинга, чем-то напоминающий стиль Алачечана, меня поставили его «опекать», из чего, естественно, ничего не вышло, и он «насовал» нам столько мячей, сколько никому из нас не снилось. И ведь вот что самое интересное! Меня – of all people! – всего через каких-то семнадцать лет отсутствия в городе какой-то тщеславный урод превращает пусть в убогий, но МИФ!
Я был близким приятелем Всеволода Абдулова – ближайшего друга Владимира Высоцкого. Как он смешно рассказывал о «лучших друзьях Высоцкого», которые как грибы после дождя расплодились сразу после его смерти! Мой друг Михаил Ерёмин – уникальный поэт, которого выделял Иосиф Бродский, рассказывал мне, что на какой-то «европейской тусовке», посвящённой Бродскому, из ста пятидесяти человек, приехавших «на шабаш» (слова М. Ерёмина), было максимум человек десять, знавших его лично. И какова цена всей Российской Истории, которую во все века латали и перекраивали в угоду ВЛАСТЯМ подобные тщеславные уроды, занимавшие раньше и занимающие и сейчас всякие ответственные политические и идеологические посты! Сколько в нашей стране уничтожено уникальных документов не только во время пожаров, набегов татар и печенегов, войн, переворотов и смут, но ещё из зависти, убогого тщеславия и/или (больше всего!) из примитивного страха, что когда-нибудь кому-нибудь откроется «некрасивая» ИСТИНА!!!
Наш новый алма-атинский дом, куда мы переехали практически из центра, был последним во всей очень приблизительной «городской» полосе, примыкающей довольно близко к хребту Заилийского Алатау. Всего за каких-то восемь лет до нашего переезда в новый дом, на том самом месте, где он стоит и сейчас, мой отец на моих глазах убил влёт фантастической красоты фазана, из которого через день сделал прекрасное чучело. По тогдашним меркам расстояние от центра города, где находилась наша школа, до дома, куда мы переехали, было гигантским, и в этом районе охотники осенью и зимой успешно охотились на фазанов, кекликов (горных куропаток), перепёлок, а иногда и на лис. Большинство учеников моего отца всего за год их общения с ним стали биологами, а некоторые, включая моего ближайшего старшего друга Икара Бородихина, даже прославились. В новой школе моим соседом по парте стал мой сосед по месту жительства Марат Бикбулатов – всего в километре от нашего дома начинался удивительный алма-атинский Ботанический сад, в котором он жил, а отец моего нового друга работал в нём главным бухгалтером! Четыре чудесных года моей юношеской жизни благодаря Марату прошли в самом эпицентре «рая на земле» – иначе и не скажешь. Каждое утро мы встречались у моего дома и вместе шли в школу, а из школы тоже вместе шли по домам, а потом на весь оставшийся день я уходил в Ботанический сад. У меня дома тогда жило много певчих птиц, и мы с Маратом стали вместе ловить щеглов, чижей, чечёток и необыкновенно красиво «журчащих» жаворонков. Кончилось тем, что Марат стал биологом, а я уехал в Ленинград учиться «на артиста». И ко времени моего приезда в 1972 году в Алма-Ату на Всесоюзный кинофестиваль Икар Бородихин становится известным орнитологом, а Марат Бикбулатов – главным объездчиком кунаевского охотхозяйства. И они оба приглашают меня на пару дней в это самое охотничье угодье «хозяина» Казахстана Кунаева. Марат жил в уютном кирпичном домике, одна из комнат которого служила ему кабинетом. Там вместе со шкафами у стены стоял сейф для оружия, конфискованного им у браконьеров, а вторая небольшая комната была и его столовой, и его спальной с ещё двумя «гостевыми» диванами, где мы и расположились нашей чудесной компанией. Нам всем было о чём поговорить и что вспомнить! И вряд ли нам хватило бы для этого одной ночи!
После первой бутылки Марат стал вспоминать свои «схватки» с браконьерами и хвастать отобранным у них оружием. Должен сказать, что Марат при всей его природной доброте был совершенно бесстрашным человеком. И на самом деле – чего только не было в его арсенале! И карабины, и помповые ружья, и один «калашников», и даже немецкая двустволка «Зауэр три кольца»! И с каждым из этих стволов были связаны истории – страшные, мерзкие, опасные или смешные. Но мне больше всего понравился американский кольт, из которого я очень любил стрелять, когда снимался в советско-румынском фильме «Туннель». С нашим пиротехником мы были старые друзья, и в свободное время мы уходили недалеко в горы (съёмки проходили в Карпатах) и расстреливали десятки патронов. Кольт как машина убийства почти совершенен. Калибр – 0,45 дюйма (11,43 мм.) Вес достаточный, чтобы отдача не слишком беспокоила. Осечка исключена, если механизм исправен, а патроны «родные». Из наших больше всего напоминает ТТ, который и был почти скопирован с кольта (ТТ и «стечкин» – мои самые любимые наши пистолеты). Марат вынул из кольта обойму и дал его мне «поиграться». Моё знакомство со стрельбой началось, когда мне было семь лет, – с первого дня, когда папа вернулся с фронта. Он привёз себе английскую двустволку 12-го калибра, а специально для меня миниатюрную детскую, сделанную каким-то замечательным немецким мастером на заказ, тоже двустволку, стрелявшую наганными патронами. Купил он её в Кёнигсберге и там же один из стволов высверлил (возможно, у того же мастера), чтобы сделать его гладким для отстрела маленьких птиц, – мой отец был прекрасным таксидермистом, и именно из самых миниатюрных птичек он делал превосходные чучела, о чём я уже говорил. С первого момента, когда он вручил мне винтовку, он объявил мне главный закон охотника: никогда не целиться в человека даже палкой! Потому что любая палка раз в год СТРЕЛЯЕТ!!! Как ни странно, этот закон вошёл в мою плоть и кровь мгновенно и навсегда, правда, за исключением робин-гудовского лука!
И вот, выпивая, покуривая замечательные ленинградские сигареты «Ява» и восторженно делясь воспоминаниями, я время от времени находил какой-нибудь небольшой предмет или муху на стене и щёлкал по ним, спуская курок кольта, и снова взводил курок и снова щёлкал, получая несказанное наслаждение. В углу Маратовой комнаты стояла тумбочка, а на ней графин с каким-то соком, и я, положив кольт на стол, сделал два шага и налил себе стакан. И, вернувшись на место, снова взял кольт, взвёл курок и приставил ствол к своему виску, говоря что-то смешное. И уже было хотел спустить курок, но, не отдавая себе отчёта, стал искать более подходящую цель. На диване, закрыв колени татарским в узорах одеялом, сидел Икар Бородихин, и прямо на его коленной чашечке красовалась изящная розочка, в которую я очень аккуратно нацелился. И опять за десятую долю секунды до спуска я ослабил курок и на ковре под потолком увидел почти такой же цветочек. Лениво, но точно прицелился и мягко, как подобает, нажал… И тут раздался ВЗРЫВ! Какой-то нереальной силы, потому что комната была небольшим кирпичным, плотно сбитым кубом! Немая сцена. А за ковром посыпалась штукатурка и куски кирпичей. Когда я вставал за соком, Марат Бикбулатов привычно, как говорится, машинально, засунул лежавшую на столе обойму в ручку рядом лежавшего (непорядок!) кольта и так же машинально (вернее, профессионально) передёрнул затвор, послав патрон в ствол. А я, мудак, взяв (выпущенный из рук пять секунд назад) кольт, НЕ ПРОВЕРИЛ, есть ли в стволе патрон с ПУЛЕЙ калибра 0,45 дюйма (а по-русски – 11,43 мм!!!). Хорошо, если бы я нажал на курок в первый раз – я бы не успел ничего понять, так как моя башка разорвалась бы на кусочки. Но коленка Икара! Пуля шириной больше сантиметра оторвала бы ему ногу, и в два часа ночи, в глухомани, мы не смогли бы спасти ему жизнь! Каждый раз, когда я вспоминаю эту безумную ночь, у меня холодеют руки и сердце начинает биться с перебоями. И конечно же, виноватым во всём этом был бы признан наш бедный, наш добрый и милый раздолбай МАРАТ!
Я окончил школу в 1956 году и сразу подал документы на естественный факультет в Казахский педагогический институт только потому что учиться там надо было четыре года, а не пять, как в университете, – мне хотелось как можно скорее включиться в настоящую работу! В тот день, когда были вывешены списки принятых, рядом с ними висело объявление: такого-то числа (на следующий день) в семь утра все студенты должны явиться с вещами для отправки НА ЦЕЛИНУ! И мелким шрифтом: примерно на два месяца.
«Целина» требует особого рассказа, но в одном абзаце тоже можно кое-что сказать. Годы 1956-й и 1957-й были первыми и самыми урожайными, самыми фантастическими годами на всех просторах так называемой ЦЕЛИНЫ. Но именно эти годы были преступно провалены с точки зрения экономики и здравого смысла. Практически весь гигантский урожай был потерян, и я этому свидетель. Мы возили зерно в кузовах Газ-51 в город Степняк: там был единственный элеватор чуть не на весь Западный Казахстан – за триста километров от нашей казахской деревни прямо по степи. Дорог не было, так что мы довозили до элеватора одну десятую груза – свидетели этому были наши коленки и жопы, отбитые за несколько часов езды в полупустом кузове. То же самое было и в Павлодарской области в 1957 году. На громадную площадку свозили сотни тысяч тонн зерна, и оно стояло там целыми терриконами и «горело»: только кисть руки можно было засунуть в эту гигантскую гору – дальше и глубже уже можно было жарить яичницу. Зато пропаганда, коммунисты и комсомольцы захлёбывались от восторга! А наши каждые «два месяца» и в Кокчетавской, и в Павлодарской областях растягивались на полгода: всё это время мы строили дороги, бани, сараи, в которых потом сами жили; перелопачивали зерно, пытаясь спасти хоть какие-то крохи, заготавливали сено, тушили пожары – все они почему-то случались ночами, и это было страшно красиво: и страшно, и красиво! На целине был сухой закон, но однажды нам сказали, что в Щучинске стали продавать водку, и мы с приятелем уговорили шофёра туда съездить. Рядом со Щучинском есть знаменитое озеро Боровое – громадное, обрамлённое (именно как в раме) столетними соснами, и я после первой бутылки, выпитой в столовой на пару с приятелем, твёрдо решил в этом озере поплавать. Меня отговаривали и приятель, и наш шофёр, но я настоял на своём и один попёрся на озеро. К моменту, когда я подошёл к берегу, испортилась погода, поднялся ветер, пошёл дождь, но меня это не остановило, и я, раздевшись, прыгнул в воду. Я был счастлив – после трёх месяцев работы в жаркой степи я впервые оказался в прохладной, кристально чистой воде! И как-то незаметно заплыл довольно далеко от берега. И вдруг совершенно внезапно начался настоящий шторм! Я никогда не боялся волн, с раннего детства отлично плавал, но в эту минуту я чего-то не рассчитал и подряд два раза хлебнул воду полными лёгкими! Кое-как откашлялся и ещё раз захлебнулся! И тут началась паника – я точно понял, что я ТОНУ! И я на самом деле стал тонуть! И вдруг в мою башку каким-то образом влезла строчка из дурацкой песни, которую мы вечерами пели в палатах в пионерских лагерях, – я это помню так отчётливо потому, что она вернула мне адекватное сознание в тот критический момент: «Бьётся с неравною силой гордый красавец “Варяг”!» Но в моей голове почему-то мелькнуло «гордый красавец моряк»! И я весело спел про себя, имея в виду самого СЕБЯ: «Бьётся с неравною силой гордый красавец моряк!» Именно это меня тогда рассмешило и «вырвало» из панического безумия. Я всегда потом думал – какое счастье, что у меня есть чувство юмора! И тут каким-то ЧУДОМ я вспомнил инструкцию из журнала «Пионер», где говорилось, как лучше справляться с паникой, когда тонешь, и последовал пионерским советам. Это был единственный случай в моей жизни, когда мне помогли пионеры! Я, как мог, постарался вдохнуть воздух и, обняв руками колени, погрузился глубже в воду на возможно длительное время. И повторил это ещё пару раз. На самом деле полностью успокоился и в конце концов удачно доплыл до берега.
Весной 1957 года наш небольшой курс естественного факультета Казахского педагогического института дважды выезжал на «биологические практики». Первый раз в Малое Алма-Атинское ущелье, километра на два ниже посёлка Медео, а через десять дней в пустыню Муюн-Кум в Джамбульской области на границе с Узбекистаном. На нашем курсе было двадцать пять студентов – пять парней и двадцать девиц. Старостой был прошедший армию «матёрый» старшина двадцати трёх лет. Он смотрел на нас, семнадцати-восемнадцатилетних, как на щенят, а мы на него как на генерала. Лагерь в первой экспедиции (пять больших палаток – четыре для девочек и одна для нас, «мужиков») он решил поставить в центре большого острова, образованного двумя руслами реки Алматинки, – довольно бурная горная река раздваивалась перед высокой скалистой платформой, поросшей осинами и тянь-шаньскими елями, а через двести метров ниже по течению снова сходилась. Место было безумно красивое, чистое и очень романтичное! Но именно в этом месте ущелье сужалось: с одной стороны (южной) над нами почти вертикально нависала гора, а берег с другой – северной – был тоже намного круче, чем в других местах ущелья. Каждый вечер у нас были небольшие пьянки, которые иногда затягивались часов до одиннадцати – на юге, да ещё в горах, в это время наступает кромешная тьма, но у нас всегда был запас свечей и убогие советские фонарики. Должен сказать, что в первую неделю в ущелье мы почти никого не видели – проехало всего несколько машин, и раза два мимо нас проезжал на коне казах-объездчик. С утра мы собирали растения для гербариев (ботаника) и всяких насекомых, улиток, червей, ящериц, жуков, бабочек и стрекоз (энтомология и зоология). Потом всё это описывали, зарисовывали, а потом обедали и отдыхали. На пятый или шестой день с утра был ливень, а потом весь день шёл мелкий дождь, и мы все сидели по палаткам. Вечером, как всегда, выпили бутылку водки и легли спать. И вдруг услышали лошадиный галоп и истошные крики: «Сель! Сель идёт!» Это был казах-объездчик. Он прискакал сверху и у нас было всего минут десять на то, чтобы собрать какие-то самые необходимые вещи, снять палатку для девочек и перетащить всё через три бревна, служившие нам мостом, на «пологий» берег. С момента появления объездчика мы слышали нарастающий гул, переходящий с каждой минутой, а потом и секундой в грохот. Наш отважный староста-старшина перетащил с острова последний тюк прямо за минуты полторы-две перед тем, как весь остров вместе с нашим лагерем на наших глазах накрыл чудовищный вал грязи, камней и скал высотой не меньше десяти метров! (Лагерь находился в самом узком месте всего Малого Алма-Атинского ущелья.) Да ещё он нёсся со скоростью сорок километров в час! И мы все с ужасом и восторгом смотрели на «нашу собственную гибель» с расстояния в пятьдесят метров! Ничего страшнее в своей жизни я пока не видел. Всю ночь мы провели в сильном возбуждении, – сидя вокруг костра, благодарили «АЛЛАХА, который прислал нам во спасение КАЗАХА», а утром наш староста-старшина повёл нас – «мужиков» – на разведку. Все деревья, стоявшие на нашем острове, включая громадные тянь-шаньские ели, были срезаны, точно бритвой. От лагеря, естественно, ничего не осталось – ни красоты, ни романтики – только горы камней, грязи, изувеченных брёвен и сломанных веток. Ниже по течению речки мы услышали какие-то живые звуки, похожие на плач ребёнка, и в расщелине скал увидели молодого барашка со сломанной ногой. Староста решил принести его в жертву Аллаху, а меня с товарищем послал в город за водкой и сообщить институтскому начальству, что все мы живы и здоровы. К вечеру «нас с водкой» встретили криками «ура!» и фантастическим шашлыком.
Через две недели после «горной практики» нас послали в Джамбульскую область на юг Казахстана в пустыню Муюн-Кум, и там тоже не обошлось без приключения. Я уже прекрасно знал, что такое пустыня летом, и очень хорошо подготовился – взял с собой высокие ботинки, шерстяные носки и зимнюю шапку, чем вызвал град насмешек у нашего «умудрённого опытом» старосты и всего курса, но в первый же день они все стали мне завидовать. Я ещё тогда удивлялся, что наших студентов и особенно студенток никто не подготовил к практике в пустыне. Летом песок нагревается до пятидесяти-шестидесяти градусов, и ходить в сандалиях или тапочках просто невозможно. К тому же по программе каждый студент был обязан наловить пару скорпионов, черепашек, разных других тварей и по меньшей мере одну змею. А в моих высоких ботинках змей ловить одно удовольствие! Да ещё меховая шапка «охлаждала» мою голову по принципу термоса. Да ещё я знал, как спасаться летом в пустыне от жажды: надо как можно меньше пить, а когда становится невмоготу, положить под язык кристаллик соли. И с моим «походным» опытом я стал ловить всякую живность нашим девочкам. Самая ядовитая змея в казахстанских пустынях – гюрза, или гремучая змея; гадюки тоже не подарок, но они не смертельны, к тому же к концу мая они наполовину теряют свою «ядовитость». Остальные змеи – ужи, полозы, степные удавчики – были для меня как ручные зверюшки. Очень опасны скорпионы и фаланги: одну нашу девочку укусил скорпион, и её пришлось срочно увозить в больницу ближайшего посёлка. Однажды я наткнулся на необычной расцветки полуметровую гадюку, привычным образом «отпнул» её моим высоким ботинком на чистое место и там, орудуя палкой-вилкой, так же привычно взял её за шею. И понёс показывать нашему лаборанту-герпентологу. Когда он увидел мою змейку, он сначала замер, а потом забормотал: «Так-так-так-так… Не дёргаться, ничего страшного… Я сейчас банку принесу…» И когда я засунул её в специальную банку с захлопывающейся изнутри крышкой, он лихорадочно засмеялся: «Поздравляю, ты поймал ЭФУ! Только непонятно, как она здесь оказалась!» Дело в том, что у нас эфы обитают только в Туркмении, Таджикистане и на юге Узбекистана. Мы же находились у северной границы с Узбекистаном, и у нашего лаборанта противоядия от укуса эфы не было. Человек, укушенный эфой, живёт максимум пятнадцать-двадцать минут, так что мы с лаборантом с удовольствием выпили за моё возможное второе рождение по полстакана почти горячей водки. Должен сказать, что очень тёплая водка пьётся легко и незаметно. Предлагаю вниманию читателей мой стих-воспоминание о моей азиатской юности, который называется «Возвращение с охоты»:
- Ущелье – чёрный гроб, и только светлой пеной
- река грохочет, как гигантская гюрза.
- В могильной тьме глаза грозят изменой,
- и тянут плечи вниз двустволка и рюкзак.
- А небо – сколько звёзд! Вон Орион, вон Вега,
- Медведиц два ковша… Смотреть – сойдёшь с ума.
- Пока не рассвело, дойти бы до ночлега.
- Дорогу развезло, и близится зима.
- За целый день стрельбы – ни одного фазана,
- а силы нет азарта превозмочь.
- И, как всегда, вдруг падает нежданно
- Тянь-шаньской осени убийственная ночь!
К тому времени, когда я решил бросить пединститут, я попал в суперэстетскую компанию провинциальных интеллектуалов, в которой на меня поначалу смотрели как на чудом заговорившую обезьяну. Потом такое происходило со мной всю мою жизнь, и меня это всегда забавляло и очень радовало, потому что время в таких случаях всегда было на моей стороне. А в алма-атинской компании я как губка впитывал все новые и неслыханные до той поры знания – поэзию Серебряного века, импрессионизм, симфоническую и джазовую музыку, архитектуру и все современные и модные направления в театре и кино. Я был тогда невежественным и немыслимо самоуверенным идиотом, подражавшим (не очень переигрывая, слава богу!) героям Лермонтова и Бальзака. Правда, мама моя, учительница русского языка и литературы, «вбила» в меня почти абсолютную грамотность в рамках требований советской школы и классической русской литературы – она даже доверяла мне проверять тетрадки своих учениц-пятиклассниц и самому ставить оценки. Да ещё вольная жизнь охотника и птицелова, да ещё чистейший горный воздух и круглый год яблоки без ограничения! Так что избыток энергии, жадность к знаниям, наглость и восприимчивость ко всему новому как-то держали меня первое время на плаву, а когда я стал заметно «прокалываться», я тут же эту компанию покинул и всё свободное время проводил в центральной библиотеке за чтением. И ещё я научился честно зарабатывать деньги – ещё до института стал работать в горах на яблоках, косил у брата в совхозе сено, фотографировал работяг на соседних стройках (два рубля за фото) и ещё продавал симпатичные клетки с парой щеглов или чижей – у меня на них всегда были клиенты. Полностью «стильно» одеваться у меня никогда не получалось – не хватало денег, но мне всё-таки удалось купить пару югославских туфель на очень толстой подошве, светлую польскую куртку на молнии и – мою самую большую гордость – серый китайский плащ «Дружба»! И вот в этих туфлях и в китайском плаще весной 1958 года я сел в поезд и поехал в Ленинград поступать в театральный институт! Ленинград я выбрал из-за архитектуры, Филармонии, где дирижировали два гения, Мравинский и Рахлин, и третьего этажа Эрмитажа, где висели сказочные импрессионисты! Денег на эту поездку я заработал целую кучу да ещё продал фотоаппарат «Зоркий» вместе с увеличителем. В Москве была остановка на четыре часа, я спустился в метро и решил ехать куда глаза глядят. И каким-то образом вышел у Большого театра. Погода сказочная, душа поёт! Я точно знаю, что я завоюю и Ленинград, и Москву! И самые красивые девушки двух столиц будут счастливы со мной познакомиться! А вот и они – шикарно одетые молодые девочки, два московских ангелочка, идут, взявшись за руки, и о чём-то весело щебечут! А на мне – китайский плащ! И я радостно подхожу к ним и, обаятельно улыбаясь, спрашиваю: «Не подскажете ли, милые девушки, как пройти к ЦУМу?!» Они обернулись, равнодушно меня оглядели, и одна из них ровно через две секунды бесстрастно сказала: «Пошёл ты!» И они спокойно пошли дальше.
Должен признаться, что этот случай я воспринимаю как одно из главнейших событий в моей жизни – не будь этого чуда, я, возможно, до конца жизни оставался бы самодовольным слепоглухонемым провинциальным мудаком! И как продолжение этого случая – через пятнадцать минут происходит второе, не менее важное событие для всей моей будущей жизни. Я в полубреду прошёл от Большого театра до улицы Горького, и когда через переход вышел прямо ко входу в кафе «Националь», меня охватило волнение, сердце забилось и в моей башке заворочались какие-то странные шары: я уже тогда подозревал и был почти убеждён, а уж сейчас-то и подавно – я узнал это место! И, зайдя в первый раз в «Националь», я за два часа успел «вспомнить» и увидеть какие-то странные тени, духи и ещё чёрт знает что из жизни прежней – я почувствовал, что я знаю здесь каждый уголок, каждую стенку и даже одну самую старую официантку (как мне позже сказали, эта милая старушка была любовницей Олеши!).
Оказавшись в Москве через два с половиной года, я немедленно поехал в центр, и все мои десять московских дней я просидел в «Национале», как потом с 1961 года по 1971-й (ровно десять лет!) не было практически недели, чтобы я там не пил отличный кофе (кувшинчик за 34 копейки на три-четыре чашки), армянский коньяк «три звёздочки» (1 рубль 20 копеек 100 грамм) и не ел невероятно вкусного судака, соус «польский» (1 рубль 37 копеек)! «Meet you at a corner!» – говорили мы друг другу каждый раз, когда прощались. («Националь» до сих пор стоит на углу бывшей улицы Горького и Моховой.) В «Национале» и официантки, и швейцары, и даже поварихи, как я случайно узнал, относились ко мне с какой-то особой симпатией. Однажды, оказавшись на мели, я на последний рубль купил грамм триста сосисок и, придя в «Националь», попросил официантку отнести их на кухню, чтобы мне их там поджарили. До этого дня я просидел у себя в подвале только на чае дня два, а одним из нерушимых законов для меня был очень простой: никогда не выходить «в город» без трёх рублей! И как же я был потрясён, когда из кухни «Националя» мне вынесли большое блюдо с сосисками и фантастическим гарниром, где был даже чернослив!
А друзей и подруг у меня за эти годы в «Национале» оказалось очень много, и в основном это были либо лучшие, либо самые яркие люди Москвы.
В 1958 году в самом начале моих занятий в Ленинградском театральном институте им. Островского (позже он был переименован в ЛГИТМиК) наш мастер Татьяна Григорьевна Сойникова сказала нам странные слова, которые почему-то сразу врезались в мою память: «Вы особенно не надейтесь, что вас ждёт Великий Театр! Ни Гончаров, ни Товстоногов, ни Плучек, ни Акимов к НАСТОЯЩЕМУ ТЕАТРУ никакого отношения не имеют. Правда, в Москве живёт один мальчик – его зовут Толя Эфрос. Вот на него надежда есть». Деканом нашего факультета был доцент Клитин – скучный, бездарный и совершенно несимпатичный человек. Говорили, что он фактический начальник первого отдела, чему я очень скоро поверил. На четвёртом курсе мы в институте были как «старики» в армии, а я к тому же только что снялся в главной роли на киностудии «Мосфильм». Однажды в институтской столовой я сидел за одним столом с молодой секретаршей декана и спросил её, почему Клитин против того, чтобы я работал в одном из двух ленинградских театров, куда меня уже брали, а направляет меня в театр города Якутска! Она хитро хихикнула и сказала: «А у вас грешки!» Оказалось, что в моём деле есть моя характеристика, посланная первым отделом Казахского пединститута в ответ на запрос декана Клитина, когда я был принят на актёрский факультет. В ней говорится о моей «политической неблагонадёжности». (На занятиях по истории ВКП(б), когда мы изучали «Апрельские тезисы» Ленина, где одним из главных тезисов был «Превратить мировую войну в войну гражданскую», я спросил преподавателя: «Значит, получается, лучше убивать не австрияков и немцев, а своих русских?» – чем вызвал искренний гнев педагога.) И тут же вспомнил, что мы зимой в 1959 году на два дня задержались в Мончегорске, а мама Кида, которая работала в поликлинике нянечкой, дала мне справку, что я «болел», но через журнал эту справку не провела. Клитин не поленился и послал запрос в поликлинику, и нам с мамой Кида влетело! Клитин потребовал исключить меня из института, но Татьяна Григорьевна меня отстояла. На моё счастье, за месяц до окончания института меня утвердили на главную роль в мой второй фильм на «Мосфильме». Я не попал ни в один ленинградский театр и остался без диплома, потому что отказался ехать в Якутск. Но в Москве я время от времени вспоминал слова моего мастера, сказанные осенью в 1958 году. С того дня проходит четыре года, и в коридоре «Мосфильма» я сталкиваюсь с режиссёром Олегом Ефремовым. Он говорит мне, что ему понравилась моя роль в кино и что он хочет, чтобы я работал у него в «Современнике». Бог мой! Я и мечтать не мог о «Современнике» – самом лучшем тогда театре! «Только, понимаешь, у нас грёбаная демократия, и надо показываться всей труппе. Но я тебе дам отличных партнёров, и всё будет в порядке!» И он «дал» мне в партнёры свою жену Аллу Покровскую и Геннадия Фролова – на самом деле прекрасных актёров «Современника»! Директором театра был Лёлик – Олег – Табаков, и, как мне рассказывал мой тогдашний хороший приятель Боря Ардов (сам актёр этого театра), Лёлик сделал всё возможное, чтобы в театр я не попал. Я это почувствовал ещё до показа и на всякий случай встретился с режиссёром Гончаровым, который сразу же обещал дать мне главную роль в новом спектакле. А Лёлик мне сказал слово в слово: «Старик, ты понимаешь, ты не нашей школы! Но вчера я говорил о тебе с Толей Эфросом, и он без всякого показа берёт тебя в театр! Позвони ему!» Я встретился с Анатолием Васильевичем и, разговаривая с ним, всё время вспоминал слова Татьяны Григорьевны Сойниковой! На следующий день я уже вводился на одну из главных ролей в его спектакле «В поисках радости» Центрального детского театра. А директором театра был всемогущий Шах-Азизов, после запроса которого Клитин мгновенно выслал в театр мой диплом. Я проработал в группе Эфроса всего лишь полтора года, но буду до последней секунды ему благодарен за то, что после него я не смог работать ни с одним другим режиссёром и ни в одном другом театре, и только благодаря ему я стал свободным человеком ещё и от театра! И я расцениваю всю эту историю тоже как ВЕЛИКОЕ ЧУДО!
После второго курса театрального института я попал в «концертную бригаду» и с ней поехал в двухмесячное «турне» по Камчатке. Эту кампанию организовал ЦК комсомола под громким девизом: «Студенты творческих вузов Москвы и Ленинграда – труженикам Камчатки!» Девять суток мы ехали в общем вагоне до Владивостока, и там я подружился со студентом Ленинградской консерватории – тоже членом нашей бригады. Он был фанатом «купания» – на каждой станции выскакивал из вагона и бросался под струю холодной воды, лившуюся из толстого крана (из таких кранов, как я узнал позже, наливали воду в котлы паровозов, тогда ещё вовсю ходивших). Когда мы наконец прибыли на место и нас посадили на военный катер, на котором мы «прошли» всё восточное побережье Камчатки, у нас образовалась группа любителей купания в Тихом океане из трёх человек: Виктор (мой товарищ), я и девушка-скрипачка тоже из Ленинградской консерватории. В те годы (это было лето 1959-го) на Камчатке никто никогда не купался (нам так говорили), к тому же начался сезон штормов. И когда мы бросались в гигантскую «нарождающуюся» волну, на берегу всегда стояли зеваки из аборигенов или солдат-пограничников и пялились на нас, ожидая, возможно, каких-нибудь трагических последствий. Океанский шестибалльный шторм был страшным и одновременно добрым. Надо было только успеть спокойно «войти» в громадную, буквально падающую на берег волну, после чего уже на той стороне ты попадал в огромную, ласковую чашу из зелёно-синей прозрачной воды, а через пять-семь секунд уже смотрел на мир с двадцатиметровой высоты, точно с Памирского пика, чтобы ещё через такое же время снова оказаться на дне большого изумрудного колодца. Плавая в океане, мы всегда как-то «разбредались» довольно далеко друг от друга, а если мы оказывались на «пиках» одновременно, то восторженно перекрикивались. Однажды, заплыв довольно далеко и продолжая перекрикиваться с Виктором и скрипачкой, я вдруг всем своим нутром почувствовал животный страх, который исходил из-за спины. Я резко обернулся и застыл от ужаса – всего в метре от меня без всякого движения (как бы стоял в воде) лысый, голый, усатый старик с большой головой, глядевший на меня своими круглыми, немигающими и, как мне моментально показалось, злобными глазами! УТОПЛЕННИК!.. НЕТ – ПРИШЕЛЕЦ!!! И я понял, что он меня сейчас убьёт! Это было настолько невероятно и страшно, что у меня перехватило дыхание (наконец-то я понял на себе, что это значит!) и я «поплыл», теряя сознание. И только на самой грани перехода «туда», словно цепляясь за спасительную верёвочку, я сообразил, что это мог быть тюлень или морж! Я с трудом вернулся к жизни и, еле удерживаясь на плаву, стал рассматривать «старика», который, сфокусировавшись у меня в глазах, на самом деле оказался очень крупным тюленем. Думаю, что он тоже чувствовал себя не очень комфортно и смотрел на меня как на инопланетянина. Я как мог дружелюбно извинился перед ним за то, что нарушил его пространство, так же вежливо сказал, что совсем не хотел его обидеть и готов немедленно покинуть его территорию. В это время гигантская волна опустила нас на самое дно чаши, и я продолжал говорить ему комплименты – какой он добрый и красивый! И мне показалось, что он меня понял. Но самое главное – страх прошёл у обоих, и я стал потихоньку от него отплывать. И когда мы снова оказались на «пике», он ушёл в глубину, а я постарался как можно быстрее приплыть к берегу. Но то, что я был на грани перехода туда, для меня абсолютно очевидно, так что эту замечательную встречу в Тихом океане я также отношу к чудесам.
Но и все наши двухмесячные гастроли были наполнены маленькими и большими чудесами. Маленькие, к примеру, почти каждый день. Нам платили «северные» суточные – 50 рублей в день (это было до реформы 1961 года). Мы скооперировались с Виктором, и наши 100 рублей суточных были общими. Бутылка питьевого девяностошестиградусного спирта стоила 65 рублей. Полкило самой свежей красной икры – 15 рублей. Полкило фантастических крабов – 12 рублей. На остальные покупались два батона и пачка сливочного масла. Если нас не поили офицеры или рыбаки после концертов, мы именно таким образом распоряжались своими суточными. Самое удивительное – с такой калорийной закуской мы умудрялись быть «адекватнее» всех наших других коллег и некоторых зрителей. А через месяц нас пересадили в «кукурузник» с двумя лётчиками, которые НИ РАЗУ за двадцать дней наших совместных полётов не были трезвыми! И тут уже случилось настоящее Большое Чудо. У нас был концерт в самом северном посёлке Камчатки Каменское. После концерта мы должны были лететь в другой район, и нас на речной косе, заменявшей лётную полосу, ждал самолёт. Но до этой косы нам надо было плыть на катере около часа. И как-то так получилось, что мы опоздали минут на двадцать. Нас встретил второй пилот и злорадно заявил: «Так как вы опоздали, то Вася (первый пилот) полетел за сигаретами в Усть-Камчатск (400 км от Каменского!), и вам придётся подождать часа три или четыре». Я к тому времени уже успел побывать во многих местах – и в Западной Сибири, и в Казахстане, и на Алтае, но я НИКОГДА В ЖИЗНИ не видел такого количества ненасытных комаров-кровопийц, как на этой прибрежной лётной полосе! Мы окружили себя кострами (нас было одиннадцать человек «артистов» и один комсомольский начальник) и честно просидели в этом аду больше четырёх часов. Второй пилот Петя пытался дозвониться до ближайших лётных полос, подобных нашей, но Васю никто не видел и не слышал, и нам пришлось вызывать катер и ждать его прихода ещё около часа. К вечеру следующего дня к нам в школу, где мы расположились в классе, пришёл пьяный Петя с парой бутылок спирта и заявил, что надо помянуть Василия. «У нас пропавший самолёт ищут один день»[2]. Мы в Каменском пробыли в ожидании нового самолёта несколько дней, и вдруг к нам всё в тот же класс врывается пьяный Петя с новой парой бутылок и радостно сообщает, что Вася жив! Он, как Маресьев, дополз до речки, каким-то образом оседлал бревно, и его где-то выловили то ли рыбаки, то ли охотники. «У него масло отказало!» – объяснил Петя. Как потом оказалось, масло у «кукурузника» отказало через двадцать минут полёта над тайгой, и Васин «кукурузник», зацепившись колёсами за деревья, перевернулся, раскололся пополам и рухнул между деревьев. Но, на Васино счастье, ничего не загорелось, и он на самом деле сломал ногу, но пришёл в себя и дня два по памяти добирался до реки. А что было бы с нами со всеми, если бы мы не опоздали на двадцать минут! Четырнадцать человек с лётчиками плюс десятка полтора чемоданов! Даже представить страшно.
После третьего курса театрального института меня пригласили на «Мосфильм» сниматься в главной роли в фильме «Увольнение на берег». Это тоже было для меня чудом, правда, подготовленным репетициями – каждодневными и невероятно насыщенными. Но именно это событие стало оптимальным на всю мою последующую жизнь – работа и существование в кино оказались самыми свободными сферами в советской действительности. У меня с раннего детства было врождённое отвращение к любому коллективу – будь то школа, пионерский лагерь или театр. В школах и лагерях меня спасал баскетбол и всякие самодеятельные спектакли, в кино «коллектив» формировался максимум на полгода, да к тому же никакой грызни из-за ролей в кино не бывает – там все роли уже распределены. В 1962 году я познакомился с уникальным человеком – Сергеем Чудаковым, о котором я написал большую книгу «Сергей Иванович Чудаков и др.». А через него я вошёл в фантастический круг людей, ставших моими лучшими друзьями на всю жизнь, – это поэты и литераторы Михаил Ерёмин, Леонид Виноградов, Владимир Уфлянд, Лёша Лифшиц (Лев Лосев), Олег Григорьев, Евгений Рейн, Иосиф Бродский и ещё несколько замечательных «подпольных» художников Москвы и Ленинграда шестидесятых и семидесятых годов, в числе которых были Олег Целков, Михаил Кулаков, Анатолий Брусиловский, Анатолий Зверев, Саша Харитонов, Эдик Штейнберг и даже «патриарх» московского андеграунда Михаил Матвеевич Шварцман! Здесь полностью воплотился один из главных законов философии Древнего Китая: «Подобное притягивается подобным», и поэтому встречу с Сергеем Чудаковым я считаю одним из самых блистательных ЧУДЕС в моей жизни! Но одним из самых удивительных подарков Судьбы оказались мои вполне дружеские отношения с Иосифом Бродским. В 1965 году вся наша ленинградская компания встретила Иосифа у ленинградского Дома книги сразу после его приезда из деревни Корейская, куда он был сослан за «тунеядство» в 1963 году К тому времени я знал наизусть почти все его стихи, ходившие в списках, и очень нервничал, какие у нас с ним сложатся отношения. «Мудрый Лёня Виноградов» перед самой встречей меня успокоил: «Не волнуйся, вы станете друзьями». Напротив Дома книги прямо через канал Грибоедова был ресторан «Нева», куда мы все и пошли. Деньги тогда были только у Лифшица и у меня, и мы постарались устроить роскошный обед. И на самом деле, со временем у нас с Иосифом как-то незаметно установилась традиция – как только я прибывал на «Красной стреле» в Ленинград, я тут же ему звонил. И он всегда говорил одну из двух фраз: «Лёвке, вали к нам, мы ставим кофе» или «Лёвке, мы тебя принять не можем, мы работаем», но чаще всего звал. Нас связывало несколько «тем» – мы оба усиленно учили английский язык, оба очень любили американские фильмы, «взятые в качестве трофеев», и самые грязные русские частушки, которых я знал намного больше, чем он. Ну и последние московские анекдоты. Я его обожал, и это ему, конечно, нравилось. Каждый раз я привозил ему какую-нибудь американскую книжку – их в Москве было намного больше, чем в Ленинграде. Когда я приходил, Иосиф с гордостью поил меня своим кофе, который он варил великолепно, мы курили, он давал мне читать новые стихи, и я отлично помню, как однажды, а по хронологии стихов можно даже назвать дату: утро 23 мая 1967 года, он дал мне прочитать стихи со словами: «Ты читаешь их первый! Я закончил их только вчера». Это было «Послание к стихам» с эпиграфом из Кантемира. А когда годом раньше или позже я выразил своё восхищение его стихами «Пришёл сон из семи сёл», который в сборнике был назван «Песней», он написал его мне своим чудовищным почерком. И ещё у нас была очень смешная и увлекательная игра: через сколько рукопожатий мы «знакомы» с теми или иными великими людьми. И оказалось, что со многими! Я был приятелем Виктора Суходрева, гениального кремлёвского синхрониста-переводчика и дипломата, – и, следовательно, через два-три рукопожатия мы «знали» и Хрущёва, и Джона Кеннеди, и Брежнева, и Косыгина, и прочих деятелей из нашего полип-бюро, а также всех тех, с которыми они беседовали! А уж через Хрущёва! Там и английская королева, и Сталин, и все маршалы и проч.! И как-то мы порадовались: через Хрущёва и Молотова мы «знакомы» с Риббентропом, а затем и с самим Гитлером! Мы хохотали до слёз! А Иосиф со своей стороны убивал меня своим фантастическим знанием Истории и Литературы – через какие-то рукопожатия, причём совершенно незначительные по количеству, он добирался до Бальзака, Байрона, Монтеня, Леонардо да Винчи, королей Франции и, естественно, до Пушкина! И с его знанием истории и знаменитых личностей он доходил до Древней Греции и Рима! Короче, мир оказался до неприличия крохотным – до любого Гения рукой подать! И так уж вышло, что только благодаря мне он написал блистательную поэму «Прощайте, мадмуазель Вероника», посвящённую удивительной женщине Веронике Шильц, бывшей тогда подругой моей возлюбленной француженки Кристин. И однажды, узнав, что на моём дне рождения 23 апреля 1967 года будет Иосиф Бродский, стихи которого она боготворила, Вероника очень захотела с ним познакомиться, и они с Кристин накрыли мой стол несусветными яствами из недоступной для нас с Виноградовым советской «Берёзки»! Вероника весь вечер не сводила глаз с Иосифа, Иосиф, кажется, мгновенно в неё влюбился, забыв на время свою возлюбленную М. Б., и, монотонно «распевая» свои стихи, вошёл в состояние бодхисатвы, а уж когда он запел «Лили Марлен» в собственном переводе, все, включая самого Иосифа, заревели в три ручья. Через три дня Иосиф или вывез, или пригласил Веронику в Ленинград, но она ему, как говорили в моём детстве пятиклассники, «не дала». Но зато появилась гениальная поэма «Прощайте, мадмуазель Вероника», и я счастлив, что к этой поэме имею самое прямое отношение. Вот небольшой кусочек из моего опуса «Сергей Иванович Чудаков и др.», относящийся к тому времени, когда через семнадцать лет я оказался в Америке и два дня и две ночи провёл в двухэтажном домике Иосифа в South Headly: «…И конечно, вспоминали мой день рождения, на котором я познакомил его (вернее, свёл, как сводня) с Вероникой Шильц, вспоминали Чудакова, его стихи, которые, к моему удивлению, хорошо знал Иосиф, и ещё о том, что Иосиф никогда не поедет в Россию, и я был полностью с ним согласен – в нашей стране власть и чиновники, точно стервятники, ждут момента, когда они смогут “снять пенки” славы и почёта с человека, которого сами же и травили. Меня больше всего до сих пор приводит в состояние неукротимой ненависти тот факт, что ни отцу, ни матери Иосифа ни разу не позволили приехать к нему в Штаты, хотя он несколько раз обращался с этой просьбой в Сов. посольство, а Иосифу НЕ РАЗРЕШИЛИ ПРИЕХАТЬ НА ПОХОРОНЫ НИ МАТЕРИ, НИ ОТЦА! И почему до сих пор не открыты эти – с точки зрения нашей новоправославной идеологии и “демократической и правовой конституции” – позорные документы с подписями и печатями?! А памятники ему – мёртвому – ставят!!!» И тогда же я написал стишок, который останется актуальным до тех пор, пока Россией будут править легионы паразитов:
- Поле надо пахать,
- ровнять, боронить,
- а ещё удобрять.
- А Человека травить,
- убивать, хоронить…
- …И потом прославлять.
А в кино – тоже сплошные чудеса! В Алма-Ате в Парке культуры был летний кинотеатр «Родина» – высокое здание с крышей (в отличие от других, открытых летних кинотеатров; не знаю, существует ли он до сих пор). У меня, как и у всех детей, была страсть к кинематографу: если я хотя бы один день не видел какой-нибудь фильм, для меня этот день был потерян. Но где взять столько денег? Вокруг «Родины» стояли деревянные колонны, на которых держалась крыша. Колонны были крестообразно оббиты планками, по которым, как по лестнице, самые смелые из нас лезли наверх и через дыру в стене пролезали внутрь зала, в котором вместо потолка были протянуты балки. На этих-то балках, лёжа на животах, мы смотрели сверху вниз на экран. Летом, в жару, крыша сильно нагревалась, и, если фильм был не очень интересным, дети от духоты и жары иногда засыпали и сваливались на головы сидящих зрителей. Как ни странно, никаких трагедий с переломанными шеями или ногами ни разу не было. Правда, после каждого падения дыру под крышей заделывали, но потом она появлялась снова. Я помню несколько фильмов, которые я смотрел таким образом: «Подвиг разведчика», «Овод» с Олегом Стриженовым, раза два «Бродягу», три-четыре раза «Тарзана», «Серенаду Солнечной долины», «Петер», «Утраченные иллюзии» режиссёра Джузеппе Де Сантиса (настоящее название «Дайте мужа Анне Дзакео»), «Касабланку» и ещё много других фильмов, «взятых в качестве трофеев», а когда чуть подрос и лазить на крышу стало «неудобно», я стал подрабатывать в предгорном совхозе «на яблоках», так что деньги на кино появились. Но почему-то именно летом и именно в «Родине» я смотрел уже как нормальный зритель по три-четыре раза мои любимые тогда фильмы: «Утраченные иллюзии», «Судьбу солдата в Америке», «Серенаду Солнечной долины», «Маленькую маму» и много-много фильмов, которых я не помню, но все они мне тогда очень нравились. И какое у меня было потрясение, когда я посмотрел фильм Калатозова «Летят журавли» с Татьяной Самойловой! Но настоящие чудеса начались лет на десять-пятнадцать позже: я в трёх фильмах снимался вместе с Павлом Петровичем Кадочниковым, который играл главную роль в «Подвиге разведчика» (после войны мы этот фильм знали наизусть!), и мы с ним стали хорошими товарищами. А у режиссёра «Овода» Александра Михайловича Файнциммера я снимался в двух фильмах, где играл главные роли. Но самым большим чудом было то, что в 1963 году в фильме Джузеппе Де Сантиса «Они шли на восток» я снялся в одной из главных ролей! И в истории с этим фильмом происходит невероятное количество немыслимых случайностей и откровенных ЧУДЕС, как будто специально для того, чтобы именно я играл эту роль!
В 1962 году киностудия «Мосфильм» вместе с итальянской студией «Галатея» начинает снимать первый совместный фильм с капиталистической страной под названием «Они шли на восток» (итальянский вариант назывался «Italian! brava gente»). Всю зиму 1962 года они работали над второй, зимней серией, а летом 1963 года приступили к летней, которую снимали под Полтавой. На одну из главных ролей – итальянского солдата Лориса Баццоки – хотели пригласить знаменитого американского актёра Энтони Перкинса, но он запросил за эту роль миллион долларов – сумму в те времена громадную и для «Галатеи», и для «Мосфильма». Тогда американская сторона (частично принимавшая участие в финансировании фильма) посылает в Полтаву именно на эту роль молодого актёра Питера Фалька и подписывает с ним контракт на 150 тысяч долларов, но скрывает от режиссёра факт, что один глаз у этого актёра стеклянный! А в это самое время у меня происходят свои, весьма драматические события. Весной 1963 года у меня закончилась временная ленинградская прописка. Жить в Москве без какой бы то ни было прописки тогда было просто невозможно, и в это время мне предлагают главную роль в чудовищно бездарном фильме на Казахской киностудии в Алма-Ате, на моей родине. И как меня ни воротило от этой роли, я согласился, поскольку другого выхода у меня не было. Мало того, что я смог бы прописаться у себя дома и ещё заработал бы по тем нашим меркам вполне приличные деньги, но я бы ещё жил у себя дома с мамой и сестрой! В мою «бригаду» (а я должен был играть роль бригадира строительной бригады) включают Владимира Высоцкого – моего хорошего тогда товарища, у которого тоже произошла большая неприятность – его отчислили из Театра имени Пушкина. И мы прилетаем в Алма-Ату. И вот тут пошли чудеса. За два месяца моей жизни у себя дома у нас на картине было всего три съёмочных дня! Два режиссёра, снимавшие фильм, оказались непрофессиональными до неприличия, и наш фильм закрывают! Я получаю на самом деле какие-то сносные деньги и с алма-атинской пропиской прилетаю в пустую летнюю Москву. Делать мне нечего, и я решаю полететь в Тбилиси к своему другу Мише Николадзе, с которым мы около года снимали комнату в деревенском посёлке прямо у выхода из метро «ВДНХ». Это сейчас представить невозможно, но у нашей хозяйки были тогда и свиньи, и курицы. А раза три к нам в гости приезжали Мишины друзья из Тбилиси – красавцы-грузины, и каждый из них был или князь, или аж царской крови! И все мне говорили: «Приезжай в Тбилиси, мы тебя встретим по-царски!» А я про себя усмехался и думал: «Ну конечно, у вас все князья и цари!»
Я послал Мише из Москвы телеграмму и тут же получил ответ: «Мы тебя ждём!» Каково же было моё удивление, когда оказалось, что трое из них живут в двух- или трёхэтажных особняках на улице Руставели в самом центре Тбилиси и на самом деле являются отпрысками князей! А к дому молодого архитектора Важи Орбеладзе раз в две недели подъезжала арба, запряжённая быками, и привозила им баранов, чачу, вино, овощи и фрукты из «его родовой деревни»! И у нашей небольшой, но «крепкой» компании началась грандиозная пьянка! Я ночевал по очереди у каждого из моих новых грузинских друзей. В двухэтажном доме художника Амира Какабадзе (сына великого грузинского художника Давида Какабадзе) мы, в стельку пьяные, расстилали на полу роскошные холсты Пиросмани (у него в коллекции было не меньше десяти его картин!) и чуть не облизывали их! Но самая фантастическая ночь у меня была в доме Важи Орбеладзе, где меня положили в каком-то громадном зале, и я, проснувшись от дикой жажды, горько пожалел, что не спросил, где у них кухня или туалет, чтобы напиться из крана. Но, повернув голову, увидел – о чудо! Рядом на столике стояла запотевшая бутылка боржоми, явно только что кем-то поставленная! Я был готов выпить её залпом, но, зная, что проснусь ещё раз, оставил одну треть. Когда я проснулся часа через два, я был несказанно счастлив, что оставил себе немного воды. Повернулся и ахнул! На столике стояла новая холодная, запотевшая бутылка боржоми! Грузинские женщины, которых мы ни разу не видели во время наших застолий, точно знали, «когда у мужчин наступает жажда»!
Один из Мишиных друзей предложил мне поехать с ним на съёмки в Сухуми на целый месяц – «мы тебя оформим на триста рублей, а ты будешь только плавать в море и загорать». Я, конечно, с радостью согласился. Наше пьянство продолжалось две недели, но однажды ночью я проснулся в каком-то странном беспокойстве и понял, что мне надо немедленно бежать из Тбилиси! Оделся, написал извинительную записку и в это же утро улетел в Москву. В первый же день в Москве я сразу пошёл в кафе «Националь» и там, сидя за столиком, вдруг услышал громкий голос: «Прыгунов здесь?» В дверях стоял ассистент режиссёра киностудии «Мосфильм», мой хороший знакомый. Как оказалось, они меня ищут второй день, а этот мой приятель, с которым мы работали на двух картинах, знал, что я могу быть только в «Национале», если нахожусь в Москве.
Как раз когда я прилетел в Тбилиси, в Полтаве разразился скандал – Де Сантис наотрез отказался снимать молодого американского актёра Питера Фалька (один его глаз был очень заметно стеклянный), потому что роль Баццоки была как бы автобиографической, и Де Сантис хотел снимать её в основном на крупных планах. К тому времени почти весь материал без этой роли уже был отснят, и группа – сто человек с советской стороны и пятьдесят с итальянской – встала на неопределённое время. Они перебрали всех возможных и европейских, и американских актёров, которые могли бы играть эту роль, но все, подходящие на неё, были плотно заняты. И тут кто-то подсунул Де Сантису фотографии нескольких советских актёров, и там каким-то чудом оказалась моя фото-графил, которая его заинтересовала. Он приехал в Москву и сразу посмотрел мои первые два фильма – «Увольнение на берег» и «Утренние поезда». И знаменитый итальянский режиссёр немедленно захотел меня увидеть! И это случилось как раз накануне моего решения сбежать от моих грузинских друзей! Но самое смешное было в том, что Де Сантис, когда меня нашёл мой приятель, в это самое время сидел у себя в номере в гостинице «Москва» – прямо по диагонали от кафе «Националь», так что мы через пять минут были у него в номере. И Пепе, как все его тогда звали, почти буквально начал меня возбуждённо обнюхивать и ощупывать. Наконец он меня поздравил, и было решено – завтра я сажусь в поезд и еду в Полтаву. Мой договор на эту роль (два с половиной месяца напряжённых съёмок практически без единого перерыва) был всего лишь в два раза больше, чем мне обещал мой новый грузинский товарищ за месяц роскошного безделья на море, – 680 рублей! А позже мне сказали «осведомлённые люди», что отдел ЦК по культуре получил за меня сто с лишним тысяч долларов! Возможно, это преувеличение, но однажды в Доме кино я сидел в компании Славы Ростроповича (он всегда требовал, чтобы его звали Слава), и, по его словам, за каждый концерт в Европе или в Штатах он и его знаменитые коллеги-музыканты получают 250–300 долларов, а посольство (читай КГБ) получало от 20 до 30 тысяч всё тех же долларов! Чудеса, да и только!
В этом же фильме в зимней серии снималась удивительная Татьяна Самойлова в небольшой трагической роли, и на премьере фильма она подошла ко мне и попросила меня дать ей автограф! А всего каких-нибудь шесть лет назад я сидел в убогом кинотеатре «Родина» и обливался слезами, глядя на гениальную Самойлову, как обливался слезами в 1955 году, глядя на Сильвану Пампанини – самую прекрасную женщину в мире – в фильме Джузеппе Де Сантиса «Утраченные грёзы»! Ну разве это не чудеса?!
Вскоре после съёмок у Де Сантиса я въехал в свой самый первый подвал – бывшую кузницу XIX (!) века во дворах улицы Чернышевского. И в это время у меня появилась необыкновенная по всем статьям любовница по имени Женя. Она – типичная страстная «библейская» еврейка. Её муж – капитан КГБ. А она сама, судя по их взаимоотношениям, была по званию не меньше майора, по крайней мере в сознании её мужа, а возможно, и в самой этой «конторе». Должен признаться, что и я, и её муж её побаивались: при всех её качествах – искренней влюблённости, фантастическому искусству любви, уму, невиданной щедрости, находчивости, наглости, нежности и т. д. – у неё была абсолютная непредсказуемость поступков и действий! Однажды в конце лета 1963 года в час ночи она привела ко мне… Валерия Быковского (!) – третьего космонавта, практически только что слетавшего в космос и «слетевшего» в мой подвал с первых страниц всех советских газет точно таким, каким он там был на гигантских фотографиях – в большой фуражке, в форме, с орденами и проч. Он сказал, что его любимый фильм «Увольнение на берег», а я его любимый актёр! Я ему ответил, что он мой самый любимый космонавт, а водку можно купить только на Курском вокзале через швейцара или у таксистов. И мы с ним пошли по самой середине пустого Садового кольца на вокзал, и за всю дорогу нас не обогнала ни одна машина! Ошалевший швейцар тут же принёс нам две бутылки водки и привёл за собой кучу людей – милиционеров, продавщиц и просто зевак. Мы втроём пили до самого утра. А когда мы расставались, Женя сказала, что в следующий раз она приведёт ко мне Никиту Хрущёва! Женя приходила и уходила, когда хотела, и мы каким-то образом даже дотянули до зимы! Я тогда работал в Детском театре, каждый день надо было приходить туда к десяти тридцати, а у меня в подвале происходило бог знает что! Я не высыпался, на репетициях клевал носом, и однажды ночью, в лютый мороз, я только попытался не открыть ей дверь и стал уговаривать её оставить меня в покое хотя бы на одну ночь! Через три минуты в моё окно влетел здоровенный кирпич, пробивший обе рамы! И в моём подвале наступил арктический холод. Пришлось Женю впустить, и мы заткнули разбитое окно двумя подушками.
В эти годы – 1963–1964 – в самом центре Москвы абсолютно безнаказанно «гуляла» так называемая банда Ракитина. Их было человек десять. Говорили, что отец Ракитина был первым секретарём Молдавии и другом Хрущёва, и этих разговоров было достаточно, чтобы и милиция, и КГБ смотрели на них сквозь пальцы. Сам Ракитин был мастер спорта по боксу, да и все они вместе мастерски ввергали своими драками в полное оцепенение и ужас целые залы кафе и ресторанов – причём в любое время дня и ночи. У них был один туркменский ковёр, который они «продавали» приезжим азиатам по нескольку раз в день за 700–800 рублей. Заводили жертву в подворотню, отдавали ему ковёр, брали деньги, и Ракитин тут же нокаутировал несчастного узбека или таджика. Денег ракитинцы не жалели, все официанты их обожали и как могли их отмазывали. Сразу после Нового 1964 года я подрабатывал в Лужниках на ёлках, где изображал Тома Сойера, а вечерами в Детском театре играл роль Геннадия в розовско-эфросовском спектакле «В поисках радости». Насколько я себя помню, у меня с детства была способность чувствовать любую возможную агрессию, даже скрытую, если она была направлена на меня. И как раз в субботу, накануне моего дневного новогоднего выступления в Лужниках и вечернего спектакля в Детском театре, Женя организовала ужин в ресторане «Бега», и с нами были ещё две знакомые мне пары. В самый разгар вечера открывается дверь, и в ресторан вваливается вся ракитинская команда с роскошными центровыми девицами. Кто-то из бандитов взглянул в нашу сторону, и я почувствовал неладное. «Сейчас нас будут бить», – сказал я. «Пусть попробуют!» – сказала Женя, а все ракитинцы вместе со своим вожаком уселись за длинный стол совсем недалеко от нас. И через пять минут в нас полетели рюмки, блюдца и отборный мат!
