Русский. Мы и они
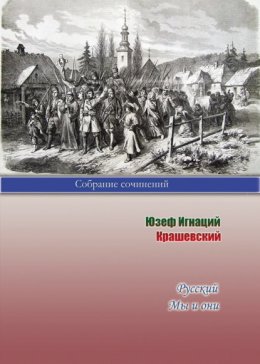
Перевод с польского – Бобров А. С.
© Бобров А.С. 2024
Русский
картинка из 1864 года, нарисованная с натуры
MOSKAL
OBRAZEK Z R. 1864
narysowany z natury
All is true
В те счастливые времена безразличия, когда недавно созданное великодушным Александром I Королевство Польское, к которому прибавили потихоньку нашёптанную надежду на присоединение захваченных провинций, занималось народным войском, польскими орлами и вызовом из могилы воскресшей родиной, когда наши учёные всерьёз говорили о примирении с Россией и о том, чтобы разделить с ней судьбы, прибыл с гвардией в Варшаву молодой офицерик, довольно красивый блондин, элегантной внешности, по имени Александр Петрович Наумов.
Наумов по чистой случайности попал в гвардию к аристократам и дворянам. Он был сиротой, сыном какого-то мелкого должностного лица при Эрмитаже. Ещё ребёнком он слонялся по приёмным, где члены царской фамилии часто его видели. Парень был смышлённый и очень милый, некая княгиня очень ему симпатизировала; в результате её протекции, вовсе не спрашивая о призвании, ребёнка, как только он немного подрос, определили в одну из войсковых частей.
Когда кого-нибудь сделают той машиной, которая называется солдатом, – в России считается самой большой милостью. Саша вырос как стрела, к счастью, не подурнел, напротив, похорошел, отличался среди сверстников, если не чрезвычайными талантами, то большим добродушием, мягкостью и послушанием старших.
В стране, в которой смирение пробивает не только небеса, но стены дворцов, смышлённый, красивый, услужливый и вовсе не гордый Наумов должен был сделать прекрасную карьеру Таким образом, он дошёл до того, что вместо линейного полка, был помещён в гвардию. Так как ему было тяжело в этой дорогостоящей броне содержать себя на одну пенсию, назначили ему в дорогу милость, дополнительное пособие; а то, что Наумов был образцовым солдатом и совсем не боялись, что в Польше он заразится свободомыслием, то его определили в Варшаву.
Мы добавим, что, кроме этих качеств Саши, о которых мы упомянули, у него было доброе сердце, честная натура, а столица, в которой он провёл детство, легкомысленное общество, которым был окружён, ничуть его не испортили. Иногда бедность бывает тормозом для плохого.
Наумов должен был быть, так сказать, положительным, потому что было не на что отпустить поводья жизни. К счастью, сердце также имело в нём больше сил, чем пылкости. Сирота больше тосковал по семье, которой у него не было, по привязанности, которой не вкусил, чем по лёгким удовольствиям жизни, на всю пустоту которых насмотрелся. Будучи не в состоянии и не желая разделить безумие своих товарищей, он больше чувствовал к ним отвращение, чем склонность. Было в нём что-то простодушно-поэтичное; сам он совсем не был поэтом, он очень любил поэзию и целыми часами готов был ею упиваться. Это был не настолько самостоятельный ум, чтобы что-то сам мог создавать, но открытый, дабы принять всевозможную красоту.
Среди соратников Наумов считался обычным человеком, не имел достаточно отваги, чтобы снизойти до малейшего остроумия, молчал, когда был счастлив, молчал, когда гневался, молчал, когда был весел, только одно чувство могло открыть его уста, но, постоянно о нём мечтая, ещё с ним не встретился. Наумов, хотя служил в гвардии, французского языка почти не знал, немецкий немногим лучше, впрочем, никакого другого языка не знал. Пел только русские песни чистым и непоставленным голосом, горячо любил музыку, но столько её знал, сколько ему Господь Бог влил в душу, а солдатские хоры с ней освоились. При этом он во всём был очень ладный мужчина, высокий, плечистый, светлый блондин, белый, румяный, с голубыми, полными грусти, глазами, с лицом, почти всегда мягко улыбающимся.
Переселение из Петербурга в Варшаву помогло Саше узнать совсем новый мир. Он недоумевал, видя, как при очень строгом правлении великого князя Константина, при самых сильных намерениях укротить и подчинить этот несчастный народ, из него брызгала врождённая свобода, о какой в столице царей представления иметь не могли.
В фигуре, движениях, словах даже самого обычного гмина был виден народ, который испокон веков привык к свободе, который чувствовал себя человеком и даже в кандалах рабом быть не умел. Его также чрезвычайно поразило обаяние польских женщин, которых вековая цивилизация подняла высоко, облагородила и придала им физиономию, которая светилась душой.
Самые красивые русские дамы – это живые статуи, иногда очень изящные, но всегда источающие только чувственное легкомыслие. Молодой человек очень удивлялся, что в простых служанках, которых встречал в городе, он находил больше скромного благородного обаяния, нежели в известных аристократических красавицах, украшающих царские салоны.
Хотя у нас всегда было негативное отношение к русским, непреднамеренно чувствуя в них инструменты идеи совсем противной нашей народной миссии, всё-таки при правлении Александра мы были ближе, чем когда-либо, к примирению. Не все польские дома закрывались перед русскими, принимали их в обществе и мы имели много примеров поляков, женатых на русских девушках, полек, вышедших замуж за русских юношей.
Наумов как раз попал на эти минуты безразличия, против которого только малая горстка более горячих потихоньку протестовала. Служба в гвардии при в. князе Константине была так рассчитана, что солдаты и офицеры не имели времени ни на что, за исключением своего солдатского обучения. Мучили приготовлением к муштре, бесконечными манёврами, охраной, а время было так рассчитано, чтобы его на размышление, на внутреннюю работу совсем не оставалось. Не было это делом случая, но, как мы сказали, преднамеренным расчётом; ни в должностном лице человека, ни в солдате самостоятельного, мыслящего существа видеть не хотели.
Великий князь терпел всё, кроме книжек и малейшего симптома того, что в то время называлось вольнодумством. Боялись заговоров, карбонаризма, предчувствовали эти конвульсии, которые должны были породить бесчеловечное угнетение. Как солдаты, которых в то время так мучили на смотрах, что у них часто кровь носом и ртом шла, угнетаемый народ также собирался взорваться кровью. Не могли справиться иначе с ожидаемым возмущением, как умножая и увеличивая их причины, то есть тиранический гнёт. В войске очень бдительно следили за самыми маленькими симптомами самостоятельности, называлось это духом, потому что в действительности происходило от духа.
Наумов, большой педант, парень мягкий и покорный, отлично обученный офицер, был в большом фаворе у князя, который считал его простым добродушным созданием. Почти не было дня, чтобы он не покрутил его за ухо, что у Константина было доказательством большой милости.
– Смотри, Куруто, – говорил он часто своему фавориту, – вы мне всегда хвалите этих ваших худых поляков, есть между ними ладные ребята, нечего сказать, но покажи мне хоть одного такого широкоплечего дуба, не холопа, как Наумов. Этот создан солдатом, а притом, хоть пороху не боится, его не изобретёт. Для солдата это преимущество.
Наумов, лучше познакомившись с Варшавой, как множество других русских в то время, влюбился в неё и в Польшу. Не знаю, каким случаем, он где-то познакомился с одной очень красивой девушкой, дочерью мелкого урядника из комиссии Казначейства. Её мать, когда отец давно умер, жила на небольшую пенсию за выслугу лет, сын служил в каком-то бюро, был женат и жил отдельно. Мать с дочкой занимали очень скромную квартирку на Тамке, в которую Наумов сумел напросится, втиснуться и вымолить, чтобы ему разрешили бывать. Эта красивая девушка, Мисия, живая, проворная и смелая брюнетка поначалу шутила над этим белым русским, он немного её смешил, немного забавлял, иногда раздражал, она постоянно с ним ссорилась, но кое-как его сносила.
Девушка была воспитана очень старательно, а природа одарила её богато, благородным сердцем, живым и открытым умом. Мисия, хотя не была абсолютной красавицей, имела бесконечно много жизни и обаяния, вся её фигура была полна энергии и, несмотря на это, была удивительно скромна и женственна. Познакомившись с Наумовым, вовсе не делая в отношении него проектов, она решила его, как говорила, цивилизовать и сделать из него человека. Сразу влюблённый Саша поддался очень охотно всему, что с ним хотели сделать. Мать смотрела на это не без некоторого опасения за свою любимую дочку, но так ей верила и так высоко ценила её разум и сердце, так была ею завоёвана, что ни в чём сопротивляться ей не могла.
Поведение Миси с этим молодым русским, который, как она говорила, прицепился к ней, было чрезвычайно удачным. Поначалу она вовсе не хотела видеть в нём ни любовника, ни будущего претендента на её руку. Она обходилась с ним почти так же, как со взятой на воспитание собачкой, которую отучает от неприличия, а учит служить, приносить и охранять. Эта учёба была не столько салонных обычаев, потому что Наумов очень прекрасно умел держаться в обществе, сколько новых для него понятий и представлений. Наполовину шуткой, наполовину всерьёз его сначала вынуждали учить польский язык, вместе с ним пришли польские идеи. Мисия не меньше его муштровала, чем великий князь Константин своих солдат; хотела сделать из него поляка, и это преображение с помощью чёрных глаз отлично ей удалось. Они постоянно друг с другом ссорились, то есть Мисия его ругала за всё, он всё принимал с добродушной, сердечной улыбкой. Только раз, когда машинально вырвалось какое-то проклятие на всё племя и русский народ, Саша или пан Олес, как его там называли, встал, покрасневший, и голосом, в котором чувствовалось глубокое возмущение, решительно провозгласил:
– Не проклинай, пани, народа, ты знаешь его только по тем изгнанникам, которых к вам бросают; у народа есть сердце, у народа есть будущее; в чём же его вина, что от вековой неволи упал? Пусть над ним засветит солнце свободы, пусть на него упадёт роса добродетельной науки, пусть его раскуют и развяжут, и увидишь, пани, что он может быть народом великим и достойным любви.
Мисия, смотря на него, побледнела, задумалась и подала ему руку, она смогла оценить в русском эту честную любовь к родине; однако, несмотря на это, она ответила ему полушутя:
– Если бы даже вас расковали, вы будете ещё долго носить на шее следы этого ярма, с которым ходили веками.
Наумов вздохнул и на этом беседа закончилась. Отношения с ним Мисии, в которых никогда о любви даже и речи не было, протянулись очень долго; Саша досконально выучил польский язык, а что больше, его понятия полностью изменились. Рождённый с добрыми наклонностями, он получил пользу от этого нового воспитания женщиной великого сердца и ума. Привязанность его к ней была какой-то спокойной идеальной любовью, тем большей силы, что внешне она выглядела только сердечной братской связью. Мисия также привязалась к ученику, хотя ему этого вовсе не показывала, но позднее ссорилась уже только для формы, а когда Наумов случаем в течение нескольких дней их не навещал, Михалина была грустная и беспокойная.
Мать, несмотря на её веру в дочь, эти отношения, которые легко принимать не могла, очень беспокоили. Как очень ревностная католичка, как особа рассудительная, хорошо знающая, что две веры в браке всегда, рано или поздно, являются причиной разлада, если один из партнёров не сможет преобразить другого, предвидела грустные последствия этого романа, но когда однажды упомянала об этом в скобках дочке, Мисия ей решительно отвечала:
– Если бы я собиралась за него выходить, то сначала уж переделала бы его в католика.
Это продолжалось полтора года, мать потихоньку плакала и терзалась, заболела, в конце концов, и умерла, но к ложу умирающей пришёл заплаканный Наумов и старушка их обоих благословила.
Через несколько месяцев они стояли у алтаря. Невероятно удивлялись и этому бедному гвардейцу, который мог ожидать более прекрасной партии в России, и бедной девушке, что могла пойти за русского. Наумову нужно было преодолеть неслыханные трудности, пока не получил разрешение от великого князя. Вскоре после этого он вышел в отставку и ему дали очень хорошее место в комиссариате, оставив его в Варшаве.
Ещё перед революцией 1831 года какие-то интриги, с которыми в русских бюро не трудно, привели к внезапному переезду супругов даже в Одессу. Михалина и её муж, вполне уже привыкшие к обычаям приёмной родины, с крайней жалостью покинули Варшаву. Михалина гневалась, проклинала, плакала – ничего не помогло, нужно было ехать с мужем в это изгнание на другой конец света.
К счастью, Одесса в то время, как весь тот край за ней, была гораздо более польской, чем сегодня, можно сказать даже, полностью польской. Отношение её с Подольем и Украиной, огромная торговля зерном, отличные морские ванны приводили туда множество обывателей из Украины и Подолья. Более богатые имели там свои дома и магазины, а в околице – значительную собственность и колонии. Россия не имела ещё времени и мужества взяться за искоренение народных чувств; она инстинктивно посягала на это, но не смела признаться в системе, потому что в эту эпоху было больше уважения к главным народным правам, больше стыда и страха перед мнением.
Русские притворялись ещё очень либеральными, толерантными, друзьями всяких народностей, в окрестностях Одессы закладывали новую Сербию, а поляки в этом городе вовсе не казались им ещё вредными. Несомненно, ждали, чтобы обещания Екатерины, которые были повторены в её манифестах по разделу страны, подтверждающие уважение религии и народности, немного состарились.
Даже при Николае, когда уже ни Европы, ни европейского мнения не боялись, искоренение народных чувств шло очень тихо и осторожно, пока незабвенный Бибиков не осмелился посягнуть на права, язык и религию. Он заверил Николая, что всё это может вырвать без сопротивления, он добился от тогдашних маршалов шляхты подписание унизительной петиции об уравнении этих провинций в законах и судебной власти с Россией. С этой поры быстро пошла ортопедическая операция, в результате которой все провинции постепенно должны были стать русскими.
Семейство Наумовых революция застала в Одессе. На её хоругвиях стояла надпись: «За нашу и вашу свободу». Поэтому Наумов мог смотреть на неё молча, когда жена его вовсе не скрывала горячее к ней сострадание. Спустя пару лет, когда два первых ребёнка у них умерли, родился сын, которого Михалина сумела как-то в секрете крестить по-католически и дала ему имя Станислава. А так, как дети, которых она очень хотела, не выжили, она предложила маленького Стася до семи лет одеть в рясу св. Франциска, как то у нас бывало в обычаи. Это, может, вызвало бы какой-нибудь донос, слежку и преследование, но честный Саша, беспокойный из-за какой-то муки, с которой его обманули поставщики, подцепил лихорадку и умер. Бедная вдова, схоронив его останки на берегах Чёрного моря, сама тут же решила вернуться в Варшаву. Друзья мужа легко сделали для неё довольно значительную пенсию по службе, а в дополнение что-то ещё на воспитание ребёнка до его совершеннолетия.
Пани Наумова терпеть не могла Одессы и, продав как можно скорей всё, что только имела, поспешила в прежнюю свою квартиру на Тамке. Она заранее писала брату, чтобы эту квартиру обязательно нанял для неё; там протекли наиболее счастливые годы её жизни, хотела туда по ним плакать и тосковать, по потерянному счастью.
В трауре, который никогда уже снять не собиралась, с маленьким Стасем на руках она отправилась в то жилище, которое ей теперь показалось странно разрушенным, грустным и бедным. Она вся отдалась этому ребёнку, был это внешностью живой образ отца, но с душой несравненно более горячей, материнской. Имел доброту и мягкость Саши, но с энергией и свободным духом матери. Единственный ребёнок, изнеженный, выросший в поцелуях, согретый чрезмерной любовью, он вымахал, как вырастают те дети, колыбельку которых окружает сильная привязанность.
Читатель уже, быть может, предчувствует в этом мальчике героя романа; мы должны были этой генеалогией объяснить феномен русского-поляка, которого не создало наше воображение, потому что не один он сражался в рядах защитников Польши. Было их много, понимающих, что наше дело не отказалось от старой надписи на своей хоругви: «За нашу и вашу свободу». Русское правительство только через год после первых вспышек в Варшаве сделало эту искусственную агитацию, якобы патриотическую, которой смогло сбаламутить незрелый народ.
Его испугали те симпатии, которые начинали к нам проявляться, через уста оплаченных журналистов он смог внушить, что марание польской кровью и уничтожение целого народа было для России потребностью, необходимостью.
Шум наёмной прессы заглушает сегодня всякие проявления возмущения, которые даже и в России вызывают используемые против нас средства, но когда весь этот шум утихнет, те, что сегодня достойны названия человека, должны будут стыдиться за собственный народ.
С болью от потери мужа, одиночества и беспокойства пани Наумова впала в род странной меланхолии, стала весьма набожной и мучилась той мыслью, что Господь Бог покарал её за брак с иноверцем. Это так глубоко укоренилось в её убеждении, что вся жизнь превратилась в род покаяния и отравила её остаток. Она не ведала, что делать со Стасем, за будущее которого боялась, была вынуждена скрывать его католицизм, тревожилась, как бы его не вынудили к отступничеству, плакала целыми днями и впала в болезненное состояние, от которого появилась горячка и в конечном итоге чахотка. Увидев, что она слабеет, предчувствую недолгую уже жизнь, беспокоясь, ещё больше ухудшила своё состояние, так, что, несмотря на самые большие старания, прежде чем Стась дорос до восьми лет, остался полным сиротой.
По правде говоря, у него был дядя, который занимал уже довольно значительную должность в комиссии Казначейства, но был это человек холодный, обременённый семьёй, равнодушный к сестре и её ребёнку, который тут же избавился от упавшей на него опеки, прося принять маленького Стася в кадетский корпус. Среди причин, которые его к этому склонили, был также и страх, чтобы не отвечать позже за его католическое воспитание. Какой-то петербургский комитет опеки офицерских сирот взял на себя дальнейшую судьбу несчастного ребёнка, не от избыточной заботы о сироте, но главным образом из-за того, что на каждой такой единице, которую опекали, воровали немного бюро и чиновники. Курочка по зёрнышку клюёт.
Бедного мальчика привезли вместе с другими, закутав в грубый кожух, прямо в Петербург. Ребёнок оказался в группе ровесников, не в состоянии с ними разговаривать, потому что ни одного слова по-русски не знал, чуждый всему, что его окружало, испуганный и опечаленный.
Но дети и молодёжь имеют ту чудесную силу быстро привыкать к любой обстановке, и Стась, хотя иногда ему хотелось плакать, вспомнив мать, хотя в снах он часто её видел, быстро справился со своей бедой. Капеллан корпуса вскоре с ужасом заметил, что ребёнок крестился по-католически, знал только польские молитвы, носил на груди крестик неправославной формы и, как он это назвал, был некрещённым. Ибо католическое крещение у фанатичных русских не является действительным. Наконец самого имени Станислава не было в греческом календаре, поэтому его окрестили заново, а по какой-то причине сменили имя на немного похожее на то, дав ему имя Святослава. Легко понять, что ребёнок в этом возрасте, находившийся под постоянным влиянием другого мира и обычаев, вскоре должен был забыть о прошлом.
Так и случилось. Маленький Наумов из польского мальчика был полностью переделан в чистого русского.
Но в первых впечатлениях ребёнка есть великая, непонятная сила; они могут стереться более поздними, однако, малейшее прикосновение будит те молчаливые струны, которые первый раз задрожали от материнского голоса.
Устройство всех военных заведений, особенно во времена Николая, было чрезвычайно рассчитано на то, чтобы из живых людей сделать угодливых кукол. Преподаватели и надзиратели бились над той проблемой, как воспитать человека, ломая в нём самостоятельность и волю. И, как птицам обрезают крылья, чтобы не улетели, так этим несчастным воспитанникам деспотизма ломали чувства, принуждали умы, чтобы стали только послушными инструментами одной и единственной воли царя.
Правда, кроме него, никто в России своей воли не имеет, а кто её проявляет, является мятежником. Всякую власть воплощает царь, от канцлера государства вплоть до капрала, все начальники являются помазанными императором, являются от него командированными для исполнения своих обязанностей, но над ними снова различные ступени власти, которые их угнетают.
Кодексом права, в соответствии с их понятием, есть императорская воля, объявленная в письменном виде; царь может её изменить, приостановить и придать ей обратную силу. Общие правила для них не существуют; Божьи законы и права народов являются ересью по мнению царизма.
В первые мгновения польского движения 1861 года, когда послали какого-то военачальника в Сувалки, который вёл там себя по-солдатски, один из судейских чиновников противостоял ему, утверждая, что его поведение было противно закону. Невозможно выразить, какое изумление охватило русского, когда он это услышал, ссылка на закон была для него дерзостью, о какой не имел понятия.
– Закон! – закричал он. – Какой закон? Я тут с руки царя, а то, что я приказываю, является единственным законом.
Поэтому наиболее бдительно наблюдали, чтобы заранее привить молодёжи это слепое послушание живому богу. Николай этот вид безумия в введении идолопоклонства довёл до того, что издали катехизис: «О чести цезаря».
Несмотря на все цитаты из Священного Писания в поддержку этой теории, это старый языческий цезаризм, достойным Калигулы и Гелиогабала, но она несовместима с христианской идеей. Особенно следили за молодёжью, чтобы не допустить к ней даже тени того страшного вольнодумства, которого главным образом боялись. Иногда Николай в глазах детей высматривал некую порочную склонность, а когда ребёнок смотрел на него смелей, тут же его наказывал, дабы на всю жизнь отучить его от своеволия и внушить спасительный ужас. Несмотря на эти чрезвычайные усилия убить в молодёжи дух, Господь Бог бдил, и те монастыри, удерживаемые в самой строгой дисциплине, под гнётом сурового деспотизма выдали много людей, более полных энергии и чувства собственного достоинства.
Когда человек, имеющий в руках власть такого гигантского масштаба, предпринимает чудовищное кощунственное дело, некая невидимая сила все средства, используемые к плохому, чудесно обращает на хорошее. Так случилось с русскими образовательными учреждениями и университетами, на которых повеял издалека неуловимый дух века, не удержали его ни шлагбаумы границы, ни цензура, доведённая до крайней смехотворности, ни намеренные сталкивание молодёжи на дороги безумия и порока, чтобы оторвать её от науки и размышления.
Наумов при доброте и мягкости отца имел также немного от натуры матери. Был весьма благоразумный, легко учился, но ужасно проказничал и всё запретное было для него очень привлекательно. Хотя перед старшими принимал он покорную физиономию, по его губам блуждала ироничная улыбка, а когда начал подростать, прежде чем приступил к катехизису о чести царя, выучил много запрещённой поэзии Пушкина и Рылеева. Всё, чего ему велели учить, он схватывал с лёгкостью. Он окончил военную академию с очень прекрасными свидетельствами, но, несмотря на рост и хорошую выправку, из его глаз смотрело что-то такое, какое-то такое имели о нём представление, что его послали в линейные полки.
Было это явной немилостью, которой был обязан тому, что перед своим начальством не особенно унижался, слишком чувствуя себя человеком. В двадцать с небольшим лет вся жизнь ещё перед нами, никто в эти годы не заботится, вступая в неё, куда опереть ногу, чувствует в себе гигантскую силу, и знает, что дойдёт, куда хочет. Наумов, освобождённый из заключения, тяжёлой дисциплины военных учреждений, вылетел в свет как птичка, особо не заморачиваясь причинённым ему вредом. Полк, к которому был он приписан, стоял в Лифляндии, и в самом начале, когда докладывал генералу, командующему им, его встретила пара таких премилых голубых глаз, что он совсем от них потерял голову.
Эти глаза принадлежали старшей дочери генерала, Наталье Алексеевне, они смотрели на мир только лет двадцать, но столько уже на нём видели и так хорошо его понимали, словно рассматривали его пятьдесят лет. Действительно, интересные мужские типы встречаются в русском обществе, но особенно в высших сферах есть женские фигуры, являющиеся сплавом варварства с цивилизацией, какого нет нигде на свете, кроме России.
Наталья Алексеевна, издалека похожая на светлого ангела, вблизи была одним из тех феноменов, для анатомического разбора которых потребовался бы скальпель Бальзака.
Отчитываясь пану начальнику, который внимательно приглядывался к петербургскому посыльному, ища в нём сразу какой-нибудь скрытый недостаток, так как хорошо понимал, что без него из академии в линейный полк его бы не выслали, Наумов смутился под огнём голубых глаз Натальи, стоявшей за отцом и немилосердно обстреливающей прибывшего рекрута. Все без исключения офицеры любили её, она должна была пополнить число их, сразу взяв штурмом юнца. Увы! Это слишком лёгкая задача, когда глаза взывают, обещают, говорят и, казалось, сулят неземной рай… избраннику… Быть этим избранником так мило… когда ещё не знаешь, что есть женщины, для которых все по очереди по полчаса являются их единственными.
Наталья, воспитанница Смольного монастыря, потом петербургских салонов и двора, образованная, испорченная, живущая головой и чувствами, а не сердцем, имела тот обманчивый внешний вид идеального существа, который часто соблазняет и подвергает тяжким испытаниям. Сирота, потому что давно потеряла мать, любимица отца, избалованная, прежде чем прикоснулась к жизни и её обязанностям, она упилась уже мыслью о всевозможном пороке.
В столице он столь явный, что разминуться с безнравственностью невозможно; пальцем показывают на всех любовниц всевозможных знаменитостей, любовников всех дам, скандальные истории являются ежедневной пищей салонов, жизнь, понятая как осторожное удовлетворение всевозможных фантазий человека… чем выше кто стоит, тем больше тому разрешено шалить… тем, кто ещё выше, можно всё. Наибольшее уважение окружает испорченных существ, лишь бы имели поддержку, успех и силу, через фаворитов делают свои дела, улаживают запутанные споры, подкупают судей, получают тайные аудиенции, вовсе не стыдясь занять это место и получить с него пользу. Сказать по правде, говорится об этом потихоньку, но открыто, везде, при женщинах и девушках, которые учат теории жизни, прежде чем приступят к её практике.
Наталья Алексеевна могла рассчитывать на прекрасное будущее, была восхитительно красивой, свежей и неслыханно смелой, знала всё, что выходящая из Смольного монастыря девушка может знать: знала французский, как парижанка, английский и немецкий превосходно, играла на фортепьяно с невероятной бравадой, мило пела, а чтение романов было её любимым занятием.
Ничто не защищало её ума и сердца от фальшивого понятия задачи женщины и роли её на свете; обещала себе дурачить, очаровывать и добиться высокого положения… будь что будет. Задумавшись, она не раз улыбалась сама себе, рассчитывая, что должна выйти за немного старого мужчину; в её планах на первом месте стоял брак такого типа, с любовником вдобавок, одним или несколькими, с большим состоянием, с именем, с путешествиями, Парижем и т. п. Отец не был богатым; помимо Натальи, было ещё две сестры и сынок, который уже ходил в пажеском мундире; и хотя полк был дойной коровкой, он не мог дать приданого, потому что жили по-пански. Наталья знала, что своим будущим может быть обязана только себе. Она не заботилась, однако, о нём чрезмерно, чувствовала, что первый богатый, полысевший вдовец либо измотанный старый холостяк, на которого захочет накинуть сети, будет её добычей. Тем временем она развлекалась, влюбляя в себя офицеров, ссоря их между собой и смеясь по очереди над всеми. Собственно говоря, она командовала этим полком; отец был под её приказами.
Ещё свежая и не сломленная никаким чувством, никаким противоречием, одарённая огромным талантом, Наталья имела тысячи лиц, а на самом деле ни одного. В зависимости от вдохновения, каприза она перебирала по очереди образы – серьёзный, детский, весёлый, игривый, наивный, и до отчаяния доводила своих любовников. Никогда вчерашний день и его настроение не ручались за завтрашний; после величайшей нежности, продвинутой даже до слёз, наступало холодное равнодушие и насмешки, после сильнейших ласок – самый страшный гнев, всё это без видимой причины, без логики… Переходила сразу от одной крайности в другую; она играла с изумлением тех, кто хотел её понять.
В глубине этого характера был холод испорченной, странной дочери севера, для которой инстинкт эгоизма был самым высшим и единственным правом. В церкви Наталья крестилась и била поклоны, ибо стояла на первом месте перед иконостасом, и приходилось ей притворяться набожной, но над религией смеялась и публично поносила.
В России благочестие бывает очень редко, за исключением народа, вера является тут инструментом управления, её священники – родом полицейской службы над совестью, они сами не принимают всерьёз своих обязанностей, их всегда можно купить, взять и склонить ко всему; внешние обряды здесь значат больше, чем дух Евангелие; грехи можно легко простить, не прощается только ошибка в форме. Разрешено смеяться в углу над мессой, но при мессе нужно бить поклоны. Создания, души которых нуждаются в религии, должны прибегать к католичеству, чтобы в нём найти удовлетворение. В Петербурге также множество женщин тайно бросали православие и ходили в наш костёл, чувствовали они в нём Бога, которого в их церквях не было, а в наших священниках находили людей образованных, у которых находили совет и утешение для страждущей души.
Наталья была испорченным, но прелестым и очаровательным созданием, то есть самым опасным чудовищем, какое может привлечь чистое и честное юношеское сердце.
Наумов, который не представлял себе дьявольской игры с сердцем человека, сразу попался в ловушку этих глаз и из всех офицеров полка он влюбился донельзя безумно. Для тех опытных и старших Наталья была милой игрушкой, он из неё создал себе идеал.
Вам, может быть, не раз случалось встречать в Италии одну из тех картин, изображающую красивую транстеверанку или женщину из Альбано, которых молодые художники часто выбирают для своих студий моделями; вы восхищаетесь на полотне и чертами, и выражением, и колоритом, и мыслью, которая, казалось, льётся из задумчивых очей. Вам, быть может, также случалось потом, прогуливаясь около Монте Пинчио, встретить оригинал картины, высохший, обычный, усталый, хотя похожий на тот идеал, в который художник влил свою душу.
Любовь является таким художником, что из самого распространённого материала умеет создавать мадонн и ясных богинь; чем больше любви в душе человека, чем светлее сияет избранное существо. Вот что Наумов сделал с Наталией, когда в неё так безумно влюбился. Бедняга не отдавал себе отчёта, что его обожествлённая Наталия была не той живой, ходящей по свету, а призраком его души. Он не задумывался над тем, что сколько бы раз не оставался с ней, немного остывал и испытывал какое-то болезненное разочарования, а в одиночестве воспоминанием о ней влюблялся до безумия. Не заблуждался он вовсе видами какого-то будущего, хорошо знал, что Наталия за него не пойдёт, но любил, потому что любовь была для него потребностью, а глаза этой женщины тянули его в неземные миры.
Это происходило в 1861 году, когда из малюсеньких проявлений пробуждающегося духа выросли эти гигантские события, которые являются одной из самых прекрасных и грустных страниц истории Польши.
Сразу после февральских выстрелов, после великих похорон, Россия, у которой для духа не было другого оружия, кроме кулака, а для борьбы против чувств ей нужен был штык, начала стягивать в Варшаву войска. Среди прочих полков, туда же был предназначен тот, в котором служил Наумов.
Это была минута, которая определила будущее Польши и России. Более зоркие уже видели, что в благороднейших душах родилось сострадание к нашему делу, это создало друзей деспотизма.
Из журналов, из сочинений, из самих фактов, которые позже старательно пытались скрыть, легко убедиться, что русские поначалу были воодушевлены величием той картины, которую представляла Польша. Горчаков вынужденно отступал перед этой поднявшейся волной, мы видели солдат 27 февраля, бросающих карабины и переходящих на сторону народа, полковников, которые, не в состоянии выполнить выданных им приказов, предпочитали покончить с собой; ещё минута и, быть может, российский народ, уступая благородному порыву, сам бы помогал сбрасывать с нас цепи.
Правительство, также отлично это увидев, начало искусственную агитацию, которая перешла в пьяное безумие; после первых признаков сочувствия к Польше спустили с цепей ту стаю ищеек, которые большими словами должны были сбить с толку слепой народ, заиграли на всех трубах псевдопатриотизм, а родина, которой бремя этой немного более свободной музыки приятно щекотало уши, начала танцевать, когда ей заиграли.
Но не будем опережать событий; первые новости о движениях в Польше вызвали те же чувства, которые мы видели в полках кавалерии 25 и 27 февраля. Слушались приказов, но старались не принимать участия в зверствах, а многозначительное молчание, закрытые рта, хмурые лица выдавали внутреннее беспокойство души. То, что мы пишем, это неоспоримый факт; правительство, составленное из людей без чувства, для которых кровопролитие в политических целях казалось делом простым и естественным, не колебалось ни минуты с тем, что хотело делать; народ доводили до безумию подлые подкупленные журналисты, на которых лежит пятно вечного бесчестья. Не нашёлся ни один человек совести, отваги, который бы во имя правды заступился за попранные права человечества.
Почти одновременно с приказом к маршу дошли до полка лаконичные журналистские отчёты о событиях и глухие новости о них. Наумов изумлялся сам себе, что чувствовал себя таким взволнованным и беспокойным, когда о них слушал. Неизвестно почему, ему в голову пришли его молодость, мать, туманные воспоминания о Варшаве, и бьющееся сердце рвалось, как к братьям, к тем мученикам, которых народ почтил торжественным историческим погребением. На протяжение всего этого дня он был молчалив, задумчив и чувствовал, словно его что-то тянет туда, к свежим могилам. Товарищи совсем по-разному об этом всём думали, он молчал, приходило ему в голову, что у него был там дядя и его сыновья, из которых один мог пасть под пулями русских солдат, что и он сам может быть принуждён идти на своих кровных и поднять братоубийственную руку на бедных жертв. Вся эта странная неразбериха творилась в его сердце и голове.
В этот самый вечер несколько офицеров, а среди них и он, были приглашены на чай к генералу. Алексей Иванович был хмур и задумчив; некогда он принадлежал к декабристам, но, к счастью, это не открылось, стёрлось, и теперь, когда он дошёл до генеральских погон, когда сам уже представлял царя и его власть, осуждал всякие попытки освобождения. Разделял он со многими другими то мнение, что николаевский деспотизм был преувеличенным и вредным, но верил также в либерализм и реформы Александра. Это его как бы оправдывало в собственных глазах, что поддерживал правительство. Как истинный русский, он инстинктивно терпеть не мог Польшу, мало знал поляков и то, с той стороны, с какой их знают в Петербурге. Он придерживался мнения императора Николая, который, раздражённый, однажды при Ржевуском и Радзивилле высказался о нас: «Ненавижу тех поляков, которые мне оказывают сопротивление, а тех поляков, что мне служат, презираю».
Алексей Иванович был петербургским цивилизованным генералом из разряда тех, что ко всему пригодны. Он чувствовал, что его ждёт большое будущее. Меньше всего, может, опытный в стратегии, он ожидал в будущем какого-то большого положения в столице, так как одна из любовниц графа Ад…а была его большой подругой. С мрачным лицом раздумывал он над польскими событиями, но через грусть, которую принял для порядочности, проглядывала совсем неприличная весёлость. До сих пор ему не хватало какой-нибудь возможности, чтобы дать узнать о себе, отличиться и попасть на дорогу милостей и почестей. Он сейчас ясно видел, что события в Польше могли ему предоставить отличную возможность для быстрого возвышения.
Очень кратко, но с горечью отзывался он о старом растяпе Горчакове и о тех, кто его окружал, давая понять, что он поступил бы совсем иначе…
Наталья Алексеевна была тоже очень рада будущему отъезду в Варшаву. Хотя русские гордятся своей страной и цивилизацией, когда едут на запад, они невольно чувствуют, что приближаются к Европе, и что этот мир, который они с презрением называют гнилым и старым, имеет над ними превосходство и величие учителя. Они потихоньку над ним смеются, как студенты над педагогом, но когда тот войдёт в класс, в классе тихо и в груди бьются сердца. Сердце Наталии тоже билось от мысли, что увидит одну из европейских столиц, а вдобавок одно из любопытнейших зрелищ, такое новое для русских, – революцию.
В гостиной полковника одна Наталия была легкомысленно весела; офицеры поглядывали друг на друга и, не зная что говорить, молчали… Генерал ходил, тёр остатки волос и бросал иногда бессвязные слова, из которых только можно было понять возбуждённое состояние его души. Наумов вдалеке, в тени, оперевшись на окно, был настолько погружён в мысли, что даже щебетание Наталии не обращало его внимания; девушке не понравилось, что кто-то в её присутствии смел думать не о ней. Поэтому она подбежала к Наумову, по дороге, согласно своей привычке, глядя во все зеркала, и пробудила его громким вопросом:
– Что там Святослав Александрович? Много поляков вы убили, задумавшись, вероятно, о Варшаве?
И, не дожидаясь ответа, с диким смехом, показывая белые зубки, говорила дальше:
– О, если мы там ещё попадём на революцию, тогда просить буду папеньку, чтобы у меня непременно было окно на улицу! Когда в них будут стрелять, я буду хлопать и смеяться. Слышал, отец, такую наглость? Чтобы эта горстка безумцев посмела с нами схватиться? А кто из господ офицеров лучше всех покажет себя, того поцелую… ей-Богу! Поцелую!
Наумов поднял хмурое лицо; она думала, что встретит на его устах улыбку запала и желание получить этот поцелуй, но она разочаровалась. В глазах Святослава была глубокая печаль. Она молчала, хотела получить ответ, но Наумов не сказал ни слова.
– Что вы на это скажете? – наконец она обиженно спросила.
Глухим, сдавленным голосом молодой офицер сказал тихо:
– Моя мать была полькой.
Наталия мгновение смотрела на него, потом вдруг отвернулась и начала говорить о чём-то другом. Но не прошло и нескольких минут, когда она снова обернулась к молодому человеку, и, неизвестно почему, пытаясь его соблазнить, молча подала ему руку. С её стороны был это простой манёвр кокетки, которая, хотя не любит, не позволяет, чтобы любовник её оставил. Для него эта молча поданная рука свидетельствовала о чувстве, перед которым, если бы не генерал, он упал бы на колени. К счастью, он не увидел улыбки, которая пролетела по губам Наталии как молния.
И она и генерал были того мнения, что полякам вовсе не следовало давать поблажки, что нужно было за них взяться по-николаевски. Тогда не предвидели, что система Николая по сравнению с системой Александра когда-то покажется мягкой.
С вечера от генерала офицеры разошлись по квартирам, разговаривая шёпотом между собой. Капитан пригласил к себе на пунш, и там только после первых рюмок у них развязались уста. Но, сказать правду, хотя вроде бы говорили очень откровенно, никто не открылся до глубины, всякий боялся даже самого лучшего друга, потому что у русских шпионаж настолько распространён, даже такой обязательный, что его все боятся. Притом офицеры строили из себя либеральных, поэтому полностью поляков не осуждали, а большинство было того мнения, что эту Польшу, как шар, прикованный к ноге, вечно враждебную, всегда неспокойную, нужно было однажды отдать.
Юноши тише беседовали в углах, догадываясь, что этими событиями можно было воспользоваться, чтобы выторговать какие-нибудь свободы.
Но этот разговор о политике продолжался очень недолго, сразу начали рассказывать об удовольствиях жизни в весёлой Варшаве, которую многие из них знали, о вечерних балах в зелёном садике, и беседа при помощи пунша перешла на озорные шутки, а Наумов выскользнул к дому, чувствуя на груди камень.
Наумов занимал очень скромную комнату в довольно отдалённой части городка; его слуга, вечно сонный Иван, дремал у хозяина, поэтому офицер, возвратившись домой, удивился, когда увидел в своих окнах свет и тень прохаживающегося по комнате мужчины. Он ускорил шаг и вскоре, остановившись на пороге, изумлённый, увидел военного в дорожной одежде, который, казалось, ожидает его.
Он с трудом узнал в утомлённом дорогой путнике бывшего товарища по кадетскому корпусу Генрика. Они очень дружили, но судьба их позже разделила, так как Генрик был назначен в главный штаб, а Святослав в полк. Почему они так привязались друг к другу – это тайна симпатии молодости, но и то, может быть, послужило причиной их сближения, что Генрик был родом из Варшавы, и что с ним иногда можно было поговорить о Польше. Наумов, даже став русским, любил о ней вспоминать и что-то его к ней тянуло.
Что до Генрика, тот был самым горячим патриотом; принадлежал ко всем тайным обществам, разветвлённым в военных учреждениях и университетах.
Узнав друг друга, они бросились друг другу в объятия и две их юношеские души воспряли со всей молодой горячностью дружбы. После долгой разлуки первый такой разговор есть всегда беспорядочной мешаниной слов, тысячью вопросов без ответов, воспоминаний, неразгаданных загадок. Наумов велел сразу поставить самовар и собирался угостить приезжего, когда тот ему объявил, что проведёт всего несколько часов и тут же едет в дальнейшую дорогу.
– Куда? Тебя куда-нибудь послали? – спросил Наумов.
– Нет. Еду в отпуск к семье, – ответил Генрик.
– Значит, у тебя не может быть такой срочности, – отозвался первый, – и мог бы смело мне день посвятить.
– Не могу, – пробормотал, покачав головой, Генрик, – не могу…
– Что же у тебя за срочность?
Офицер долго смотрел на приятеля, словно его изучал, словно желал, чтобы тот сам о чём-нибудь догадался, но Наумов, хотя события в Польше тронули его сердце, не имел ясного представления, какие они на него возлагали обязанности.
– Ведь вы уже знаете, – спросил спустя мгновение прибывший, – что делается в Варшаве?
– Мы знаем только из газеты и слухов, из которых немного можно узнать, а ты?
– Я, – сказал неуверенно Генрик, – мы знаем немного больше, но сначала, во имя старой дружбы, что ты об этом думаешь?
– Я, – ответил медленно Наумов, – я ещё над этим не задумывался, а потом, для меня это вещь чуждая, потому что я не поляк.
– Ты поляк по крайней мере наполовину, – воскликнул Генрик, – мать твоя была полькой, но если бы ты даже ни капли польской крови не имел в жилах, если был бы чистым русским, татарином, калмыком, разве не чувствуешь, в чём дело?
– Тише, – сказал Наумов, – я понимаю, но объясни мне, какую связь может иметь польский вопрос с освобождением России?
– Не буду тебе вспоминать нашей истории, – воскликнул молодой человек, – ты знаешь её или догадываешься, всюду, где Польша сталкивалась с Россией, сражались друг с другом две идеи – свободы и неволи; ещё сегодня покорённая и разорванная Польша так же борется за свободу, должна быть инструментом вашего выкупа. Вы должны воспользоваться польским движением, чтобы сбросить ярмо. Не видишь этого? Если вы вместо того, чтобы воспользоваться тем, что у нас готовится, обратитесь против нас, закуёте на себе цепи на долгие ещё годы. Ежели Россия не захочет понять того, что, отказываясь от добычи, деспотизма и разделов, которые для неё есть тяжестью, неудобством, может в нас получить вечного помощника и союзника для полного освобождения; если же ради самодержавия захочет нас притеснить, тогда ещё долгие годы останетесь в пелёнках и безвластии.
Пойми меня хорошенько, – говорил он дальше, – абсолютизм идёт против указанных природой вещей, предназначенных обоим странам. Величина и сила России не лежит в кощунственных завоеваниях народов, которые нужно уничтожать, чтобы их победить. Государство слишком уж обширное, не хватит ему уже внутренних сил на оживление этого ужасного гиганта, который болезненно разросся. Сколько раз уже повторяли, что предназначением России есть переливание цивилизации на восток, это предназначение она никогда не удовлетворит, коли будет вечно увеличивать изнурительную борьбу, продвигая её на запад. Если она не откажется от Польши, должна облиться её кровью, стать ненавистной в глазах Европы, все свои силы использовать на борьбу с цивилизацией и остановиться во всём шествии ещё на долгие годы. Несмотря на гигантские материальные силы, предполагаемую помощь Пруссии и Австрии, Россия исчерпает себя и её утомит этот бой, который никогда не закончится победой; может временно измучить Польшу, но даже ценой совести и жестокости никогда её полностью не победит.
Из векового опыта вы можете извлечь и тот вывод, что слишком огромные государства всегда есть только подготовкой великого краха, они угождают гордости деспотов, но не имеют условий долгой жизни; потом от самого лёгкого сотрясения они распадаются на части, как распалась Римская империя и все безумные фантазии ей подобных универсальных монархий. В духе века, в предначертаниях будущего подготовится что-то совершенно другое, кажется, что необходимой формой будут федерации крохотных государств, если свобода победит; большие государства, большие армии, большие бюджеты, большие налоги и большой гнёт – это пережитки прошлого, которые должны исчезнуть. Стало быть, мой дорогой, Россия, желая сбросить ярмо деспотизма, должна отдать Польшу Польше.
Должна ограничить дальнейшие разделы и начать огромную внутреннюю работу, на которую всех её сил едва ли хватит. О завоеваниях не думать, завоевания её ослабляют, опасаться завоевания нет причин, она достаточно сильна, чтобы оборониться, нуждается ещё в большой работе, чтобы из этого сурового, испорченного материала создать жизненную и смелую целостность.
Так говорил Генрик, а Наумов слушал его, задумчивый, не прерывая, только мягкая улыбка играла на его лице.
– Всё это очень прекрасно, – сказал он, – но это фантазии людей, которые больше имели дел с бумагой, чем с жизнью. Каждому, кто раз завоевал кусочек земли, кажется, что его уже навеки должен иметь. Россия, конечно, не откажется ни от пяди земли и я очень сомневаюсь, сможет ли когда-нибудь выбиться та часть Польши, которая сегодня называется королевством. Не только правительство, но и народ имеет свою гордость, сумеет её разбудить, это утопия, – добавил, заканчивая, Наумов. – Желаю наилучшего Польше, но ожидаю самого худшего.
– Так действительно может быть, – живо воскликнул Генрик, – если эти вещи все будут воспринимать так же, как ты. Россия, если имеет разум, воспользуется событиями, даст освободиться Польше и сама станет свободной. На это мы все должны работать.
– Как это? И мы?
– Главным образом, мы, – сказал Генрик, – мы военные, войско есть главным инструментом деспотизма, только через войско может прийти избавление. Нам нужно работать над солдатом, между собой, и это самое страшное оружие тирании отобрать.
– Но какие же это средства? – спросил Наумов довольно равнодушно. – Ты знаешь, что заговоры ни к чему не приводят?
– Кто тебе это сказал? – обрушился Генрик. – Ни один заговор никогда бесплодным не был; он приготовит умы, а когда, раскрытый, он потянет за собой жертвы, те станут последователями и апостолами. Каждый заговор есть посевом, который рано или поздно всходит.
– Но согласно твоей теории, – прервал, усмехаясь, Наумов, – мир неустанно должен был бы составлять заговоры?
– Нет, – сказал Генрик, – заговор является преступлением, если его замышляет амбиция такого Наполеона III, который, поклявшись Речи Посполитой, изменяет своей клятве, дабы угодить личным интересам и постелить гнездо новому деспотизму, но заговор против тирании есть наивысшим долгом.
Я знаю о том, – сказал, впадая в экзальтацию, Генрик, – что теория до сих пор не обозначила определённых границ, в которых революция является оправданной, нужной, скажу, святой, а когда она станет преступной и недостойной. Я знаю, что революция есть всегда социальной болезнью, что по доброй воле, из-за фантазии, счастливый народ никогда её не поднимет – но наилучшее указание законности революции – внутренние чувства общества. Если весь народ чувствует, что его правительство ведёт его на дороги, противные общественным правилам, что для его удержания вынуждено использовать средства, которые осуждает вечная мораль, в это время заговор является обязанностью, революция – необходимостью.
Теперь я задам тебе один вопрос: не оправдывает ли такое правительство, которое прививает идолопоклонство, приказывая почитать человека, как Бога, которое разрывает семейные узы, требуя от детей, чтобы доносили на родителей, от родителей – чтобы выдавали собственных детей, которое призывает, оплачивая шпионаж для предательства, которое сковывает человеческую мысль, которое сжимает совесть и награждает отступничество, которое выворачивает всю идею закона, основанное на самых неморальных принципах, заговор и революцию? Докажу тебе, – окончил Генрик, – что то, что тебе навязываю, близко к правде.
Нельзя любить революцию ради революции, ни отрицать, что она нарушает идею общественного порядка, что пробуждает плохие страсти, что, как инструментом, он должен часто пользоваться людьми не первой воды. Но кто же виновен, когда давление делает это зло необходимым?
Наумов невольно почувствовал себя увлечённым горячей проповедью Генрика, но всё его прошлое не располагало чрезмерно принять эти идеи, не чувствовал ещё призвания к действию, уже готов был смотреть на них с состраданием, но, видимо, имел отвращение к решительному действию. Несмотря на это, как каждому более тёплому чувству, которое возвышает человека и облагораживает, он позавидовал запалу Генрика, его мечтам и даже опасностям, которым мог подвергнуться.
– Мне не трудно догадаться, – сказал он, – что, если что-нибудь произойдёт, то ты, небось, со сложенными руками стоять не думаешь?
Генрик усмехнулся.
– Ну, а ты?
– Я, – сказал медленно Святослав, – не чувствую в себе никакого призвания к переустройству мира, ни сил к этому, я готов, аплодируя, приветствовать новую эру, но…
– Но поработать для неё ты не думаешь, – прервал Генрик. – Вы почти все такие, либерализм ваш и желание реформ кончается на платонических вздохах к Господу Богу, чтобы вдохновил своего помазаника. Вы хотели бы хлеба, но муку молоть и рук пачкать не желаете. Поэтому, быть может, Россия ещё долго, вздыхая, будет поднимать ярмо, потому что правда то, что сказал какой-то публицист, что каждый народ имеет такое правительство, какое заслуживает.
На этом на мгновение разговор прервался, а Генрик не открылся больше приятелю, который его также развивать не думал.
Они разговаривали так до полуночи, а когда пришли почтовые лошади, начали прощаться с добродушием и сердечностью.
– Стало быть, до встречи в Варшаве?
– До встречи, Наумов, жаль тебя, что ещё запрячься в работу не хочешь, но даю тебе слово, – воскликнул Генрик, смеясь, – что, подышав нашим воздухом, ты должен измениться! Впрочем, если ничто другое тебя не вдохновит, тогда какая-нибудь красивая полька тебя обратит.
Наумов вздохнул.
– Слушай-ка, может и ты влюбился в эту дочь генерала, от которой все офицеры вашего полка сходят с ума? Стыдись, если должен влюбиться, то не в русскую!
Святослав весь покраснел.
– О! Поймал я тебя, птичка, даже не отрицаешь; теперь понимаю, почему тебе никакой заговор не по вкусу, но пусть только красавица предаст, а сердце закровоточит, увидишь, какой из тебя будет горячий революционер. До свидания!
Сказав это, они расстались, обещая вскоре увидеться в Варшаве.
Утро следующего дня Наумов немного проспал, и ещё не оделся, когда услышал в прихожей шум. Дверь открылась и вошёл, как обычно, в шапке на голове и плаще, барон Книпхузен… барон, недавно присланный из кавалергардов в линейный полк пехоты, что означало, если не полную потерю привелегий, то, по крайней мере, какое-то лёгкое наказание за таинственную провинность и какую-то немилость.
Тихо говорили, что поводом к ней были некоторые отношения с женщиной, информация о которых дошла слишком далеко. Но как всю жизнь барона, так и этот случай покрывал туман, а он о себе не говорил никогда. Только его внешность и фигура выдавали Дон Жуана: бледный, высокий, очень красивый, полный панского достоинства и пренебрежения, имел презрительную мину, издевательскую, равнодушную, казалось, что жизнь и будущее не много его уже интересовали, тем больше заботился о настоящем, которое старался сделать для себя более приятным. Книпхузен был самым безумным гулякой в полку, а в обхождении с товарищами самым дерзким нахалом. Грустный, хмурый, безжалостно насмешливый, когда открывал уста, барон презирал людей, мир и всё, что они привыкли уважать. Был остроумен, видно, раньше много читал, знал немало, но теперь и книги его уже не занимали.
Был это человек поношенный и изнурённый, хотя молодой, скучающий и живущий только потому, что ленился петлю себе накинуть на шею.
Товарищи его боялись, старшие даже имели к нему некоторые соображения, но что всего удивительней, Наталия Алексеевна, полновластная пани сердец, подчинённых отцу, казалось, была с бароном более послушной, чем с другими.
Он один в неё не влюбился, был вежлив, холоден, немного насмешлив с ней, но очень осторожен. Быть может, именно поэтому ему то казалось, что навязывалась к нему, то вовсе его не замечала. Отзывалась о нём обычно очень плохо, но слишком часто говорила, выдавая себя, что он не был к ней совсем равнодушен, шпионила за ним, не терпела и всё же краснела всякий раз, как он входил в комнату. Барон открыто над ней шутил, хотя чрезвычайно вежливо и прилично.
Книпхузен с Наумовым не были в хороших отношениях, характеры их не согласовались и не были совсем противоположны, чтобы тянуться друг к другу. Поэтому молодой офицер удивился, видя его у себя так рано, а тем более, когда оказалось, что барон имел под плащом только халат.
– Ты пил уже чай? – спросил, зевая, гость.
– Нет, но самовар готов.
– Очень хорошо, и я с тобой выпью… но есть у тебя ром и лимон?
– Пошлю за ними, если хочешь.
– Пожалуйста, чистый чай – очень правоверный русский напиток, но для людей, нуждающихся в пробуждении, очень лёгкий… ром его делает сносным. Вижу, – добавил барон, – что ты удивляешься, что я поспешил к тебя с таким ранним визитом… но не забывай, что я стою в трёх шагах, что мне скучно и что вчера, возвращаясь поздно, видел почтовую кибитку перед твоей дверью. У тебя был гость? Что слышно? Гм?
Сказав это, он уселся, а скорее лёг, на канапе, запустил белую руку в чёрные пряди волос и с интересом поглядывал на хозяина.
– Мой бывший товарищ по корпусу по пути в Варшаву минуту побыл у меня, – сказал равнодушно Наумов.
– Из Петербурга?
– Да, из Петербурга.
– Что же в Питере? Великое возмущение? Великие страхи? Великая злоба или великий хаос?
– Мы об этом мало что говорили, – прервал Наумов, – больше о себе и товарищах.
Барон начал свистеть; а через мгновение сказал, крутя папиросу:
– Слушай, Святослав, ты за шпиона меня принимаешь что ли?
– Что же это, барон?
– Как же ты хочешь, чтобы я поверил, что вы вдвоём с Генриком (потому что я его знаю, и знаю, что был) на протяжении нескольких часов болтали незнамо о чём, когда над головами у вас гремит революция?
– Думайте что хотите, несомненно то, что о Петербурге мы говорили меньше всего!
– Тогда о Варшаве! – усмехнулся барон и сразу медленно добавил, смеясь: – Это только моя лень, что спрашиваю тебя, о чём вы там разговаривали. Немного потрудившись, я мог бы почти дословно угадать ваш юношеский разговор. Естественно, ваши головы горят, когда вы слышите о революции, сердца бьются, вы думаете уже мир от цепей расковать и построить Речь Посполитую!
Он улыбнулся и говорил неспешно дальше:
– Всем этим я уже переболел и пережил, как оспу. Вам, молодым, нужно всё-таки чем-то занять себя, но все эти красивые утопии – это груши на иве, мой дорогой Наумов; мир так идёт к лучшему, как раньше паломники ходили в Троицкую Лавру: два шага вперёд, один назад, а очень часто шаг вперёд, а назад два. Мир будет миром, зло злом, а сколько воробьёв поймают на мякину, – это чистая прибыль от всей работы.
– Я признаюсь вам, – прервал Наумов, – что я тоже не очень верю в утопию…
Барон долго смотрел ему в глаза и серьёзно сказал:
– В самом деле? Это меня удивляет, я имею право ни во что не верить, но ты – нет. Оказывается, что либо я в тебе ошибся, либо ты ещё не пробудился. Человек должен рано или поздно пройти через такие необходимые болезни, как оспа, скаралтина и коклюш. Ну, что он тебе говорил?
– Ты угадал, – отвечал, смеясь, Наумов, – он много мечтал…
– Поляк, ничего удивительного, это народ ещё гораздо младше нашего, если бы его было немного больше, я всерьёз боялся бы за Россию. Подумай только, Наумов, какими мы выглядим при них старыми и холодными! Поляк молится, плачет, любит, верит, даёт себя обманывать аж до самой смерти, возьми нашего брата хотя бы самой горячей натуры: в двадцать лет уже летает за цыганками, а в салоне считает приданое, а в церкви стоит как столб, но думает о вечерней игре или о ночной гулянке, слёзы ему только хрен выжимает, а из страха готов на все подлости, каких от него кто требует. Нашему правительству вовсе не нужно бояться революции, наш брат капли крови не прольёт за убеждения, потому что их нет. Мы – народ практичный и зайдём далеко…
Сказав это, Книпхузен налил себе обильно рома в чашку и так говорил далее:
– Через две или три недели будут у нас потихоньку шептать с симпатией о Польше, но это быстро прекратится. Генералам это на руку, потому что заработают на переходах и транслокациях, офицерам на руку, потому что погуляют, а что если ещё военная стопа, это и двойная пенсия.
Солдатам это нравится, потому что будут грабить, чиновники уже облизываются, потому что в мутной воде взятку брать лучше всего. Поэтому все возьмутся за поляков, сдерут с них кожу, нашумятся патриотизмом и баста.
После этой речи барон сделал небольшую паузу.
– Что до меня, – сказал он через мгновение, – я рад, что сменю квартиру, всё-таки Варшава – это город, не такая дыра, как тут, по крайней мере, найдётся добрый трактир и кандитерская, и человек от недостатка женских лиц не будет вынужден рекомендоваться либо к Наталье Алексеевне, либо к кухарке Прасковье.
Наумов нахмурился от этого воспоминания и сказал серьёзно:
– Прошу вас, не отзывайтесь так о Наталье Алексеевне.
– Меня радует, – сказал барон, смеясь, – что хоть в этом аспекте вы молоды, Наумов, – но не могу похвалить вашей первой любви, ведь это, несомненно, первая?
Наумов молчал, хмурый.
– Я ведь люблю вас, – добавил Книпхузен, – и поэтому посоветовал бы вам для первой любви выбрать хотя бы Прасковью, а не такое создание, которое родилось без сердца, как иногда телята рождаются без головы. Намучаешься, отчаишься, она над тобой посмеётся, только и всего.
– Почему вы думаете, что Наталья Алексеевна?..
Барон не дал ему докончить и холодно сказал:
– Наталья только одно существо может любить на свете – себя. Как же вы не видите, что ей нужно десять тысяч рублей дохода, а потом мужа, хотя бы и шестидесятилетнего; это всё едино…
– Знаете, барон, – с кислой улыбкой бросил Наумов, – это похоже на то, что вы в неё влюбились и мстите за холодность…
– Оно, может быть, так и выглядит, – отвечал совсем не обиженный предположением Книпхузен, – но если бы ты меня знал, в таких бы глупости не подозревал. Я уже так перелюбил, что если бы даже Наталья Алксеевна при своём обаянии была действительно женщиной, уж меня охомутать не сумела бы. Ты видишь, что я дошёл до того, что на одну чашу весов кладу её и кухарку Прасковью, а, сказать правду, предпочитаю Прасковью; Прасковья имеет сердце… делимое до бесконечности, но имеет…
Наумов так был обижен, что слов ему для защиты не хватило.
– Видишь, – говорил далее барон, – какая из меня испорченная бестия, но этому не помочь, по той причине, что человек может испортиться, а исправиться не сумеет; таким я уж и сдохну. Если бы ты меня послушал, обходился бы с Натальей так же, как я; чем больше ты будешь перед ней падать, тем она агрессивней будет издеваться над тобой. В твоём возрасте без этого обойтись нельзя, а от такой нездоровой любви люди иногда с ума сходят.
Так, смешивая три по три, барон выпил полбутылки рома, выкурил шесть папирос, и бледное лицо его покрылось живым румянцем.
По нему было видно, что этот напиток искусственно пробудил притихшую в нём жизнь, но симптомом возвращения к ней были только более злобные насмешки. На лице Наумова отобразилось как бы жалость, отблеск которой барон подхватил и понял.
– Не жалей меня, – сказал он, усмехаясь, – может ли человек быть счастливее меня? Смотрю на мир, как на комедию, в сердце пустота, голова не глупая; если бы не лень, дошёл бы, куда хотел, но зачем? Похоронят ли меня в генеральских погонах, в солдатской ли шинели, всё равно нужно сгнить!
– Я прав, – прибавил он спустя мгновение, – что Генрик вчера польским либерализмом тебе голову напряг; я пришёл специально, дабы её освободить. Революции делают такие люди, как ты и он, а таких людей во всей России, может быть, несколько сотен, когда таких, как я, имеются тысячи. Что вы можете сделать? Вы, люди совести, что будете играть народу одну песенку, какую вам диктует убеждение, а мы ему сумеем напеть то, что будет нужно!
– Благодарю вас, – сказал Наумов, – что с такой заботой прибежали исцелить меня от мнимой болезни, но верьте мне, я до сих пор не заразился и мне кажется, что мы до каких-либо перемен мы не дозрели.
– И не дозреем, – воскликнул барон, – потому что гниём. Это грустная вещь, но правда. Я сам прогнивший и вижу это по себе; я завидую здоровым, но вылечится не смогу, чем же я виноват, что с колыбели в меня вливали яд, что я никогда не был молодым, что неволя сделала из меня невольника, который уже даже в свободу не верит?
Сказав это, барон медленно встал, набросил на плечи плащ и, напевая какую-то нелепую французскую песенку, медленно, не попрощавшись, вышел от Наумова, на которого и пребывание его, и разговор с ним произвели нездоровое впечатление. Вместо того, чтобы вылечить его от болезни молодости, Книпхузен дал ему желание всех её иллюзий и безумств.
Спустя несколько дней Наумов был вызван к генералу, полк готовился к выступлению, однако заранее, нужно было обеспечить жильё, склады и разные удобства для семьи господина генерала; поэтому вперёд решили выслать с поручениями именно Наумова.
Каким образом выбор пал на него, объяснить трудно; быть может, Наталья хотела ненадолго избавиться от назойливого, хотя очень покорного поклонника, который следил за каждым её шагом и не раз угадывал мысли; быть может, ожидали, что Наумов лучше сумеет выполнить данный ему приказ, нежели кто-нибудь другой. Верно то, что генерал советовался с дочерью по этому поводу и не без её добавления указал офицеру, что он должен отправиться в Вршаву и там ожидать полк.
Будто бы случайно во время разговора вошло полковое божество в ошеломляющем утреннем наряде, с улыбкой на губах и тем смелым взглядом, который, направленный на других, кажется нам неприличным, но когда падает на нас самих, опьяняет.
Наумов сто раз это испытал, гневался, когда этими вызывающими очами генераловна смотрела на холодного Книпхузена, млел от удовольствия, когда ими смотрела на него. Девушка была весёлой и прервала отца, коротко выдающего приказы, кладя ему доверчиво на плечо руку.
– Папенька, вы, конечно, попросили Святослава Алексеева, – воскликнула она, – чтобы нашёл для нас жильё обязательно на большой улице, недалеко от замка, чтобы я имела окно с фасада и могла рассматривать, как наши казаки усмиряют взбунтовавшуюся Варшаву…
Наумов молчал, но это презрение сильной боли, которую не знал, хотя уже её предчувствовал, обливало его лицо кровавыми волнами.
– Но, папенька, – говорила весёлая, красивая девушка, поправляя рукой кудри богатых золотистых волос, – две комнаты и салон для приёма; салон для меня, две комнаты, для Маши и для Ольги по одной, для брата… и притом что потребуется… только прошу вас, чтобы это было красиво и весело…
Безутешный Наумов слушал… а генерал, видя, что он принимает подробную инструкцию, посчитал правильным только добавить:
– Бумаги и деньги на дорогу возьмёте в канцелярии, желаю вам удачной поездки…
Сказав это, он склонил голову и ушёл, но Наталья осталась; её губы улыбались, неизвестно чему и на что, не любя этого парня, который сходил по ней с ума. В ту минуту, когда он её покидал, она желала сильней записаться в его памяти, боялась, чтобы у неё этой добычи не отобрали. Кокетки, как обжоры, жадные, всегда хватают больше, чем нужно, хотели бы вырвать у других то, что им самим не пригодится.
– Я уж знаю, – прибавила Наталья тише, – что вы постараетесь, чтобы у меня было приятное жильё…
– Можете ли сомневаться, – вздохнул опьяневший от её взгляда и одухотворённый молодой человек, – сделаю, что только будет возможно.
– Сделайте даже то, что невоможно, – прервала Генералова, – потому что я взаправду увяну в этой Варшаве! Ежели хотя бы сквозь окно не буду смотреть на свет… Ужасный город… весь в трауре, ежедневно бои на улицах, русского общества мало… и то незнакомое… скука… ни балов, ни раутов, ни музыки… а офицеры заняты службой… что мы там будем делать?? Правда, – добавила она с волнением, – представь себе, что зато увидим настоящую революцию, а это как извержение вулкана, вид необычный и в наших холодных зонах незнакомый! Но какое мне дело до той революции, которая не развлекает и не танцует! Я всё слышала на богослужениях и костёлах.
Она говорила это живо, легкомысленно, а глазами постоянно жарила этого несчастного Наумова, который, действительно, как рак в огне, всё более красный принимал цвет.
Девушка, видя, как действует взгляд, напрягла его силу, меняла выражения, издеваясь над молодым человеком, как дети иногда играют с пойманным жуком, судорожные движения которого их забавляют…
Наталья то прохаживалась по комнате, то останавливалась, прищуривала глазки, вздыхала, будто бы ей было тяжело с ним расстаться, прикидывалась грустной, играла в скрытые страдания, и даже более старший и более опытный мужчина купился бы на эту игру, которую инстинкт женщины, всегда почти точный, делает для того, кому она предназначена.
– Только там не дайте какой-нибудь польке соблазнить вас, – добавила она, угрожая пальцем, – потому что это, слышала, самые опасные кокетки, каких свет видел… и не забудьте о нас…
Наумов осмелился, возможно, первый раз в жизни, пробормотать:
– О! Я рад бы вас забыть, Наталья Алексеевна.
– А это прекрасно! Почему? – обрушилась явно обиженная девушка.
– Потому что вы над самыми лучшими вашими друзьями только насмехаетесь, – шепнул Наумов, который с удовольствием пил яд.
Она странно рассмеялась.
– Как вы плохо знаете людей и женщин! – тихо ответила отвлечённая женщина, этим шёпотом придавая словам вес.
Наумов стоял очарованный, она пожала ему руку, имела его уже достаточно – рада была от него избавиться, но, как Партха, вонзив в его грудь стрелу.
– Ну, счастливой поездки, – сказала она, – и всё равно вам повторяю: не забывайте о нас, обо мне…
– А вы? Будете хоть иногда вспоминать вашего вечного слугу? – спросил он.
– Откровенно, мне вас будет очень не хватать… никто лучше пряжи для сматывания мне не держал, – воскликнула она издевательски, закрутилась и хотела уйти, когда неожиданно увидела стоявшего с минуту на пороге барона, который, крутя усы, поглядывал на эту сцену с насмешливым сожалением.
В свою очередь Наталья покраснела, Наумов побледнел.
– Могу засвидетельствовать, – сказал с порога барон, – что, кроме великого таланта Наумова держать пряжу, который делает её гораздо более удобной, чем стульчик, у него есть и другие, менее оценённые и более почётные, может быть… Ни один из нас, Наталья Алексеевна, так достойно, глубоко, как он, не умеет любить… Что мы стоим рядом с ним? Старые, испорченные насмешники!! Когда он говорит о вас, в его глазах наворачиваются слёзы и голос дрожит… Верьте мне, верьте, золотое сердце!! Но из золотых сердец делают… пряжки для туфель… а из искусственного золота – кольца, которые пачкают пальцы, Наталья Алексеевна, так на свете.
– Какая неоценимая дружба! – прервала раздражённая девушка, краснея немного от гнева, немного от стыда.
– И в этот раз искренняя, – сказал барон, – я вовсе не шучу с честью, Наумов – идеальный поклонник. Хорошо получилось, что вы посылаете его в Варшаву поискать жильё; если не найдёт такого, как вы хотите, он готов душу дьяволу продать и через две недели поставить для вас каменицу…
– Вы бы этого не сделали! – шепнула Наталья.
– Я! Нет, – сказал барон, – во-первых потому, что душа два раза не продаётся (даже сказочная), а моя давно уже оплачена и заложена… Увы! Некому её выкупить… во-вторых, что я готов бы для испытания вашего терпения сделать что-нибудь во зло…
– Вы любите мучить, барон?
– Чрезвычайно, – ответил Книпхузен, – из человека всё хорошо выжимает пытка… и, как прачка воду из платка, так из людей те, кто их мучают, выжимают добродетель, самопожертвование, мужество… жизнь.
– До тех пор, пока всё не выйдет? – спросила девушка.
– Я кажется воспользовался плохим сравнением, – прервал равнодушно барон, – но вы, несмотря на это, меня поняли, не правда ли? Я помешал прощанию? – добавил он через минуту. – Мне уйти?
Наумов нетерпеливо мял в руках шапку.
– О! Мы уже попрощались, – промолвила Наталья, равнодушно склоняя голову офицеру, который собирался уходить.
– А значит, мы оба одновременно уходим, – шепнул Книпхузен, салютуя Наталье, – и не оборачивайтесь, – добавил он. – Вы знаете повесть об Орфее и Эвридике… кто не хочет потерять возлюбленной, не должен на неё оглядываться. Это, как и все мудрые сказки, символичная история. Слишком оглядываясь – теряют, притворившись равнодушным – раздражают и привязываются… Но ты не знаешь этих истин, очень ординарных; веришь, что любовь, как магнит, который сам собой притягивает. Ты забываешь, что самый сильный магнит не схватывает стружку и клоков… а как раз с ними ты имеешь дело…
От удачного сравнения барон сильно начал смеяться, и они вышли так из жилища генерала; в окне на них смотрело гневное личико Натальи.
– Не оглядывайся на Эвридику! – повторил Книпхузен. – И смело вперёд, рыцарь. Она сама пойдёт за тобой, а если обернёшься, она тебе фигу покажет.
Из того, что мы поведали о Наумове, читатель мог получить о нём некое представление; зная причины, легко догадаться о последствиях. Был это честный парень, немного испорченный влияниями, которые на него действовали, благороднейшие чувства и стремления в нём ещё спали, не чувствовал себя человеком, был офицером с маленькой предрасположенностью к повседневному либерализму, который его излишне не возвышал. Очень быть может, что переселение в полк немного задержало в нём более свободные стремления, какие он сначала показывал в корпусе, быть может, что несчастная любовь к женщине, в глазах которой московский свет казался идеалом, также на него влияли. Наумов выезжал, грустя по любимой и проклиная барона, которого оставлял с ней; почти ничего его теперь в Варшаве не тянуло.
Но по мере того, как он приближался к этой столице польского мученичества, которую покинул ещё ребёнком, воспоминания о которой утратил, которая казалась ему чужой, в нём пробуждались странные впечатления. Страна, околицы, люди, обычай, физиогномика, язык – всё как бы в утреннем сне напоминало виденное некогда, как бы памятки из лучшей жизни! Он чувствовал, что не приезжает сюда, а возвращается, понял наконец, что является родиной… когда сердце забилось сильней и слёзы брызнули из его глаз, а образ давно забытой матери на фоне этой страны выступил живой, выросший, великий!
Часто песнь пастуха, которой он не понимал, одним своим грустным звучанием доводила его почти до слёз… сердце билось всё быстрее, а туманное воспоминание детских лет выступало всё живее, всё выразительней, и волновало душу.
Всё, что он оставил за собой, вплоть до Натальи Алексеевны, казалось ему чужим миром; там был он ассимилировавшимся изгнанником, здесь – родным ребёнком этой земли… К несчастью, язык, физионогномика, одежда делали его русским и, когда с радостью он приближался к тем неизвестным братьям, они отстранялись от него с каким-то страхом и отвращением. Это его смутило… но он утешался тем, что в Варшаве найдёт свою родню, настоящую, семью матери, сестры и брата.
Для сироты, который никогда не вкушал удовольствий жизни в семейном кругу, эта надежда сблизиться с существами, связанными с ним кровными узами, была также великим счастьем. Он воображал, что его тут примут как брата… и обещал любить их… всей неудовлетворённой жаждой любви, которой до сих пор ещё использовать не мог.
Внешнее состояние страны и города, хотя в этом он не мог дать себе ясно отчёт, столь удивительно отличалось от русской, было в нём одновременно больше цивилизации и больше простоты, больше поэзии, веры и грусти, прежде всего, больше самостоятельного характера…
На больших трактах русской пустыни жизнь похожа на ту, какую можно заметить на железных дорогах мира, построенных в Африке и в Индиях, – мешанина самого дикого варварства и плодов, принесённых чужой цивилизацией. Всё, что получило человечество, позаимствованно Россией, привезено, деспотизм и неволя не позволили стране собственными силами сделать какого-либо прогресса; а прилепленные на этом фоне изобретения, достижения странно отличаются от почвы, на которой не выросли. Несмотря на либерельные реформы, в людях на всех ступенях видна какая-то азиатская разница каст, отделяющую человека от человека, общество отчётливо разбито на слои, которые сталкиваются, не перемешиваясь. Рядом с хатой из брёвен – кирпичный дворец, с бороной из веток ходит американская сеялка, сахарная фабрика трётся об острог, полный узников, железная дорога пересекает бездорожные пущи… полно противоречий, аномалии, непонятных загадок, все языки как при Вавилонской башне, все понятия смешаны, рационализм разнуздан, фанатизм как бы первых веков, секты и неверие, а над этим всем ненасытная жажда использования, нарушая всякие права общей морали.
Даже, когда в первый раз въезжаешь в бедное Королевство, поражает неизмеримая разница страны, которая иначе, медленно, собственнными силами зарабатывала свою цивилизацию. Тут всё лучше усвоено, сильнее вросло в почву, на которой стоит. Революционная Россия, лишённая традиций, в судорогах пугливого деспоизма переворачивающаяся на Прокустовом ложе, думает, что и нам, как и им, достаточно Милютина, чтобы похоронить девятисотлетнее прошлое – потому что выносит нам приговор от себя. У них всё стоит на песке – замки и институции одинаково легко переносятся и замещаются одни другими; в Польше то, что выросло из её земли, имело время пустить в ней корни.
Важно-грустной показалась путешественнику Польша, в которой повсюду по дороге находил красноречивые руины, свидетельствующие, на первый взгляд, о былом величии и процветании, о сегодняшнем упадке и угнетении… Горе женщин, может быть, не столько его поразило, сколько горе всей земли, покрытой свежими руинами, объявляющими о пытке и боли. Чёрные орлы достаточно объяснили эти последствия любезно нам предоставленной протекции и воплощения этого великого государства… которое умеет уничтожать, но создавать не может.
Несмотря на свою бедность, Польша любопытным его глазам показалась восхитительно красивой и радующей сердце – что-то от этой земли говорило ему великой идеей, за которую она была распята на кресте и сто лет лежала в муках под издевательством палача…
Грустный и взволнованный Наумов въехал в Варшаву, а вид этих толп в чёрном, мрачных и гордых лиц, разбуженных глаз, в которых, казалось, наворачивается кровавая слеза, этих людей, скованных телом и вольных духом, почти унизил офицера. Россия со всей своей отвратительной мощью казалась ему маленькой, дикой, слабой – такой сильный дух заметно горел в этом народе и, казалось, предвещал неслыханную борьбу.
Было это перед апрельскими событиями, в те времена колебания правительства, которое уже знало, что собиралось делать, а начать ещё стыдилось. Большие политики, знающие расположение столицы и высокомерие, которое никаких уступок не допустит, заранее понимающие, что в идее небогатая Россия должна была обратиться к штыку и действиям, уже в это время направляли правительство на ту дорогу насилия, по которой оно позже пошло в действительности. Адъютант князя Горчакова, М… который заклинал его пустить кровь мятежной Варшаве, маркграф, иные советовали суровость как проверенное лекарство…
Правительство, как тигр, который готовится броситься на добычу, всё ещё сжалось, прежде чем на неё прыгнуть, ждало предлога, взрыва, оправдания… Оно ещё не порвало полностью с Европой и раздумывало, должно ли бросить ей перчатку, – боялось войны и не было к ней готовым… колебалось в выборе людей и средств.
Этот короткий промежуток времени со 2 марта немного более кажущейся свободы дал понять ему, что лишь бы чем польский голод не уталит…
Наумов прибыл среди этого накала, а вид Варшавы устрашил его и разволновал… Сразу на следующий день он побежал искать свою родню. Брат пани Наумов-старший умер пару лет назад, но семья его, довольно многочисленная, жила в Варшаве, частью с матерью, частью уже на собственном хлебе. Из трёх его сыновей один был при Варшавско-Венской железной дороге, другой – урядником в банке, третий, самый младший, в Медицинской академии. Старшая дочка была замужем, а муж её занимал какую-то должность на значительной фабрике в городе, вторая и третья жили с матерью. Поэтому дом тёти Наумова, пани Быльской, на Лягушачьей улице, кроме пожилой матери, занимали две взрослые и молодые девушки, а также молодой парень.
Узнав сперва, где они жили, Наумов на следующий вечер с бьющимся сердцем побежал на Лягушачью улицу. Пани Быльская, живущая на пенсию и небольшой капитал, который был плодом экономии её мужа, занимала несколько комнаток, бедных, но опрятных, на втором этаже. Одна служанка и в то же время кухарка обслуживала семью, мать которой привыкла к работе и дочек заранее к ней приучила.
Входили через тёмную прихожую, которая вместе с тем была входом в маленькую кухонку.
Был вечер и красивая девушка как раз зажигала лампу в этой клетушке, собираясь принести её в комнату, в которой все собрались на чай, когда робко на пороге показался Наумов. Путешествие его научило, какое неприятное впечатление эта злополучная ливрея иностранного деспотизма производила на всех в Польше.
Красивая девушка, занятая лампой, казалась чрезвычайно удивлённой при виде офицера и, даже не дождавшись вопроса, начала кричать:
– Это не здесь, это, очевидно, ошибка. Пан русский живёт на третьем…
Но Наумов спросил пани Быльскую.
– А что вы от неё хотите? – спросила удивлённая девушка.
– Я хотел бы её увидеть.
– Сейчас, сейчас… но кто же вы? Если разрешено спросить?
Офицер догадался, почувствовал, что перед ним была кузина; она не выглядела служанкой, хотя, когда работала, на ней был белый фартучек, а одета была очень скромно.
– Меня зовут Наумов.
– А! Боже! Наумов! Вы не…
– Я племянник пани Быльской… то есть…
Девушка засмеялась. В её лице видно было желание подойти к родственнику, но чувствовала отвращение к мундиру и фамилии. Не желая принимать решение о том, как принять такого близкого пришельца, Магдуся открыла дверь комнаты и позвала: «Мама, мама!»
Спустя мгновение на пороге появилась женщина высокого роста, ещё крепкая, сильная, румяная, в повседневной домашней одежде, с лицом, исполненным доброты и здравого смысла. Её седеющие волосы плохо прикрывал развязанный чепчик, в руке она держала чайничек.
Заметив Наумова, она посмотрела на него и на дочку… молча.
– Вот этот господин хочет увидиться с тобой, матушка, – воскликнула Магдуся. – Пан Наумов, – прибавила она с нажимом.
– Пан Наумов! А! – крикнул старая Быльская.
Офицер, будто бы по-польски, целуя ей руку, начал представляться, весь дрожащий и смущённый.
– Входите же! Входите! Это сын Миси. О, Боже мой! Сын Миси! Русский… дорогой Иисус!! А! Ты русский! Магда, подай лампу, просим, просим. Как поживаете?
И, хотя с каким-то опасением, она поцеловала его в голову.
Этот сердечный поцелуй старой женщины для жаждущего объятий и любви сироты был таким сладким, так схватил беднягу за сердце, что чуть ли не со слезами он начал пожимать ей руки, а у Быльской также появилось доброе чувство и она обняла его за шею. Наумов расплакался.
– О, милый Боже! – воскликнула, поднимая руку, Быльская, которая любила покойную больше, чем её муж, и долго с ним даже борьбу вела, желая сироту к своим шести детям присоединить.
– О, милый Боже! Вот это он! Это тот милый Стас! Но что это они из него сделали! Ведь и польский язык забыл! И уже целиком русский!
Вся семья сбежалась на это приветствие, которому слёзы и возгласы матери придали сердечный характер. Академик Якубек, называемый в семье Кубой или Куцем, мальчик, румяный, как яблоко, с чёрными горящими глазами, и старшая сестра Магдуси, Ления, возможно, Элеонора.
По очереди стали обнимать Наумова и приветствовать как брата, хотя Богом и правдой не ведали, кого в этом человеке принимают – друга или врага? Верили только в те слёзы, которые заструились из его глаз и обнажили в нём сердце.
За лампой и Магдусей всё это потекло в гостиную, над тапчаном которого висел портрет князя Ёзефа, справа – Костюшко, слева – Килинский. На обширном серванте Ян III доставал саблю в защиту христианства.
Среди этих людей и этих воспоминаний русский сел, весь дрожа; он уже был им благодарен, что его не оттолкнули, что ему отворили дверь, несмотря на язык, на каком говорил, и одежду, которая была на нём.
Девушки шептались.
– Какой он странный!!
– Красивый парень, – говорила Магда, – но какой омоскаленный!! Какой русский, сестра! Слышала, как он говорит?
– Ну, пусть-ка тут побудет, тогда мы его снова польскому научим.
Куба стоял напротив и, молча уставив на брата глаза, изучал его пылающим взглядом, достигал до глубины его души, открытой от волнения.
– Ну, девушки, делайте чай, когда Бог нам принёс такого милого гостя, – сказала Быльская, – и достаньте того от Крупецкого, потому что он, должно быть, требователен к чаю, потому что у них столица этого пойла, а мне подайте мой кофе… Ну, говори, говори, как ты к нам попал? Останешься ли с нами?
Наумов рад бы рассказать, но ему не хватало слов, он должен был сперва объяснить, почему напрочь забыл польский язык. Старая Быльская вздыхала и плакала, академик морщился, девчата мало что могли понять и осторожно смеялись над странными словами русского. Всё-таки он подкупил их всех тем, что на его лице они заметили сердце, что дрожал, что был смущён, что вроде бы стыдился той одежды, в какой им представился. Они чувствовали, что он совсем не был виноват, что ребёнком, сиротой, отданный в добычу России, он должен был превратиться в русского. В этой его оболочке они увидели страдание и начали его жалеть, как какого-то больного или калеку.
Наумов подкупил их покорностью, а выработалось в нём странное чувство, которое каждую минуту с прибытия в Варшаву росло. Двадцать лет воспитания на чужой земле не смогли стереть следов того, что в него влила материнская грудь, всё забытое пробуждалось, двигалось, возрождалось из пепла. Воспитанник Петербурга, он только чувствовал, что был ребёнком Варшавы и желал стереть с себя эту оболочку, которая сделала его чужим для них, может, ненавистным.
Ещё несколько недель до этого он считал себя русским, теперь кипела в нём польская кровь и чувство долга, какое она несла с собой. Он начал медленно говорить, ломая язык, смешивая два противоположных друг другу и портящих друг друга слова, но с каким привлекательным добродушием. Куба, сёстры его, сама пани смеялись и радовались этой ломке, доказывающей, по крайней мере, его добрые желания. Академик, который немного понимал по-русски, переводил, поправлял и, невольно притягиваемый к брату, присел к нему; он почувствовал, что надо было обратить его, что здесь одно знание языка тянуло сейчас за собой возрождение души и человека. Никогда ещё с детских лет Наумов не слышал этого языка, которым проговорил первые в жизни слова, с таким удовольствием звучавшего ему в живом доверчивом разговоре.
Эти звуки как песнь радости отразились в его сердце, ему казалось, что он вернул потерянную мать, семью и стёртые сны идеалов тех лет, в которых был ещё любимым Стасиком бедной вдовы. Странное чувство наполнило его грудь; всё это время, проведённое в мундировом плену, казался ему как бы тяжкым сном, из которого только что пробудился; он чувствовал облегчение в груди, ясней было в голове, утешался и радовался, только сам не мог объяснить этого утешения и радости. Честное иссохшее сердце медленно оживало.
А когда сестрицы рассмеялись над каким-то словом, он отвечал им почти красноречиво и в запале даже почти на хорошем польском языке:
– Не смейтесь, но сжальтесь надо мной, моё сиротство сделало меня тем сломанным человеком, какого видите перед собой. Я не стал им без мучения и отвращения, не отказался ни от своей веры, ни от языка, ни от матери-родины и праха матери с легкомыслием и равнодушием, предательство накормило меня тем, принуждение перевоплотило… Отец мой был русским, но был человеком, не обременяет его памяти ни одно пятно. Вы предубеждены против нас, и там на севере сердца бьются, и там желание свободы палит уста и сушит грудь, но это здание тюрьмы, что достигает от Вислы до Амура, от ваших равнин до Кавказа заперто тысячью штыков, запечатанно миллионом цепей и вырваться из него не может тот, кто однажды вошёл в его Дантовы адские врата…
Он опустил от стыда глаза и все замолчали, слушая его, и ему сделалось грустно…
Наумов был воодушевлён и разгорячён, сам удивлялся себе, так как чувствовал, что какой-то огонь горел в его жилах, и дал его ему один глоток нашего воздуха.
– Если в России тоже чувствуют тяжесть неволи, – воскликнул Куба, – почему же не пытаются его сбросить? Почему не порвут этих позорных уз?
– Это когда-нибудь случится, – ответил Наумов, – но не скоро, мы, русские…
– А! Ты называешь себя русским?? Ты?
– Я вынужден, – сказал, усмехаясь, Святослав, – ведь ношу их одежду, говорю их языком и принадлежу к ним. Нам, русским, нелегко действовать, века нас приучили к послушанию; не знаем, где искать тех ворот, через которые можно выйти из тюрьмы… Посмотрите на людей света и таланта, которые ведут нас за собой, на одного Герцена мы имеем сто непримиримых Катковых, Аксаковых, Шиповых и т. п. Когда правительство не может нас взять страхом, тянет безумием патриотизма… войско необразованное, народ тёмный, дворянство подавленное и привыкшее ко двору, бюрократия сгнила… кому же тут что сделать?
– А чувства к Польше?
– Читайте самых дружелюбных к вам и те не поймут Польши иначе, как горсти шляхты, которую ненавидят, которой пренебрегают… Фанатичный народ не терпит поляков, как неверных, старая родовая неприязнь ещё кипит… и разделяет нас.
Замолчали, но этот более серьёзный пункт разговора скоро прервали девушки смехом и шутками, старая Быльская начала рассказывать о матери Святослава, о его детстве и в весёлом шуме закончился этот вечер, который, может, был решающим для судьбы человека. Расстались друзьями, и Наумов вышел взволнованный, счастливый, хотя печальный…
Только на улице, как тень, пронеслось у него воспоминание о Наталье Алексеевне, и его удивило чувству страха, которое его охватило. По нему пробежала дрожь… туда тянула страсть, сюда – сердце… Наталья хорошо олицетворяла очарование неволи, этот дом – чистые удобства семейного круга и свободы.
Впечатления первых дней росли с каждой минутой. Через неделю после знакомства с Быльскими старая Быльская напомнила Наумову о долге посетить Повязковское кладбище, на котором покоилась его мать.
Выбрали более тёплый и ясный день, вся семья по желанию предложила сопровождать его в этой экспедиции, Наумову требовался проводник, потому что один не смог бы найти даже этой дорогой могилы. Пошли пешком, не спеша, и в дороге воспоминания о дне 2 марта, ещё такие свежие в памяти всех, кто видел эту торжественность, занимали старушку, её дочек и академика, который был констеблем, поддерживающим порядок в стотысячной толпе; на его руке была бело-чёрная повязка.
Думая о той минуте, которая подъёмом духа равной себе не имела, глаза всех увлажнились слезами… Русскому описывали этот поход среди тишины, это весеннее солнце, это средоточие у могилы всех положений и верований, и победу, одержанную над русскими, которые, как бы пристыженные, спрятались и отреклись от своей власти.
Когда они шли на могилку, с краю они заметили могилу жертв, всю усыпанную венками, зеленью, покрытую многочисленными знаками почтения, которые, очевидно, принесли туда самые бедные руки. Несколько человек из города молились на коленях, взволнованные и молчаливые… И они тоже там остановились, а Наумов пошёл за Быльской отдать дань памяти останкам мученников.
– Тут лежат избранные судьбой, счастливые, – сказал Куба, вздыхая, – без памятника, потому что его, несомненно, Москва не разрешит поставить, но место их погребения есть и останется священным для всего народа. Если выбросят их останки, сохранит память песок, что их присыпал. Вместо мраморного камня хотели им насыпать только гигантскую могилу и это было бы более подходящим… В первые минуты запала тем братьям нужно было схватить землю ладонями, шапками, в полах и тут же выполнить счастливую мысль… но все тогда боялись подстрекать и так уже раздражённые чувства, что как можно быстрей хотели разогнать толпы и завершить погребение, выпрошенное чудом у Горчакова. Кто сегодня знает, скоро ли будет подобное этому! Может, никогда.
– А такая могила, как Костюшковская, под Краковом, – воскликнула одна из девушек, – была бы одним из наикрасивейших памятников Варшавы, – мы бы землю фартуками носили… но теперь… теперь уже не позволят, говорят, что солдаты принесённые венки ночью воруют и разбрасывают… хоть каждый день снова как бы чудом находят все могилы ими увенчанные…
– Действительно, – сказал академик, – велик был тот день, когда тела этих несчастных несли по городу, когда мы их со скорбным триумфом вели на этот отдых, окружённых венками и пальмами, среди такой великолепной тишины, которая, словно объявляла рождение новой эпохи. Народ чувствовал, что входил на дорогу, полную чудес и ведущую к возрождению… престыженные враги скрылись…
– Почему же тогда, – шепнул взволнованный Наумов, – вы не пробовали сразу, пользуясь испугом, слабостью неприятеля, выгнать его и стряхнуть узы?
– Многие к этому рвались, – ответил Куба, – но общий инстинкт победил и день тот прошёл спокойно. Многие из нас придерживались того убеждения, что, хотя всякие вооружённые попытки выбиться из неволи у нас наиболее оправданы, польская революция не должна быть такой, какой были и могли быть иные. Те наши походы с крестами и хоругвиями против саблей и штыков, которые вышли как бы из души народа, – вот пример для будущей борьбы.
Бороться мы должны не тем банальным земным оружием, которого у русских больше и которое лучше, но оружием, против которого они не могут ничего поставить, – жертвой и смирением. Ежели мы сможем удержаться на этой дороге, не сходя с вершины, на какой мы были второго марта, мы, несомненно, победим. Мы слышим и не удивляемся тому, что русские были бы рады, если бы мы выступили против них с оружием в руках. Таким образом борьбу с небес мы привели бы на землю к простым повседневным условиям боя. Вы, верно, знаете, – говорил он далее с запалом, – ту битву гуннов, которую духи переносят в воздух, вот мы таким духом должны подняться, чтобы наша война стала боем духов, тогда миллионная армия вашего царя будет для нас нестрашна, потому что ни один солдат из этого миллиона на ту высоту, на какую мы станем, подняться не сумеет.
Наумов с удивлением слушал, но было видно, что он не совсем соглашался с принципами академика, хотя его запал, очевидно, на него повлиял.
– Из этого вижу, – сказал он, – что вы вовсе не думаете о вооружённой революции, о взрыве, которого все в России боятся.
– Ошибаешься, – отвечал Куба, – очень многие о том думают и верят, может, что когда весь народ восстанет как один человек и начнёт борьбу за свободу, победит. Но я не принадлежу к тем людям, кои для подъёма Польши хотели искать обычных средств, изношенного оружия, заговоров и революции. Сотни лет уже столько вооружённых революций напрасно устраивали и, кажется, что прошли их время и эра; огромные армии, превращение людей в солдаты, а городов – в крепости делают восстания почти невозможными. Эти революции с поля баррикад и уличных боёв должны перенестись на совсем иные – на кладбища, в костёлы, в суды, в публичные собрания, а вместо солдат с оружием в руках, сражаться в них будут женщины, дети, старики, священники, и умирать с песней триумфа.
Тут Кубе изменил голос, он был сильно взволнован, Наумов слушал, но почти с издевкой усмехался – так был далёк от великой мысли честного парня, который показался ему странным мечтателем. В самом деле, о такой революции, о какой говорил Куба, Наумов не имел даже представления.
Русская молодёжь хватает революционные идеи, как всякий запретный плод, идёт в них очень далеко и в теориях своих не знает никаких границ, но о революции духовной, о какой говорил академик, никто в Москве представления не имел.
На этот раз беседа прервалась, так как пани Быльская вошла уже на само кладбище и вела Наумова на могилу его матери. Сын был глубоко тронут, приближаясь к скромному камню, покрывающему останки той, любовь которой он помнил в жизни как первую и последнюю. Живо он вспомнил ту минуту, когда в траурной одежде стоял заплаканный перед чёрным гробиком, прижимаясь от плача к няне; он опустился на колени и все с ним в молчании окружили могилу и мгновение молились перед ней потихоньку. Потом они молча стали прогуливаться по тому Повязковскому кладбищу, такому скромному и полному стольких памяток. Всё-таки ни один мрамор и самый великолепный надгробный камень не произвели на него такого впечатления, как эта простая могила, усыпанная множеством венков и облитая миллионом слёз.
Старая пани Быльская, поплакав, начала Наумову обильно рассказывать воспоминания о его матери, о её благочестии, как заботилась о нём в детстве.
Это повествование ещё больше будило чувства Наумова к родной земле, от которой он так долго был отдалён; в нём стерались следы русского воспитания, которые с польским элементом объединить было невозможно. В целом, хотя короткое пребывание на кладбище было решающей минутой в жизни этого человека, несмотря на фамилию и русское происхождение, он почувствовал себя поляком.
Он уже был им, но, как и все те, которых дала нам, воспитав и вскормив своим молоком, Москва, неся в груди горячее чувство, любовь к великой свободе, принёс в голове странные и не наши революционные идеи, которыми заражены были честные, горячие и испорченные тайным схватыванием каких-либо помыслов университеты и учреждения деспотизма. Отсюда к нам приплыла революция ярости и силы вместо революции мученичества и жертвы, инстинкт которой жил в народе. Пусть тут никто не осудит сказочника за преувеличение, за ненависть, за заблуждение; тот, кто это пишет, смотрел на рост, генезис революции, на прививание её в умах юношей, в которых всякие принципы, кои должны были служить для руководства в политической жизни, притупляла.
Таков всегда плод плохого образования, когда мысль отовсюду встречает препятствия в своём натуральном свободном развитии, ничто не служит революции лучше, чем деспотизм, он её распространяет, ухаживает, разводит. Самые дикие теории общественных переворотов растут в порождённой им темноте, всё кажется разрешённым против этого невыносимого бремени, а оттого, что умничать, убеждать, сбивать и учиться не разрешено, вылупляются тайные монстры на гнойниках деспотизма. Обманутая молодёжь для возвращения прав, принадлежащих человеку, всё считает оправданным, хватает то же оружие, которым с ним сражались, и им воюет, насилие хочет сопротивляться насилию, против вынужденных клятв ставит идеи дозволенного лжесвидельства, против воровства ставит вымогательство, против скрытых судов – кинжалы.
Наумов в глубине души был очень сильно убеждён, что полякам всё разрешено, чтобы вернуть свободу и независимость, и отнюдь не чувствовал того, что только благородными средствами и благородными действиями можно выкупить из неволи.
Несколько брошенных Кубой мыслей странно бегали по его голове, пробуждая сомнения, и по возвращении с кладбища он пригласил к себе на чай брата-академика. Они проводили дам на Жабью улицу, а так как для генерала было нанято просторное жильё в Новом Свете, которое теперь до его прибытия занимал Наумов, повернули к нему. Какого же было удивление офицера, когда почти у самой двери он встретил Генрика, которого давно напрасно искал в Варшаве.
– А всё-таки, – воскликнул Наумов, – я тебя сцапал…
– Что за чёрт! Ты здесь? Откуда?
– Я недавно прибыл как квартирмейстер, опережая генерала, но тебя конфискую и заберу сейчас, пойдём с нами. – Это, – добавил Наумов, показывая на Кубу, – это мой достойный брат, Якуб Быльский, которого тебе представляю.
Генрик рассмеялся, подавая академику руку, потому что знал его отлично.
– Как это? Вы знакомы? – спросил удивлённый Наумов.
– Все работники одного дела должны знать друг друга, – сказал Генрик, – и хотя Куба не принадлежит к моему кружку и нашим убеждениям, всё же мы добрые приятели. Но ты, Святослав, – докончил он живо, – новообращённый?
– Тихо! – ответил Наумов. – Хоть плохо говорю по-польски, но уже по-польски думаю, – тут он подал ему руку, – я ваш.
– Это отлично, – закричал Генрик, – твоя фамилия делает тебя не подозрительным, можешь оказать нам большую отдать услугу…
– Я готов на что угодно, что мне прикажут.
Обнял его Генрик, Куба молчал и серьёзно задумался.
Когда подали самовар и слуга ушёл, прерванный на могилках разговор завязался заново.
– Я плохо вас понял, – сказал Наумов, – мне кажется, что вы хотите какой-то бабской, костёльной революции, на фанатичном соусе, тогда наверняка Польшу не спасёте.
– Я тебе скажу, чего они хотят, – добавил Генрик, – это идеалисты, они хотят Москву, бьющую их кулаком, поразить духом… Тованизм, доктринерия, спиритизм, заблуждение – согласно их плану, когда ударят по щеке, подставить другую и так далее.
– Слушай, – воскликнул Куба серьёзно, – ты хотел надо мной пошутить и изложил, может быть, лучше меня мою теорию революции. Да, мы против мощи царей и их силы так должны идти, как шли первые христиане против римских полубогов. Если бы небольшой отряд этих первых слуг Христа вступил бы в борьбу, на мечи и копья, был бы несомненно побеждён, он иначе понял свершение великого дела возрождения – молился в катакомбах, шёл, распевая, в цирке, на зубы и когти диких зверей; более слабым неофитам позволял служить на дворе Нерона, ночью совершал жертвы, и, вынужденный кланяться ложным богам, только вставал великий, непобедимый, сильный. Вот как мы должны сражаться с языческим деспоизмом, не его оружием, не штыками, не винтовыми штуцерами, но готовностью мученичества, гражданской отвагой. Я не являюсь, – добросил Куба, – изобретателем этой системы, им есть весь народ, который инстинктом встал 27 февраля против штыков, открывая грудь, распевая песнь триумфа. Первая эта проба была экспедицией, той дороги, указанной нашими жертвами, нам нужно держаться.
Генрик смотрел на него, смеялся и, встав, поцеловал его в лоб.
– Чудесно говоришь, – сказал он насмешливо, – но нужно двенадцать лет ждать, пока освободимся с помощью этого рецепта.
– А с помощью иного не отобьёмся – это точно, – добавил Куба.
– Эй! Слушай, – прервал первый, стуча кулаком, – это хорошо для экзальтирования слабых женщин… а…
– Дорогой мой, согласно этой теории, женщина, ребёнок, старик – все солдаты дела, у нас будет их множество.
– Согласно моей, – сказал Генрик, – будет их миллионы, нужно вооружить крестьян, вызвать общее восстание; шляхту, которая идти не захочет, вешать.
Куба с сожалением пожал плечами.
– Ты знаешь наш народ? – спросил он. – За мной, за хоругвью, за священником он пойдёт на штыки и пули, за тобой не сделает ни шагу.
– А! Пусть для народа, – сказал Генрик, – революция приберёт физиогномику, какую хочет; конечно, конечно.
– Плохо говоришь, – подхватил Куба, – ты ищешь народные средства, забываешь о принципах…
– Революция, – шепнул Генрик, – не знает никаких принципов, революционная ситуация есть смешением всех социальных прав, всё можно, так как нужно победить.
– Вот именно в этом есть кардинальная разница наших понятий, – улыбаясь, говорил Куба, – вы говорите и делаете слово в слово так, как говорит и делает деспотизм… ваша революция – другой деспотизм, который, если бы продержался и правил, был бы, может, более страшным, чем тот, от какого мы хотим освободиться.
Наумов слушал, но убедить себя не давал, Генрик посвистывал.
– Революция есть революцией, – воскликнул он, – сделать её a l’ eau de rose невозможно… ей всё разрешено… она не отвечает ни за что, сбрасывает, переворачивает, уничтожает, сечёт, убивает, всегда права, ставит на месте их диктатуру, даёт всем своим слугам силу управления жизнью, имуществом, славой людей, что стоят на её дороге; когда её поджигает необходимость, подделывает монету, шпионит, предаёт, лжёт… но жертвой это награждает…
– Возвращение к деспотизму, в самом несчастном случае, через первого попавшегося генерала a la Bonaparte, – сказал Куба. – Нет, нет, господа мои, то, что вы говорите, является старой и избитой теорией. Понимаю её, потому что угнетение не могло сделать иной, но чую, что народ польский, если ему Бог даст восстановить независимость и свободу, не той дорогой их завоюет. Повторяю вам: пропоём её, выплачем, выстонем, подохнем в тюрьмах… не палашами сделаем. Мы уже не тот рыцарский народ, каким были, своей силой не подавим зверей апокалипсиса – никто не придёт нам на помощь… нужно сражаться духом и победить духом.
– Ты безумец, с позволения, – прервал Генрик, – Не гневайся, что так говорю, но отряду твоих поющих солдат с чётками в руках я бы предпочёл десять тысяч карабинов и столько же револьверов, а для них стойких солдат. Тем временем, пока их нет, надо бороться тайным заговором, страхом, терраризмом, убийством…
Куба вздохнул.
– Борьба злыми средствами никогда не получается и не приводит к хорошей цели, – воскликнул он, – но, даже по-человечески понимая, у вооружённой революции нет ни малейшего шанса на удачу. Для меня несомненно, что крестьяне за ней не пойдут, они не горожане, не любят земли, которую, тысячи лет обливая своим потом, ещё её не выкупили, Россия их легко возьмёт, устрашит. Они на нас не бросаются, но не будут с нами… из кого же ты ещё можешь создать отряд защитников родины? Из людей городов и усадеб? Увы! Это мелочь… а, вникнув в характер этого войска, можно от него ожидать великих жертв… но не большого успеха. Это будет отряд офицеров… а рядовых не хватает…
– Каждый из нас станет как простой солдат, – воскликнул Наумов.
– Много? – спросил Куба.
– Почему ты, духовный человек, спрашиваешь о численности? Нас сто пойдёт на тысячи…
– Верю в это, но спрашиваю о численности именно потому, что хотите сражения на кулаках и карабинах… эти сто вас, идущих за мной с открытой грудью на штыки… вы будете сражаться с тысячами, но жертвой, мученичеством… обратите миллионы… с величайшим героизмом не преодолеете неприятеля и его многочисленную, как саранча, дичь.
– Не ты нас, не мы тебя не переубедим, – сказал Генрик, – оставим друг друга в покое, революция есть необходимостью. Европа должна услышать о нашем вооружённом восстании, тогда восстанут другие движения в притесняемых краях… Австрия враждебна России, будет помогать нам молчанием…
– Вы мечтаете, – сказал академик, – будь что будет, подадим друг другу руку без ссоры, мы работаем для одной родины; время докажет, кто был прав… Случается и то, что мать-старушку дети душат от сильной любви. Мы не будем плевать на шляхту и аристократию, приписывая им эгоизм и избыток расчёта, потому что и они революции не хотят; половина их, может, действительно делает это из расчёта, из изнеженности, из страха потерять имущество, но есть инстинкт и в них… и они умеют чувствовать, что возможно… и они призывают к органичной работу…
– Это предатели! – воскликнули вместе Наумов и Генрик.
– Не отрицаю, есть среди них и предатели, и трусы, но есть и те, что видят лучше, чем вы, энтузисты… Не заступаюсь за них, потому что знаю их недостатки и они так же хорошо осуждают вас, как и меня… но…
– Ты неженка и баба! – сказал Генрик.
– Называй меня, как хочешь, когда пойдут все, пойду и я умереть, не откажусь отдать свою жизнь и кровь, это правда, но сделаю это с глубоким убеждением, что немало этой крови пригодится… Пожалуй, преобразит московскую толпу.
– Дорогой, ты, пожалуй, никогда не жил, не знал солдата, – прервал Генрик, – это существо, для которого понятен только один язык – батог. Напившись водки, он пойдёт, как дикий зверь, лишённый всякого чувства, отрубит руки и ноги, убьёт беззащитного… а, протрезвев, получив благодарность, будет считаться героем.
– Не думаю, чтобы пьяный солдат был более дикий, чем преторианцы, чем римские легионеры, чем та толпа, в которую медленно влилось христианство, – закончил Куба.
– Ты заблуждаешься этим фальшивым сравнением, мне кажется, – добавил Наумов, – нет ничего общего между пролитием своей крови и победой христианства, а также избавлением Польши.
– А ты обманываешь себя, мой брат, – живо ответил академик, – это продолжение той же истории. Польше не нужно ничего больше, чем то, о чём учил Христос и что дал миру как закон. Освобождая единицу, Спаситель освободил народы, одно логично идёт за другим, круша оковы рабства, Он не хотел бы, чтобы одно государство издевалось над другим, слуге так же как пану Он объявил равенство, так его предоставил людям. Но Евангелие с каждым днём больше становится мёртвой буквой, а костёл, который должен её объяснить, связал себе руки союзом с деспотами, но с Христового духа мы спустились на кощунственные комментарии литеры. Поэтому нужны новые миссионеры, чтобы науку Евангелии огласили кровью, не людям уже, а народам, а правителям и правительству. Вы хотите этого достичь, отрицая Евангелие своим поведением, средствами, какие должны использовать; я иду логично, как солдат Христа, веря только в силу духа и в победу духа. Дайте мне сто святых людей, готовых на смерть, и я завоюю мир.
– Они падут и мир будет смеяться.
– Да, падут и мир будет смеяться и хлопать под виселицами, но виселицы станут крестами, а на могилах танцующие пьяные солдаты будут обращены, не сегодня, так завтра…
– Мы не хотим ждать завтра! – сказал разгорячённый Наумов.
– Потому что хотите пользоваться – не работать! – отпарировал академик. – Потому что вы не доросли ещё до апостольства, вы готовитесь пойти и дать убить себя, но страдать целый век и крушить скалу по дробинке с настойчивостью тех анахоретов, что выдалбливали киевские пещеры, не сумеете. Свободу миру дадут не герои, а святые.
Два офицера рассмеялись, поглядывая друг на друга, Куба молчал и был грустен.
– Чувствую, – сказал он спустя мгновение, – что мои слова могут показаться вам нелепыми, знаю, что они не найдут ни поддержки, ни признания в массах – тем хуже, так как в них есть правда!
– Ну а я, – воскликнул Генрик, постукивая по кавказской шашке, – предпочитаю эту мою подругу и её помощь над всяким духом.
Куба подумал: «Они тебя воспитали, в их Бога ты и должен верить!» Но он не сказал этого громко, и когда два офицера о чём-то начали шептаться, он попрощался и вышел.
Наумов со времени приезда в столицу был под влиянием того, что его окружало, и хотя отказался от прошлого, оно тайно на него действовало. Рабская привычка чрезвычайно часто спорила в нём с мыслью, желающей улететь на свободу. Он боролся так между двумя мирами, которые в нём друг с другом сливались; временами Польша брала в нём верх, то снова московские привычки и привыкание. Добавим к этому воспоминание о Наталье Алексеевне, которого до сих пор никакое другое стереть не смогло. В мыслях Наумов часто сравнивал свою красивую сестрицу Магду с великолепной блондинкой с голубыми глазами, величественной, как царица, беспощадной, как те, что никогда ещё не нуждались ни в чьём милосердии.
Магда нравилась ему, он испытывал к ней братскую привязанность, видел её красоту и благородство, а всё-таки тот дьявол притягивал его к себе. В польской девушке, старательно воспитанной, но привыкшей к работе, скромной, тихой, набожной, весёлой, но суровой, было что-то требующее уважения, туда гнала всей своей музыкой чувственность и страсть… Наталья имела всё, что может дать блестящее образование, хотя основательных знаний больше было в тихой Магдусе. Та восполняла смелостью и рисовалась тем, чего даже не знала, эта из скромности скрывала в себе ум, науку, таланты.
Наумов чувствовал неизмеримое превосходство своей кузины и, однако, его больше восхищало воспоминание о той, чем сдержанность этой. Честная во всём Магда превосходила гордую и легкомысленную дочь генерала, а когда надевала фартучек и пела на кухне, помогая матери в работе, когда ему показывалась в полотняном халатике, не имела для него привлекательности сирены, которая с утра была надушенной, одетой в батист и стояла с оружием против неприятеля.
Несмотря на внешность крестьянки и хозяйки, Мадзя была страстной писательницей и очень музыкальной, но никогда не хвалилась тем, что сама приобретала тяжёлым трудом, а играла не прекрасные шумные пьесы, какими звучало фортепиано Натальи, но тихие, глубокие фразы Шопена либо грустные и дикие мечты Шумана. В ней ни слово, ни взгляд легко не улетали, когда Наталья без нужды разбрасывала их с расточительностью богача.
В русской каждый взгляд, каждая дрожь были рассчитаны на очарование, выученное, изобретательное и поднятое до высокого искусства; в польке всё было естественно, робко, по-детски. Мыслью и сердцем была эта женщина, по поведению – едва молоденькая девушка. Наумов иначе дрожал перед Натальей, иначе перед сестрой, которой боялся. Обе они казались ему тем высшими существами, которых в этом мире он не видел.
Очень справедливо признали русские по крайней мере половину заслуг, жертв и преданности польской женщины, она стояла и стоит на страже у домашнего очага, она воспитывает польских детей, будущее Польши, она геройски терпит без ропота больше, чем когда-либо сносили женщины иного народа; дочь, жена, мать стоят на недосягаемой вышине – рядом у стоп скорбящей Матери. Жизнь свободы подняла польскую женщину до достоинства гражданки, которого никогда не имела ещё ни одна русская женщина. В России найдёшь в женщинах верные сердца, но они ещё не бились для народа, для идеи, для правды, бьются для тихой радости семейного круга.
В низших классах общества женщина ещё развлечение, домашнее животное, служанка, хозяйка, мать, в высших – эмансипированный философ, сибаритка, роскошь, артистка-любовница, но нигде русских гражданок не найдёте. Те дамы, что несут венки для окровавленного Муравьёва, это невольницы невольников и любовницы бездумцев, у них ещё не засветилась мысль долга женщины, ангела покоя, посланницы христианской любви.
В большом свете женщины слишком испорчены, чтобы подняться до понимания своей миссии, в низших слоях – слишком мало образованные. Поэтому польская женщина среднего класса сердцем и душой стоит настолько выше отлично образованной русской, что её взгляд смущает и унижает женщину низших классов. Русские, удивлённо смотрящие, как поднимают кандалы, как тащутся пешком в изгнание и умирают наши героини в отвратительных лазаретах, прижимая к польским губам медальон Ченстоховской, – не поймут этого фанатизма. О! И долго понять его не смогут, пока их не навестит боль, пока их не сломает такое же страдание, как наше, пока не потеряют сыновей, братьев, мужей и отцов.
Наумову эти святые мученицы в грубом трауре казались почти страшными; привыкший проводить свою жизнь в легкомысленных развлечениях, он скучал и вздрагивал от этого странного режима работы жизни и сурового долга; везде встречал он слёзные взгляды, хмурые физиономии, лица, освещённые небесным вдохновением; не умел он жить в этой небесной атмосфере, но ценил её чистоту; как человек, что поднялся на вершину горы, должен привыкнуть к разряженному воздуху, так ему было там тесно и грустно.
Польша пугала его авторитетом мученицы, готовящейся идти на костёр. Если и зазвучала где-нибудь песнь, то о родине, если музыка – то из народных мелодий, в тихом разговоре пересекались новости только о деле; никто о себе не думал, а все думали о стране. Прибыв из той России, в которой никто о родине не думал и никто помогать ей не имел права, Святославу, должно быть, показалось очень странным, когда он нашёл тут всё общество думающим о судьбах общей родины, не считая даже жертв, не жалея себя, лишь бы страну избавить от ярма.
Это общее поведение невольно увлекало его, но на каждом шагу он встречал непостежимые виды, непривычные загадки. Однако каждый день вынужденный всё больше настраиваться на общий тон мира, что его окружал, Наумов проникался его идеями и понятиями.
Когда потом служебные обязанности гнали его в русское общество, когда его высылали в штаб на прослушку, в замок, чтобы получил оттуда информацию, он был в положении купающегося в бани человека, который вдруг из кипятка попадает в ледяной пруд. Там взгляд на вопрос, суждение о нём были настолько другими, так удивительно противоречили тому, что он слышал от поляков, и, казалось, были такими холодно-расчётливыми, когда там были такими горячо-возвышенными, что бедный офицер часто возвращался домой хмурый и в сомнениях, не зная, кому верить и что думать.
Так он остывал и разогревался, в свою очередь страдая, потому что не знал, чем эта борьба должна была закончиться, когда с обеих сторон встречались непримиримые требования. Поляки хотели всю свою Польшу, Россия хотела их завоевать, соглашение было невозможным, не было пункта, на котором бы самые умеренные из обеих сторон могли сойтись.
Известен этот момент, который отделяет 2 марта от апрельской резни; это был перерыв, созданный для того, чтобы дух народа имел время раскачаться и экзальтироваться. Россия, кажется, рассчитывала на это и ждала только знака, чтобы сильно ударить и сразу раздавить терроризмом. Польша не знала или не хотела видеть последствий, и воспользовалась часами свободы, чтобы вернуть всё, о чём тосковало. На улицах повторялись ежедневные манифестации, люди, словно оживлённые одной мыслью, не слушая предостережений более холодных, охваченные приливом энергии, требовали мученичества, вызывали его. Мы стояли в это время в том ещё положении, которое лучше выражал академик Куба, также академическая молодёжь управляла этими минутами. В целом вырабатывалось понятие какой-то безоружной, отважной, великой борьбы, безоружного люда, становящегося с обнажённой грудью против натиска без иной идеи, за исключением инстинкта самосохранения.
Уже в это время более горячие просили оружие и хотели броситься на угнетателя, но голос большинства преобладал. 2 марта получили победу не только над Россией, но над собственной порывистостью, она указала дальнейшую дорогу. Увы!
Действительно, не хватало по-настоящему великих характеров и индивидуальностей, которые могли бы остановить и управлять революцией медленней, не отклоняясь с раз выбранного пути.
Никто не знал, куда идти, едва несколько человек догадалось о нескольких шагах, куда идти не нужно, а те, которых народ до сих пор считал вождями, первыми отказались, признавшись в своей слепоте.
Когда это происходило, полк Наумова, вызванный вместе с другими в Варшаву, вошёл в неё частью на повозках, потом по железной дороге, и однажды утром появилась щебечущая, заинтригованная Наталья Алексеевна; лицо её сияло. Наумов, высохший от тоски, в первые минуты поддался манящим чувственным чарам, исходившим от неё.
Наталья, хотя немного испуганная мрачным обликом Варшавы, сильно была ею заинтересована, а так как Наумов один мог ей лучше объяснить множество вещей, до которых она была любопытна, он имел удовольствие через минуту всё её внимание обратить на себя. Очевидно, как влюблённый, он невольно это приписывал склонности девушки, которая столько же о нём думала, сколько о прошлогоднем снеге. Но никто не заблуждается легче тех, которые любят; они строят замки на льду и будущее на взглядах, имеющих совсем противоположное значение, чем то, что они в них читают.
По счастью, нанятое для генерала жильё, дочке пришлось по вкусу, следовательно, и он должен был быть ему рад, а Наумов получил то, что на русском языке называется благодарность. Благодарность того рода, когда они официально записываются как можно старательней в формуляр службы так же как официальный выговор. Каждый урядник и военный имеет такие curriculum vitae, без которого двинуться не может. Этот формуляр обычно бывает таким же точным, как в паспорте описание физиономии, по которой ещё никто никогда никого не узнал. Самые большие негодяи имеют самые чистые формуляры, когда самые заслуженные могут иметь самые плохие.
Наумов был ешё на допросе у любопытной русской, когда господин генерал вернулся с совещания в замок. Он был мрачен, но эта поддельная физиономия скрывала некоторого рода удовлетворение, что попал в Варшаву на знаменательные события. Генералу, как большей части его товарищей, не было дела ни до судьбы собственной родины, ни до злой Польши, которая не понимала благодеяний, какие ей предоставляла Россия; прежде всего он рассчитывал, сколько ему это может принести в карман, много ли крестов и какие личные выгоды. Чем более угрожающую форму принимала ситуация, тем, естественно, больше из неё следовало ожидать прибыли. Как раз пришёл адъютант графа, молодой петербургский щёголь, и старый полковник Черноусов, который из солдата дослужился до этого высокого ранга. Все были любопытны, о чём их известит генерал по возвращении из замка.
– Господа, – сказал Алексей Петрович, принимая как можно более официальную физиономию, – наш полк прибыл в очень решающие минуты. Нельзя прогнозировать, какие важные могут быть последствия. Обращаю ваше внимание на ответственность, какая на нас лежит. Оказыва-вается, что польские революционеры разбрасывают провокационные сочинения, пытаясь ввести в заблуждение солдат, что даже не всем младшим офицерам полностью можно доверять; речь идёт о чести полка, нужно быть очень бдительным, а за самым маленьким следом чего-то подозрительного долг каждого – немедленно давать об этом знать. С солдатом прошу обходиться как можно мягче, правительство желает этого, сегодня всё лежит на армии, солдат – опора государства. Однако же старшие имеют обязанность быть бдительными, чтобы среди низших ступеней не закралось вредное влияние. Я всегда был того мнения, что эти военные школы, которые господа развели в полках, выеденного яйца не стоят, они только баламутят солдата и кружат ему голову; теперь мы имеем наиформальнейшие приказы, чтобы всякие учения остановить. Солдат должен учиться работать оружием, не головой.
Генерал говорил ещё, когда Наталья оттащила Наумова в сторону.
– Вы, – сказала она, – знаете лучше Варшаву, можете мне тут послужить: узнайте, что играют в театре, достаньте для меня ложу, потом мне понадобится самый лучший портной, самый лучший парикхмахер, а так как будете иметь много работы со мной, то папенька вас от службы освободит. Вы будете адъютантом при мне.
Говоря это, она смеялась, а Наумов даже рос от радости, и то, что приобрёл за время пребывания в Варшаве, потерял в одну минуту. Всё, что не касалось Натальи и его любви, казалось ему теперь странным и почти смешным.
Когда в этот вечер ему было нужно пойти к Быльским, не узнали его там – так изменился и погрустнел. Только Куба при первом упоминании о приходе полка сразу догадался о влиянии, какое товарищи оказали на бедного Наумова. Из нескольких скептических слов академик узнал состояние его души, а когда мать и сёстры ушли, он обратился к погружённому в мысли офицеру:
– Слушай-ка, Станислав, я понимаю твоё положение, оно очень тяжёлое, это правда, но двум панам служить никогда нельзя, можешь или быть с нами или против нас. Нужно хорошо всё взвесить и не будешь так мучиться, как сегодня. Польское дело есть того рода, что требует жертв и не обещает ничего, кроме страданий; нужно вооружиться мужеством, дав клятву. По матери ты поляк, по отцу – русский, по бессмертному духу – вольный человек, не прислужник; я надеюсь, что ты выберешь себе лучшую участь, а не пойдёшь с той бездушной толпой, которую будут на нас натравливать. Генрик должен был тебе поведать, какими будут твои обязанности, я понимаю их немного иначе, потому что не хочу революции и бунтов, но апостольства и преображения.
– Эта напрасно, – сказал Наумов, – на нас обращены глаза, величайшее недоверие, уже сегодня полковник предостерегал, что правительство знает о намерениях польских революционеров.
– Вы думаете, что поэтому нужно отказаться от работы? – спросил Куба. – Это её только затрудняет, но нас от неё не освобождает.
Какое-то время молчали. Наумов был грустен; всё это вместе отравляло ему любовные грёзы, которыми страстно был занят. Возвратившись домой, он ходил пару часов, задумчивый, размышляя, что делать, Генрик его уже включил было в военный список, отступать было трудно, а Наумов не был ещё расположен к мученичеству.
Как раз на следующий день должна была быть сходка и совещание у Генрика, он решил не ходить на неё и постепенно эту работу оставить. Но, приняв это решение, он сам его сразу устыдился. Пришла ему в голову мать, судьба несчастной Польши, и он снова заколебался.
– Что будет, то будет, – сказал он, – от меня не много зависит, следовательно, увидим позже.
И так, колеблясь, с образом Натальи перед глазами он уснул.
Не раз замечали, что хотя иногда либеральные русские высказываются решительно, когда только приходиться подтвердить слова действием, особенно когда действие должно быть спонтанным и выходит за рамок повседневной жизни, отступают и сказываются чрезвычайно слабыми. Есть это, однако, очень легко объяснимым результатом привычки к деспотизму, который не может полностью спутать мысли человека, но становится на дороге любому действию. Отсюда русские воспитанники иногда отваживаются думать, но ничего делать не умеют.
Как раз таким был Наумов, в котором, кроме ослабевающего влияния страсти, отзывалось образование, делая его боязливым и неуверенным в себе. Имел он самые благородные желания, но ему не хватало энергии для свершения их.
Случай, на первый взгляд маленький, больше поколебал расположение Наумова, чем можно было ожидать. В этот вечер нетерпеливая Наталья Алексеевна велела её с младшей сестрой отвезти в театр. Никто в то время, как известно, из местного населения в театре не бывал, играли, однако же, наперекор, перед пустыми креслами, которые изредка были заняты горсткой офицеров и погрустневшими артистами. Ложи были совсем не заняты, весь триумф красивой русской ограничился разглядыванием её в бинокль несколькими офицерами, которые в ней сразу по шику узнали петербургскую воспитанницу. Но дочке генерала, привыкшей к поклонникам в мундирах, мало было этой повседневной еды, ей досадно было то, что она одна сидела среди пустых лож, и, прежде чем кончилось представление, вышла, теряя терпение, недовольная, ругая Наумова, который её провожал. Перед воротами театра несколько уличных мальчишек как-то насмешливо на неё посмотрели, и это ещё прибавило ей плохого настроения; поэтому она вернулась домой в самом дурном расположении к Варшаве.
Но любопытная, как дочь Евы, услышав что-то о Саксонском саде, она велела Наумову на следующее утро отвести её на прогулку. На зло этим глупым полякам, как она их называла, и польскому трауру, она нарядилась на прогулку почти вызывающе, одела ярко-золотое платье с ярко-красными украшениями, шляпу с множеством колосьев и цветов и французский пёстрый платок. Через Новый Свет ещё как-то так прошли, но после за ними потянулась маленькая кучка уличных мальчиков, которая шипела и выкрикивала, потом их численность и смелость увеличились. Кто-то из них крикнул: «Папугай!», – другие начали это повторять за ним, и Наталья к величайшей злости заметила, что их окружает толпа людей, которые преследовали её до Саксонского сада, всё громче выкрикивая: «Попугай!»
Наумов, который сопровождал девушек, хотел сразу убедить Наталью, что это стечение имело вовсе другую цель и было хлебом насущным, но вскоре ошибиться в нём было невозможно; они были вынуждены ускорить шаг и жандармы, стоявшие у ворот Саксонского сада, правда, остановили дальнейший поход толпы, но гневная и устрашённая дочь генерала должна была послать за дрожкой и как можно быстрей с сестрой вернуться восвояси.
Трудно обрисовать гнев, а скорее, ярость Натальи Алексеевны после этого неприятного испытания; она плакала, требовала от отца мести, генерал даже летал в замок. Назначили якобы какое-то расследование, которое окончилось ничем, а красивая девушка поклялась в вечной ненависти к Польше и полякам. Не удовлетворило бы её даже повешение нескольких виновников и направление остальных в солдаты, как она требовала.
С этого дня она первая, опережая ещё не вылупившуюся систему Муравьёва, начала доказывать, что нет другого выхода, только нужно всех этих упрямых поляков искоренить. Наумов, хотя в душе чувствовал себя уже почти поляком, имел сильную неприязнь к виновникам этой манифестации. Он был вполне прав в том, что никогда в эти грустные политические дела женщинам вмешиваться не стоит, что им даже от безумной толпы надлежит уважение, но несправедливо чувствовал негодование на народ за безрассудную выходку улицы, которая в неспокойные времена любому чувству даёт собой управлять.
Наталья Алексеевна извлекла из этого пользу, потому что отец как можно скорее купил карету и коней, но обиженная гордость русской поклялась в мести. Отныне в этом доме ничего не было слышно, только издевательства над всем польским: над религией, над языком, над обычаями; и призывы к мести за пренебрежение российской силы.
Наумов не мог выговорить ни слова – с такой свирепостью тут встречался, молчал, но выносил из этого дома невольно схваченные впечатления.
Спустя несколько дней после этого случая он пошёл к Бильским, и Куба легко на нём заметил какую-то большую перемену. Поначалу Наумов утаивал её причины, но в итоге он с горечью поведал всю историю с попугаем. Академик с грустью задумался.
– Это болезненные стороны событий, – сказал он, – которых избежать нельзя, когда народ и страсти играют в них роль. В моём убеждении мы должны щадить русских, даже когда они показывают к нам ненависть; мы, как более высокие, чем они, должны им предложить любовь. Но народ – безжалостен, как дитя, он раздражён, а может, некому смело поведать ему правды. Дал он доказательства такого чудесного политического инстинкта, что, если бы ему только шепнули, как он должен поступить, точно бы понял, что здоровая политика велит правительство от народа отделить. Увы! Наши вожди больше, по-видимому, гоняются за популярностью, которую у нас легко получить, показывая ненависть к русским, нежели более глубокой политической идеей. Ты, мой дорогой Наумов, – добавил он, – не должен снова придерживаться в своих решениях таких благих причин.
Но разумные слова Кубы не смогли стереть впечатление, которое Наталья ежедневно увеличивала, изобретая всё более новые жестокости поляков. Эта женщина, хотя Станислав начинал познавать её характер, всё ещё имела на него большое влияние. Страсть не понимает, она часто видит чёрные стороны того, за чем гонится, но идёт за ним, как железо за магнитом.
Кроме Натальи, прибывший барон Книпхузен своим насмешливым скептицизмом также немало остудил Наумова. Продолжалось это, однако, в течение нескольких дней; злобный петербургский Дон Жуан, присмотревшись лучше ко всему, что его окружало, вдруг замолчал, как могила, даже шутки Натальи не могли вызвать у него никаких слов. Этот выжитый и уставший человек чудом оживился при виде этого импульса, который в то время пробегал по всему народу Варшавы. Как обожжённому нёбу старого гурмана нужны асафетиды, чтобы его блюдо сделать более вкусным, так ему был нужен революционный кипяток, чтобы почувствовать, что ещё жив.
Итак, из того скептика, каким мы его видели, Книпхузен внезапно стал сторонником революции, говорил, что на самом деле он не является русским, и что мог бы бороться за свободу людей хотя бы в польских рядах. В действительности для него была важна, верно, не победа чего-либо, а новый элемент, который бы воскресил его из мёртвых. И когда Наумов начинал отступать и остывать, барон думал о заговорах и как бы принять деятельное участие в работе; несколько раз даже неосторожной шуткой он задел дочь генерала в наиболее болезненном для неё чувстве ненависти к полякам.
Книпхузен, у которого никогда даже среди военных не было связей в Варшаве, а предчувствовал, что польские офицеры и революционная партия спать не будут, начал искать через Наумова дорог для соглашения с людьми действия. Но Наумов сам теперь их избегал, а кроме того, характер барона, известное его расположение к насмешке и политический индифференцизм отталкивали от него.
Немного более смелый Генрик при первом воспоминании об этом желании Книпхузена примкнул к нему, и через несколько дней барон был допущен в кружок офицеров, которые олицетворяли самые благородные чувства молодой России. К сожалению, следует признать, что во все революционные работы входили не одни утописты, запалённые головы, охваченная благородными желаниями молодёжь, но и такие наглецы, как этот барон, и худшие безумцы. Эти элементы часто искривляют их благородное изначально направление, но заговор питается, чем может, не разбирается в инструментах, ищет союзников везде и часто пользуется первыми попавшимися. Такие вот Книпхузены, что ищут сильных эмоций, ни в чего не верят, мчатся по бездорожью, толкают на крайности, сами оставаясь в стороне, упиваются видом эксцессов, которые в них болезненно подкрепляют жизнь. Обычно честная, святая и чистая молодёжь начинает работу, но не имеет достаточно сил, чтобы управлять ею; командование перехватывают испорченные люди того типа, которым скептицизм даёт мощь, потому что никакая граница принципов не удерживает, а в революции, как в любви, выигрывает тот, кто продвигается с величайшей смелостью. Поэтому на героев выходят такие бароны, которые ради развлечения готовы так же преследовать революцию, как для развлечения её вызывают.
Книпхузен первые три дня на сходках молчал, на четвёртый подхватил президенство, а через пару недель всем управлял, и нужно ему отдать ту справедливость, что делал это с редкой хитростью и тактом старого конспиратора. Великая острота ума, который отдохнул от долгого онемения, позволяла ему часто угадывать по малейшим признакам то, о чём прочие не догадывались.
Он первый, хотя ещё решительное слово сказано не бы-до, предрёк апрельскую резню. Дело было в том, как в такой ситуации малая горстка русских офицеров могла себя показать.
Мнения были очень различные, некоторые утверждали, что офицеры, смело переходя на сторону народа, могли бы потянуть за собой солдат, другие – что такое преждевременное выступление, обращая внимание правительства, сделало бы всякую дальнейшую работу невозможной. Наумов был молчалив и равнодушен.
Мы не хотим тут повторять уже однажды нами нарисованную картину той апрельской резни, которой Горчаков старался стереть ошибку, сделанную 27 февраля. Всё было так рассчитано, чтобы затоптать героизм безоружного народа, чтобы, невзирая на его красоту, забыв всякие законы человечности, победить толпы терроризмом. Уже ближе к вечеру, в ту минуту, когда эта кровавая драма начиналась, недавно прибывший полк, в котором служил Наумов, получил приказ быстро выступить на предзамковую площадь. Поставили его на углу Сенаторской и Подвала, но сперва дали солдатам обильно водки и самые суровые приказы, чтобы, если дойдёт до стрельбы и лягут трупы, немедленно их убирать.
С невероятной поспешностью войско бежало на указанную позицию и, минуя офицеров, которым не доверяли, старшины обращались непосредственно к солдатам, доверяя им всю работу. Из этого легко было догадаться, что главное было в том, чтобы варварски измучить народ и испугать столицу дикой резнёй. Никто в городе не ожидал такого нападения; безнаказанно допущенные манифестации, казалось, гарантируют, что правительство не будет прибегать к крайним мерам. Таково было убеждение даже самих военных, которые думали, что всё кончится на одном страхе от выступления вооружённой силы.
Мы знаем, что маркграф Виелопольский, польщённый полным доверием князя Горчакова, спокойно сидел в Наместническом дворце, когда первый раз стреляли в возбуждённый народ. При отголоске этих выстрелов он сел в карету и полетел в замок, а доктор… сопровождал его на козлах, чтобы заслонить его собой от мстительных нападений улицы. Факт в том, что, что маркграф Виелопольский на этот раз не содействовал своим советом кровопролитию, но, связанный с правительством, жадный до власти, назавтра он взял на себя часть ответственности за этот жестокий факт и сам продиктовал те памятные слова, мерзости которых ловкая редакция не сумела скрыть. Вся система Виелопольского или, скорее, верхняя его одежды рисуется в этих словах: «В кровавой стычке спасён общественный порядок и т. д.»
Наумов гимнастическим шагом вместе с солдатами прибежал на угол Сенаторской улицы. Это была минута, когда на отголосок возбуждённой толпы и цокот отовсюду прибегающего войска капуцины с крестом и песней вышли на площадь, думая, что этот символ спасения, это религиозное пение остановит бездушных убийц.
Беловатый дым первых выстрелов поднимался уже над тем странным полем боя, в котором с одной стороны было пьяное войско со штыками и саблями, с другой – коленопреклонённые люди, заплаканные женщины и дети, священники и кресты. Сразу за первым выстрелом, на результат которого смотрели из замковых окон князь Горчаков, его советники и свита, солдаты вышли из шеренг собирать убитых и раненных. Может, ещё более страшным, чем выстрелы, было это зверское нападение на толпу, которая не хотела защищаться. Пьяные солдаты хватали ещё живых, волокли их за руки по брусчатке и разбивали им головы о камни. К многим раненым солдаты цеплялись одновременно с защищающими их братьями; тогда прикладами отпихивали защитников и устрашающий крик объявлял, что рука палача добила раненого.
В мгновение ока жадные до добычи раздевали трупы и нагие тела исчезали за рядами русских. Сколько жестоких сцен, сколько геройских деяний покрыл мрак этого вечера, сколько горячих сердец навсегда перестало биться, сколько уст, умирая, выкрикнуло последним дыханием: «Да здравствует Польша!»
Наумов сначала был равнодушен, ошарашен; только, когда увидел, как солдаты бросились на капуцинов, стоявших на коленях на углу Сенаторской улицы, когда заметил в их руках окровавленные женские тела, а недалеко от себя десятилетнего мальчика, который одну руку прижимал к разорванной груди, а другой подбрасывал вверх красную шапочку, когда из облаков синего дыма показался ему весь ужас этой страшной картины, он почувствовал яростное сердцебиение, человеческое чувство взяло верх над рабской немощью, и холодный пот облил его виски. Он хотел немедленно выбежать из шеренги на защиту этого несчастного люда, в устах которого ещё звучало пение, как хор ангелов на похоронах евангельской любви. С ужасом оглядываясь вокруг, он увидел на лицах солдат только дикие усмешки и то варварское выражение фанатизма, с каким голодные звери бросаются на свою добычу. Не размышляя над результатом деяния, он хотел немедленно сломать саблю, сбросить мундир и пойти в ряды безоружных жертв, но в эти минуты ещё более страшное зрелище превратило его в камень и приковало к месту.
При первой новости о резне и смуте Наталья Алексеевна сильно пожелала быть свидетелем мести, которой так жаждала. Не обращая внимания ни на чьи предостережения, она приказала запрячь лошадь и поехала к своей знакомой полковниковне, живущей в доме на углу Подвала. Окна выходили на площадь, а русская, не задумываясь над тем, что и до неё тут выстрелы могли достать, вся вытянулась и с огненными глазами хлопала гуляющим дикарям.
Наумов одновременно заметил тех Эменид, опьянённых безумием мести, и всю семью Быльских, на которую солдаты уже хотели броситься.
В странном противоречии ему одновременно представились спокойные, ясные лица его семьи и эта пьяная вакханка, зловещая красота которой в первый раз показалась отталкивающей, отвратительной. В кучке людей, которая окружала Быльских, видна была суматоха, паника, а по склонённым головам, обращённым к Мадзе, Наумов догадался, что она могла быть ранена. Это предположение, к сожалению, даже слишком правдивое, бросило его, не обращая внимание на служебный долг, к сёстрам и брату; с другой стороны солдаты, верные данным приказам, уже хватали раненую, чтобы её обобрать и добить, когда Наумов пустился как стрела и встал на её защиту, без размышления доставая оружие.
– Прочь! – крикнул он громко, сам почти не ведая, что говорил. – Она сестра моя, она русская!
В это время раненая в руку Мадзя подняла голову и также громко крикнула:
– Нет! Нет! Я полька. Не отрекусь от этого, хотя бы пришлось умереть.
В суматохе слова эти не расслышали, солдаты отступили и Наумов оказался далеко от своих, окружённый толпой и почти бессознательный. Куба, который стоял за ним, слегка его оттолкнул.
– Пусти меня, это не твоё место, я должен выйти вперёд, потому что ещё наверняка будут стрелять, а наш долг – подставить мужественно грудь и показать, как поляки умеют умирать.
Лицо академика, который это говорил, было бледным, но сияющим. Наумов забыл о себе, смотря на этого героя.
Снова послышался шум выстрелов, болезненный стон, хор песни и дикий крик солдат. Из окна над их головами доносился смех и хлопки в ладоши. Святослав почувствовал, словно его кто-то толкнул и какое-то странное чувство тепла, медленно разливающееся по его руке. У него не было времени думать о себе, потому что перед ним упал на одно колено Куба. Молитва его была услышана: две пули прострелили ему ногу; а прежде чем было время оттащить его в сторону, на толпу напали солдаты со штыками.
Куба невозмутимо ждал их, поднял вверх глаза, хотел запеть, но боль отняла у него силы. В эту минуту над его головой появилась огромная физиономия солдата и блестящий штык. Несмотря на ярость, русский солдат, увидев этого шатающегося юношу, лицо которого светилось ангельским выражением, почувствовал себя тронутым; карабин выпал из его рук. Куба нагнулся, поднял его и с усилием подал солдату, который мгновение стоял как вкопанный, и с каким-то дивным безумием отчаянья насмерть поразил его в грудь. Куба упал, голова его с длинными светлыми волосами лежала уже на тротуаре, а изо рта ручьём лилась кровь.
Пытаясь спасти женщин, Наумов, который потерял контроль, поднял голову и крикнул высунувшейся из окна дочке генерала:
– Наталья Алексеевна! Ради Бога, спасите мою сестру! Вот моего брата уже убили!
Генераловна посмотрела вниз и узнала его среди мрака, но странной улыбкой скривились её прекрасные губки.
– Умрите все, презренные поляки! – крикнула она, показывая ему кулак. – И ты, предатель, с ними!
Наумов, не услышав конца этого выкрика, оторвал у себя погоны и бросил их в глаза русской девушки. Неразбериха была такая сильная, что вся эта сцена прошла незамеченной. Толпа, под наступлением войск отступающая к Подвалу, уносила с собой Наумова и остаток его семьи. Мать хотела бежать за телом Кубы, но её остановили; сама давка, которая не дала ей вырваться, спасла несчастную. Вскоре очистилась вся площадь перед замком и только видны были на ней влекомые трупы, стоявшие солдаты, а в окне долго белело лицо дочке генерала, ругающей кровавое побоище.
После всего, что произошло, Наумов не мог уже показаться. Того же вечера с великим трудом его спрятали в чужом доме, а верный лекарь вынул из плеча пулю, которая, к счастью, не задела кости. Судьба его была определена, пролитая кровь сделала его поляком.
Страшный гнев кипел в доме генерала, Наталья вернулась торжествующая, но вместе с тем гневная. Она заметила Наумова, видела, как он кинул к ней погоны, и от ярости не присела.
Книпхузен, который совсем не был деятельным во время резни, специально пошёл, зная уже о бегстве Святослава, чтобы поглядеть на впечатление, какое оно произвело. Притворялся, что ничего не знает, а благодаря его самообладанию, не заметили на бледном его лице чувства, какие испытывал. Наталья Алексеевна на этот раз в довольно запущенном наряде бегала, крича, по комнате, отец её сидел в кресле, задумчивый и грустный. Он издалека смотрел на эту кровавую сцену и, несмотря на привыкшее сердце, она произвела на него глубокое впечатление. Женский стон, плач детей, издевательства солдат сдавили ему сердце, он невольно подумал, что эта распущенность тёмного люда могла в будущем быть опасным семенем. Он задумывался также над серьёзностью этих безоружных толп, которые были раздавлены, но не сломлены духом. Он видел отчаянье, видел боль, не заметил, однако же, того унижения и страха, которого русские ожидали и желали, он невольно чувствовал, что дело было не окончено, что те же самые чувства, которые вызвали борьбу, остались после сражения, может, только усугублённые и более сильные. Казалось бы, нужно было радоваться триумфу, но совесть говорила, что это не была победа.
Легкомысленная Наталья торжествовала, смеялась, хлопала в ладоши, топала ногами и восхищалась геройством солдат, которые так дерзко подавили этих бунтовщиков-поляков.
Бледный барон вошёл во время этой скорее искусственной радости, чем настоящей.
– Где вы были? – спросила, подбегая к нему, Наталья Алексеевна.
– Я, – сказал барон, – не был сегодня на службе и, признаюсь вам, что спал у себя дома в квартире.
– Как это? И ничего не знаете? – подхватила, подбегая к нему с безумными глазами красивая русская. – И совсем не знаете, что произошло?
– Только по пути сюда я заметил на улице войско, патрули, пушки и сказали мне, что был какой-то бунт, который усмирили.
– Я на это смотрела! – крикнула Наталья. – Всё-таки этих поляков мы убили довольно, теперь они будут более разумными и спокойными, как бараны. Наши солдаты хорошо себе погуляли.
И начала смеяться, но вдруг, вспомнив о Наумове, воскликнула:
– Может, не знаете также, как красиво рисовался наш приятель Святослав Александрович?
– Как это? Что же с ним случилось? – сказал, прикидываясь, что ничего не знает, Книпхузен.
– О! Не напрасно он имел мать польку и родственников в Варшаве. У него всегда хитрость и злость из глаз смотрели. Вы бы ожидали, что как увидел падающие трупы этих бунтовщиков, полетел к ним, словно был в ярости? Я стояла у окна, смотрела на это, он сорвал с себя погоны, бросил их вверх ко мне, начал ругаться, спасать этих своих братьев и пропал где-то с ними вместе.
– Прошу прощения, Наталья Алексеевна, но может ли это быть? Наумов? Такой спокойный человек?
Генерал, который до сих пор молчал, начал бормотать.
– Ну, да, сгинул, предал, должно быть, в заговоре, негодник. Он ещё из корпуса вышел со злой нотой, но умел притаиться, я его даже любил. Вот пропал, если его сегодня не убили, то, конечно, виселица ждёт.
Книпхузен, может, даже преувеличил равнодушие – таким он ко всему этому был холодным и равнодушным. Наталья с интересом присматривалась к нему и хотела его изучить.
– Ну, что вы на это скажете, барон?
– Я – отвечал вопрошаемый, – я, правда, не много это всё понимаю. Вот, народ уничтожен, войско погуляло, а этот бедный Наумов…
– Что вы его бедным называете? Это предатель! – воскликнула Наталья.
– Значит, тем более бедный, что предатель, – сказал Книпхузен, – я знаю, что у него была тут жена дяди, её дочь и сын, как ни странно, что, увидев их в несчастье, может, неразумно бросился им на помощь.
– Что же это? Значит, вы его ещё защищаете?
– Но нет, – сказал холодно Книпхузен, – не защищаю, только жалею.
– Предателя?
– Наталья Алексеевна, он вас очень любил, – сказал барон с усмешкой, – пожалуй, вы за это его так ненавидите.
Наталья сильно зарумянилась, не отвечала ничего и замолчала.
Среди этого разговора неустанно приходили рапорты с улиц, занятых войском. Арестовывали прохожих, задерживали женщин, войско было на ногах, бдило, видимо, боялось этого раздражения народа, которого смерть стольких жертв могла довести до отчаяния. Тем временем трупы бросали в Вислу и тайно хоронили. Все тюрьмы были переполнены; а во многих домах их оплакивали и в тишине осматривали раны покалеченных юношей, женщин и стариков.
Не знаю, уснул ли кто той страшной ночью в Варшаве. Горожане боялись, как бы пьяные солдаты не бросились на дома, войско боялось восстания в городе, которое, действительно, могло быть сдержано только той великой силой, которую оставили после себя эти торжественные похороны второго марта.
Ремесленная челядь кипела и рвалась, самые убедительные слова духовенства едва могли сдержать её от напрасного усилия.
Но эта минута была, собственно, первой, решающей о вооружённом восстании. Народа уже нельзя было остановить иначе как отсрочкой и обещаниями, что не останется бездеятельным, что придёт для него минута борьбы.
За исключением людей, которые, живя за границей, вырабатывали теорию восстания на парижских бульварах, никто из добросовестных не мог надеяться на победу в этом бою. Все чувствовали, что бесчисленные штыки и пушки, что трое объединившихся врагов в итоге нас должны были сломить. Но сражение, эта смерть и падение были терпимей, чем издевательства врага.
Книпхузена даже не подозревали в преступных связях. Генерал начал перед ним выражать сожаление над испорченностью молодёжи, над заразой, которая вкрадывалась в армию с заговорами революционеров. Барон кивал, но холодно; наконец, выслушав долгие и общие упрёки, он сказал с улыбкой:
– Тут нечего бояться, господин генерал, Россия сильна, а горстка безумцев вовсе для неё не опасна. Вот так, правдой и Богом нечего особенно жаловаться, какова эта война; всегда приходит тропа война, двойное жалованье, ну, и крест, и ранг, благодарность в формуляре, и всё же войско на что-то пригодится матушке России.
Генерал пристально посмотрел на него, почти испугавшись, что у него так выкрал мысли из глубины души.
– А вас всегда поддерживают шутки, – сказал он, изображая грустный вздох, – зароботок небольшой, а сколько беды и хлопот, а сколько беспокойства, а какая ответственность!
Затем Наталья Алексеевна со смехом прервала его:
– Я уже счастлива, что видела, как эти негодные поляки валялись в пыли и крови.
Книпхузен только посмотрел на неё, но так как-то странно, так глубоко, что дочь генерала почувствовала себя престыженной и отошла молча и беспокойно.
В доме у Быльских был траур, перл семьи, любимец матери, честный Кубус, которого сёстры в шутку, но не без причины, иногда называли святым, пал, а старушка-мать даже для тела ребёнка не могла выклянчить христианского погребения. Ходила она, бедная, ища его труп, молясь, чтобы ей его выдали и в тишине разрешили похоронить. Но назавтра тела убитых уже исчезли без вести, в глубинах Вислы, в неизвестных уголках, закопанные в отвратительные ямы.
За большую протекцию провели её по цитадели, где была ещё одна незасыпанная могила. Увы! Не нашла она там сына, но плакала над останками незнакомых детей других матерей, которые, может, также искали своих родных, не зная об их судьбе. В одной яме лежали кучей перевёрнутые трупы с синими следами ран, а пол их, возраст и мученические отметины свидетельствовали о варварстве неприятелей. Эта страшная картина была для старушки грустным лекарством от её собственной боли, она поняла, что имела друзей и подруг, что не была одной в своём сиротстве, и стала более сильной от понесённой жертвы. Кроме потерянного сына, у неё была ещё раненая дочка, около кровати которой она просиживала вместе с оставшимися членами семьи. Рана Магдуси не была опасной, пуля разодрала только кожу, не затронув кости. Но испуг в первые минуты, душевная боль после смерти брата, столько других болезненных впечатлений вызвали опасную горячку.
Судьба Наумова, о котором знали, что он был ранен и должен был где-то скрываться, также беспокоила семью.
Поэтому не скоро смогли узнать, что бедный парень, которого искали по всей Варшаве, временно был вывезен в деревню, чтобы там безопасней мог вылечиться. Из всех офицеров, которые были в заговоре, один он отважился на действия, все, впрочем, прятались для будущего, скрывались как можно тщательней и прикидывались охваченными ужасом, когда говорили о Святославе.
Положение молодого человека, которого ждала бы смерть, если бы его открыли, было чрезвычайно трудным, особенно по той причине, что не имел ещё времени выучить польский язык, а одно высказанное слово уже его выдавало… Из первого своего убежища он написал письмо к Быльским, чтобы их успокоить. Особенно Мадзю беспокоила его судьба; он всегда ей нравился, но с той минуты, когда в один день и один час оба были ранены, когда увидела его с невероятным чувством отрекающегося от ливреи слуги, Магдуся полюбила его.
В то же время это чувство зародилось в сердце молодого человека, который сперва привязался было к ней как к сестре, теперь скучал по ней, как по своей единственной.
Наталья Алексеевна и воспоминания о ней стали для него отвратительны. Он вздрагивал, думая о ней, не понимал, как хотя бы на минуту сердце его могло для неё биться.
Поскольку на дом Быльских по причине известной родственной связи были обращены глаза, Наумов, удаляясь из Варшавы, не мог ни попрощаться с больной, ни с ней увидеться.
Стыдно ему было писать, ибо по-польски и нескольких слов не знал.
Но он надеялся, как только рана заживёт, тайно вернуться в Варшаву и работать дальше для дела, в котором теперь заключалась вся его жизнь.
Больше года прошло после описанных событий. В Королевстве всё ещё было то состояние борьбы и неопределённости, первые симптомы которых обнаружились при съезде трёх монархов в Варшаве. Правительство искало всевозможные комбинации, назначая по очереди суровых и мягких людей, но не умеющих ничем удовлетворить народ, желающий независимости. Во всех, однако, попытках коренилась одна мысль, по-разному представляемая, – суровости и терроризма. Так как после революции 31 года под суровым Пашкевичёвским правительством Королевство было почти спокойным, казалось неподвижно спящим, замковые политики делали вывод, что это испытанное средство суровости нужно было использовать снова. Они не задумывались над тем, что эти три десятка лет, это притеснение народа как раз сделало год 61 и следующие. Всё больше в Петербурге, в Москве, в правительственных сферах убеждались, что уступками ничего не добьются, нужно давить и душить. И величайшей уступкой была замена великого князя великопольским. В эти минуты так спутались планы, понятия, программы, тайные и явные намерения, что из них должен был родиться революционный хаос. На протяжении всего этого довольно долгого времени Наумов, легко вылечившись от раны, был очень активен, жизнь в деревне, одиночество, книги преобразовали его в другого человека; сначала он постарался хорошо выучить язык, что ему с лёгкостью удалось, отпустил потом бороду и усы, изменил причёску и физиономия его так изменилась, что мог смело бывать в Варшаве, показываться на улицах, встречаться со старыми знакомыми, не боясь быть узнанным. Шпионаж, как всегда, так и тогда, несмотря на разветвления, был немощным.
Наумов смело бывал в доме Быльских, виделся со многими особами и был известней под псевдонимом Станислава Навроцкого. Ему даже случалось встречать на улице красивую Наталью, при виде которой бледнел ещё, но от невыразимого к ней отвращения. Менее, может, соблазнительная, но приятная и скромная Магда всё больше его занимала. Дивная это была любовь, спокойная, нестрастная, больше, чем брата и сестры, и однако, что-то имеющая в себе от братской привязанности. Как все чувства, которые внешне не проявляются, она увеличивалась тем молчанием, которое её смущало. Любовь, когда выливается в слова, в нежности, в мечты и надежды, становится на вид более сильной, в действительности теряет что-то от своей силы. Магда и Станислав были такими близкими друг для друга родственниками, что ни ей, ни ему не приходило в голову то чувство, которое испытывали, назвать любовью. Было оно им, но почти без их ведома.
Только иногда и она странно задумывалась, и он сам спрашивал себя, чувствуя, что, быть может, слишком к этой сестре привязался. Когда он был вынужден выехать из Варшавы, потому что в течение этого времени предпринимал различные путешествия, они писали друг другу очень часто, слишком часто, а старая пани Быльская и Ления то смеялись над Магдей, то пожимали плечами, поглядывая на эти бесконечные письма. Никому из семьи, возможно, не пришло в голову, что это была любовь, которая могла привести к алтарю.
Было это в тот день, когда семья великого князя приехала в Варшаву. Время было какое-то хмурое и влажное, жители города, равнодушно приняв новость, вовсе не готовились к торжественному приветствию брата императора.
Неумелые политики Брюловского дворца для поощрения великого князя приготовили ему на Праге искусственную овацию, которая только напрасно раздражала чувство народного достоинства.
Нужно было быть воспитанником царских дворцов и потомком императорского рода, привыкшего кормиться лестью, чтобы поверить в правдивость этого насильного энтузиазма.
Немного размышления и здравого смысла сразу указали бы, что этот народ, исполненный благородного достоинства и чувств, не мог внезапно с таким запалом приветствовать нового наместника, который ему ничего не приносил, кроме воспоминаний и традиций николаевской семьи, дрожащей от одного имени поляка.
Здоровая часть варшавского народа, которая думала закрыться в домах, чтобы улицы были пусты, очень удивилась, узнав, что на Праге нашлись толпы, крики, что какие-то люди цеплялись за кареты, что великого князя приветствовали как избавителя народа.
Для всех было очевидно, что полиция Великопольского довольно ловко составила эту репрезентацию, которая возмутила всех. Станислав из интереса поехал переодетым на Прагу. Около железной дороги он нашёл великую давку, а толпа, из которой выбраться уже было невозможно, вытолкнула его на какую-то карету, в которой сидели женщины.
Припёртый к самой дверке, он робко поднял голову и с ужасом увидел над собой глаза Натальи Алексеевны. Он стоял так близко, что, несмотря на другую одежду, невозможно было остаться ею неузнанным. Знал он, что если она его узнает, немедленно укажет полиции, потому что Книпхузен и иные его товарищи, с которыми виделся сто раз, повторяли ему, с какой неумолимой ненавистью генераловна о нём говорила. Он хотел тут же отступить за карету, но так был прижат толпой, что даже двинуться было невозможно.
С первого брошенного взгляда он почувствовал грозящую ему опасность. Мимолётным блеском глаза Натальи поведали ему, что узнала его, услышал над собой крик и оживлённый шёпот женщин. Напрасно он отчаянно пытался, обливаясь холодным потом, видя, что не имеет другого спасения, кроме смелости, поднял живо голову и смело посмотрел на генераловну. Бледная, с сжатыми устами, сидела она дрожа и, казалось, кого-то ищет, чтобы ей послужил для выполнения какого-то намерения. Смерть стояла в глазах Наумова, но к нему тут же вернулась отвага, он приложил руку к шапке и сказал тихим голосом:
– Вы меня узнали, Наталья Алексеевна? Вижу, что ищете полицейского, чтобы приказать меня за воротник схватить. Этого я ожидал от вас, но послушайте, из-за крика и шумом не дозовётесь никого, я же, даю вам слово, что если откроете рот, защищая не свою жизнь, но это дело, которому я посвятил себя, выстрелю в вас и убью.
Сказав это, он приоткрыл сюртук и быстро показал рукоять револьвера.
Только губы задрожали у Натальи, спустя мгновение хитрая усмешка пробежала по ним.
– Святослав Александрович, вы, правда, отвратительны мне как предатель, но кто же вам сказал, что я хотела перемазаться вашей кровью?
– Твои глаза, Наталья Алексеевна, – сказал Наумов, – они тебя выдали!
Наталья покачала головой. Станислав говорил дальше:
– Понимаете, что дело идёт о моей жизни; не дам взять себя неотмщённым. Можете позже поведать обо мне папе, приказать искать меня по всей Варшаве; этого уже не боюсь, но ежели тут наделаете шума, хотя бы я, может, смилостивился над вами, нас тут находится больше, – добавил он с акцентом, – нас тут больше.
Дочь генерала была, очевидно, испугана, смотрела вокруг, молчала, даже любопытное зрелище ожидающих экипажей, одетых в мундир должностных лиц двора великого князя не смогло обратить её внимания. Остывший Наумов разглядывал её с любопытстывом, с какой зрелый человек смотрит на безделушку, с которой играл в детстве.
– Как вам не стыдно, – отозвалась, смущённая его взором, генералова. – Как вам не стыдно, вам, настоящему русскому, изменять царю и переходить к бунтовщикам?
– Мне было бы стыдно, – отпарировал живо Наумов, – если бы после того дня, когда вы меня видели, я остался в рядах войска, которое казнило безоружных. В тот день я стоял ещё в рядах, когда царская пуля убила моего брата, покалечила сестру. Вы видели меня? Должен я был стрелять или приказывать стрелять в братьев? Слушайте, Наталья Алексеевна, выше приказов вашего царя есть приказ Бога: «Не убий». На войне человек защищает свою жизнь и вольно ему причинить смерть, дабы спасти себя, но это не была война, это была бойня, с одной стороны штыки, с другой – народ с песней и крестом.
Наталья бледнела всё больше, слушая его. Первый раз в жизни доходили до её ушей столь смелые слова, которыми решались так осуждать царя и ставить его в противовес Богу, когда, согласно понятиям русских, он есть воплощением Бога на земле. Она не могла ответить, а в те минуты шумное: «Ура! Да здравствует!» – ознаменовали прибытие князя и княгини. Наталья немного вылезла из кареты, а Станислав с интересом посмотрел в ту сторону, где стоял бледный, как стена, с коротко остриженными волосами молодой человек. Он видел его руку, дрожащую на груди, знал по глухим слухам, что он должен был стрелять в великого князя; был это Ярошинский, который, как позже признался, не совершил в то время своего намерения, увидев саму княгиню и боясь её случайно ранить.
С той минуты, когда первым выстрелом и первым стилетом революция придала себе новый, необычный у нас характер, люди, знающие глубже наш народ, сразу отгадали, какое влияние влило в неё ту ложную идею, что убийством и терроризмом, что нападением на беззащитных можно работать на благо страны.
Эта идея была не польской, её принесли с собой из московских университетов молодые фанатики, принесли её революционеры с запада. Народ сразу её оттолкнул и неизмеримая боль в его глазах была только её оправданием. В истории всей Польши, в самых ужасных её переворотах нигде не найдём ни следа подобных деяний, ни убеждения, что они действительно как-нибудь пригодились бы делу. Свободный народ всегда гнушался терроризмом, отказывался от жестоких покушений. За тысячи лет только раз, и то безумец, Пекарский, покушался на Сигизмунда III.
