Грустная книга
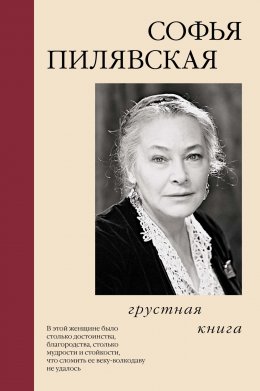
© Пилявская С., наследники, 2024
© Киноконцерн «Мосфильм», 2024
© Музей МХАТ
© Оформление, предисловие.
ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2024
Издательство АЗБУКА®
Что видишь, то и пиши, а что не видишь – писать не следует.
М. Булгаков
Есть дни и годы, к которым память возвращается снова и снова – всю жизнь.
А. Луначарский
Вместо предисловия
Если идти от станции метро «Пушкинская» вниз к Кремлю по четной стороне Тверской улицы и свернуть в Глинищевский переулок, по левую руку можно увидеть строгое здание – знаменитый мхатовский дом, в котором жили выдающиеся деятели Художественного театра: Владимир Иванович Немирович-Данченко, Ольга Леонардовна Книппер-Чехова, Иван Михайлович Москвин. Здесь же, в квартире номер 30, жила Софья Станиславовна Пилявская.
Переступив однажды порог МХАТа, Софья Пилявская навсегда стала его частью, запомнилась как яркий пример интеллигентности и аристократизма, за что одни ее обожали, а другие обходили стороной или даже ненавидели.
Софья Станиславовна Пилявская родилась в мае 1911 года в Красноярске. Отец ее, Станислав Станиславович, родился в дворянской семье, учился в гимназии, окончил юридический факультет Петербургского университета. В 1903 году вступил в партию большевиков, сделался профессиональным революционером, что впоследствии стало причиной многих злоключений семьи Пилявских. Мать, Софья Иосифовна, родом из аристократической семьи, воспитывалась у одной из своих родственниц, потому что ее мать выгнали из дома после того, как та вышла замуж против воли родителей.
Отца много раз арестовывали и в 1908 году сослали на вечное поселение в Красноярск, куда он отправился с женой и маленьким сыном. Спустя три года у них появилась дочь.
Незадолго до Февральской революции Станислав Станиславович уже со второй женой, Еленой Густавовной Смиттен, членом партии с 1904 года, вернулся в Петроград. Он участвовал во всех важных политических событиях, его политическая карьера пошла в гору, он занял пост председателя Спецколлегии Верховного суда СССР.
Несмотря на то что Станислав Станиславович ушел из семьи, он поддерживал отношения и с детьми, и с первой женой. Во многом именно благодаря этому мы знаем артистку Пилявскую: не будь многочисленных знакомств отца, Софья Станиславовна не смогла бы поступить на актерские курсы.
В своих воспоминаниях она пишет, что к началу 1927 года осознала: другой дороги, кроме как стать актрисой, у нее нет. И здесь огромную роль сыграло знакомство ее семьи с семьей Константина Сергеевича Станиславского. В том же году она отправилась на прослушивание к Зинаиде Сергеевне Соколовой, сестре Станиславского, в Драматическую студию. Пробы вышли неудачные. Зинаида Сергеевна внимательно выслушала соискательницу, но, к сожалению, отметила, что у той сильный, почти неисправимый, польский акцент, с которым на московских подмостках ей нечего делать. Многие бы после таких слов могли опустить руки и отказаться от мечты, но только не Софья Станиславовна. За год она смогла избавиться от акцента и все же поступила в студию Соколовой, где проучилась три года.
В архиве Зинаиды Сергеевны Соколовой в Музее МХАТ хранятся документы, рассказывающие о деятельности Драматической студии. И как только не коверкали в этих документах фамилию Пилявской – и Пилецкая, с последующим исправлением карандашом на Пилявскую, и Пелявская. Одной из первых ее ролей стала роль Фленушки в инсценировке романа «В лесах» П. И. Мельникова-Печерского. В студии она исполняла «Две матери» К. Гамсуна, монолог Мирандолины из «Трактирщицы» К. Гольдони, читала стихи и поэмы С. А. Есенина. Она брала частные уроки у Зинаиды Сергеевны, иногда получалось заниматься даже с самим Константином Сергеевичем Станиславским.
В 1931 году Софья Станиславовна окончила курсы и поступила во вспомогательный состав Художественного театра, где ее сразу приметил Владимир Иванович Немирович-Данченко, которого она боготворила, хотя он и не заваливал ее ролями. Но те роли, которые она играла при нем, запомнились ей на всю жизнь.
В 1933 году Софья Станиславовна познакомилась с Николаем Ивановичем Дорохиным, первым и единственным мужем и любовью на всю жизнь. Она родилась 17 мая, он – 18-го, у них был один день рождения на двоих. Это была счастливая актерская пара, хотя счастье их было недолгим.
В 1937 году произошло одно из самых страшных событий в жизни Софьи Пилявской. Началось с того, что отец попросил после его возвращения в Москву поехать с ним на примерку нового костюма. Шли дни, но звонка от него все не было. И тогда она отправилась к нему домой и обнаружила опечатанный кабинет. Все стало ясно: Станислава Станиславовича арестовали, случилось это 13 сентября. Приговор – десять лет без права переписки за тройной шпионаж. Как намного позже будет говорить с грустной улыбкой Софья Станиславовна, по числу языков, какие он знал. С этого момента в жизни Пилявской и Дорохина поселился страх. Вскоре родного брата Софьи Станиславовны уволили с работы, дочь ее отца от второго брака исключили из комсомола, а Елену Смиттен, вторую жену, отправили в лагерь. Софью Станиславовну ждало увольнение из театра. Написав под диктовку директора заявление по собственному желанию, она уже была готова распрощаться с театром. Но вмешался Станиславский. Ему пытались объяснить, что Пилявская – дочь врага народа, на что Константин Сергеевич ответил, что она дочь, а не враг народа, и разорвал заявление. Софья Станиславовна осталась в театре, репетировала, играла спектакли, но жизнь изменилась. Мужу стали приходить повестки из НКВД, его убеждали следить за женой и даже отказаться от нее, чего он, конечно же, не сделал. Это изрядно потрепало его и без того больное сердце. В 1938 году, в возрасте 33 лет, у Николая Ивановича случился первый сердечный приступ.
Софья Станиславовна ждала, когда окончится срок отца, но позже узнала, что он был расстрелян еще в ноябре 1937 года.
Жизнь между тем продолжалась, но ее омрачали то и дело появляющиеся некрологи – ушли из жизни Константин Сергеевич Станиславский, Михаил Афанасьевич Булгаков, Владимир Иванович Немирович-Данченко, Иван Михайлович Москвин. Софья Станиславовна глубоко переживала эти потери. Спасало теплое общение с великой актрисой Художественного театра Ольгой Леонардовной Книппер-Чеховой. В Музее МХАТ хранятся письма Софьи Станиславовны к Ольге Леонардовне. Они полны добра, почитания, безмерной любви и уважения. Во многих из них Пилявская обращается к Ольге Леонардовне «моя любимая Барыня». Софья Станиславовна навещала Книппер-Чехову и в Гурзуфе, где познакомилась с Марией Павловной Чеховой, сестрой Антона Павловича.
В 1941 году Пилявская с мужем и матерью эвакуируется в Саратов. Мхатовцы расположились в здании Саратовского театра юного зрителя, где жили и играли. Вскоре Софья Станиславовна получила известие о гибели брата. Это была огромная утрата, она не знала, как сказать об этом матери. Это сделал со всей осторожностью и деликатностью Николай Иванович. Однако, несмотря на тяжесть потери, Софья Станиславовна старалась держаться и не позволяла себе горевать на людях.
В ноябре 1942 года семья вернулась в Москву, Николай Иванович возглавил концертную бригаду, которая выезжала на фронт до самого Дня Победы.
Но в канун Нового 1954 года случилось то, что разделило жизнь Софьи Станиславовны на до и после. В начале театрального сезона 1953/1954 года Николаю Ивановичу предложили занять должность заведующего труппой Художественного театра. Эта работа требовала внимательности и концентрации, именно поэтому Софья Станиславовна всячески отговаривала мужа, боясь за его больное сердце. Дорохин был одаренным человеком, одержимым театром и, несмотря на предостережения жены, согласился. Тридцатого декабря вечером Николай Иванович играл спектакль, играл бодро, энергично. Наутро, как всегда это бывало, завел часы, перелистнул календарь, отправился в театр, в обед вернулся домой. Вечером, по традиции последних нескольких лет, Николай Иванович и Софья Станиславовна отправились встречать Новый год к Книппер-Чеховой. У подъезда он задержался на улице, а Пилявская поднялась в квартиру. Через какое-то время Николай Иванович появился в дверях весь бледный, держась за сердце – ему было плохо. Пройдя несколько шагов, он упал в столовой. Его сердце остановилось в тридцать две минуты двенадцатого. Ему было 48 лет.
Начались долгие, пустые дни после смерти мужа. Вплоть до своей кончины в 2000 году Софья Станиславовна встречала Новый год одна.
В 1954 году ее пригласили в Школу-студию им. Вл. И. Немировича-Данченко при МХАТе СССР имени М. Горького в качестве педагога актерского мастерства, помощника Виктора Яковлевича Станицына. Конечно, в первую очередь ее приглашали как актрису, знакомую с особенностями школы старого МХАТа, но была и другая причина – коллеги хотели как-то отвлечь ее от переживаний после потери мужа. Софья Станиславовна дала согласие – Школа-студия МХАТ была детищем Вл. И. Немировича-Данченко, к которому она относилась с безмерным уважением и который собрал в Школе-студии людей, хорошо знавших театр, и многих актеров, главным образом второго поколения, для преподавания мастерства актера. В Школу-студию пригласили даже княжну Волконскую, обучавшую студентов светскому этикету.
В отличие от других педагогов, Пилявская часто рассказывала о совсем не веселых моментах жизни, например о смерти Станиславского или Немировича-Данченко. Как никто другой она знала, что в жизни бывают потери, и учила молодых актеров, как эти потери впустить в себя, прожить их и показать на сцене.
Пилявская не скрывала, что поначалу боялась студентов до дрожи. И тем не менее она стала прекрасным педагогом. Актриса Наталья Дмитриевна Журавлева, ныне сама педагог Школы-студии МХАТ, вспоминала, что Софья Станиславовна была достаточно строгой, но при этом и доброй. Она учила, что роль должна получаться не из страха, не в результате выучки или тренировки, а органично, идти от души.
В одной из сцен в спектакле «Красивая жизнь» у баронессы, героини Софьи Станиславовны, есть слова: «Я никогда не интересовалась непристойностями…» Это, пожалуй, одно из кредо самой Пилявской.
Безусловно, она была человеком старой выучки и старой закалки, привыкла с первых дней к театральной дисциплине – не навязанной, а абсолютно естественной. Она вспоминала, как раньше все приходили на репетиции заранее, минут за десять, и это был закон. Если кто-то приходил за пять минут, то Николай Николаевич Шелонский, помощник режиссера, делал устное замечание. Прийти вовремя означало опоздать – ведь нельзя врываться на репетицию или спектакль, нужна подготовка. Пилявская очень рано приезжала в театр, готовилась к спектаклю в своей уютной грим-уборной, всегда сама гримировалась, и это было завораживающим зрелищем! Лишь в конце позволяла гримеру надеть на нее парик.
В телевизионной программе «До и после полуночи» (1991) она говорила: «Я очень хорошо помню то время. Я помню, как нас воспитывали, строго, но очень бережно. Дисциплина была строгой, но она достигалась не приказами, а личным примером. И, глядя на них, на всех этих драгоценных людей, которых почти не осталось сейчас, мы невольно старались стать лучше. Вот я помню днем чайный актерский буфет. Наши основатели, Станиславский и Немирович-Данченко, никогда туда не входили, но, проходя мимо, иногда заглядывали. И вот я подсмотрела, стоя далеко в коридоре, как мимо этой арки проходит Владимир Иванович Немирович-Данченко, и все в буфете встают. Но что меня потрясло – у противоположной стены пили чай Ольга Леонардовна Книппер-Чехова и Мария Петровна Лилина, жена Станиславского, и они тоже привстали и наклонили голову. Вот такой была дисциплина в театре».
Аристократичная, всегда элегантно одетая, с неброским маникюром и безупречными манерами, Софья Станиславовна прививала студентам вкус, учила вести себя. Ее любимыми учениками стал выпуск 1959 года, который долгое время после окончания оставался единым курсом: А. С. Лазарев и Е. Н. Лазарев, В. М. Невинный, Т.Е. Лаврова, А. Б. Покровская, Н. Д. Журавлева, А. В. Ромашин, Г. И. Морачева, А. Л. Филозов и др. В одном из своих поздних интервью Софья Станиславовна вспоминала: «Они стали исключением даже тогда, когда было много хороших настоящих студентов. Они жадно хотели учиться. Они не чурались никакой работы. Они делали все своими руками».
В дни рождения Софьи Станиславовны любимый курс приходил к ней в гости. Помощница по дому, тоже Соня, кормила всех пирожками.
Альберт Леонидович Филозов вспоминал, что Софья Станиславовна была курсу как мать – всегда подскажет, поможет, пригреет у себя дома, но в то же время и как «сестра по профессии». Студенты, которые с ней долго работали, называли ее Зося. При всей своей строгости она отличалась удивительным чувством юмора и могла заразительно смеяться.
Софья Станиславовна прошла долгий путь от старшего преподавателя до профессора, выпустила несколько курсов, подарив им любовь, привив трепетное отношение к гениям старого Художественного театра.
Отдельная страница жизни Софьи Пилявской – ее тесная дружба с Еленой Сергеевной Булгаковой, с которой она часто встречалась, перезванивалась. Софья Станиславовна вспоминала их последний телефонный разговор, когда вдова Булгакова слабым голосом проговорила в трубку: «Я люблю тебя». Утром следующего дня, в восемь часов, раздался звонок: Сергей Шиловский сообщил, что Елена Сергеевна скончалась…
Была у Софьи Станиславовны и еще одна особая дружба – со Святославом Теофиловичем Рихтером, которого она боготворила. И с его стороны это было взаимно. На презентации первого издания «Грустной книги» Рихтер и его жена, Нина Львовна Дорлиак, присутствовать не смогли, но прислали трогательное письмо, в котором отмечали искренность автора, то, как нежно она отзывается о дорогих ей людях, портреты которых один за другим вырисовываются в воображении читателя. Когда Софье Станиславовне передали это письмо, она тяжело встала, сделала элегантный поклон и нежно поцеловала конверт. С таким пиететом относилась она к знаменитому пианисту.
Но вернемся в 1970-е. Эти годы были сложными для Софьи Станиславовны – она играла спектакли, но с новыми ролями не ладилось. Пришедший во МХАТ Олег Николаевич Ефремов, как рассказывала Алла Борисовна Покровская, сомневался в ее таланте, не верил, что она сможет соответствовать требованиям современной режиссуры. Он искал новые характеры, других людей, поэтому Пилявская оставалась за бортом корабля по имени «Художественный театр». Но позже он разглядел в ней искру и проникся.
В 1990-е годы вышло сразу несколько спектаклей с участием Софьи Станиславовны. В «Красивой жизни» Ж. Ануя она играла баронессу, но создавалось ощущение, что это была не игра: ее манеры, ее ощущение себя на сцене – все говорило о том, что перед зрителем настоящая баронесса. В «Горе от ума» Пилявская сыграла Хлестову. По воспоминаниям Натальи Максимовны Теняковой, эта роль была будто написана для Пилявской – ее стать, характер были в роли как нельзя органичны. У Софьи Станиславовны очень сильно болела нога, которую она повредила еще во время войны. Ногу спасли, но боль периодически возвращалась. В последние годы ей становилось все сложнее ходить. Тогда-то Наталья Тенякова, будучи партнершей Пилявской по спектаклю «Красивая жизнь», предложила ей играть в коляске, но та наотрез отказалась – пока она на ногах, будет ходить, не сможет ходить – сядет в коляску.
В кино Софья Пилявская сыграла не много ролей, но несколько кинофильмов с ее участием стали шедеврами. Как не вспомнить «Все остается людям», экранизации «Анны Карениной» и «Живого трупа»! Но больше всего известен, конечно, фильм «Покровские ворота», где Софья Станиславовна сыграла тетушку Костика Алису Витальевну. Небольшая, но очень запоминающаяся роль. Надо сказать, если бы не Пилявская, фильм мог лечь на полку и никогда не увидеть своего зрителя. Михаил Михайлович Казаков вспоминал, что картине долго не выдавали прокатного удостоверения. Казаков хотел пробиться к председателю Телерадиовещания С. Г. Лапину, от которого это зависело, но никак не мог. Тогда Пилявская сама отправилась на прием. Лапин очень уважал мхатовских стариков и не мог отказать актрисе – разрешение было получено.
В 1991 году Софья Станиславовна стала одной из последних, кто получил звание народного артиста СССР.
Последние годы жизни Софьи Станиславовны были омрачены не только ухудшающимся здоровьем, но и легкомысленностью студентов и молодых актеров. Она очень жалела, что во МХАТе не преподают манеры – «их никто не помнит». А этому, считала она, обязательно нужно обучать молодежь. Она не понимала новое поколение, которое не очень любило учиться и считало, что все знает и без педагогов. «Они воспринимают все старое как историю. Но от старого можно много взять для себя, от хорошего старого…» Для них это была история, а для нее – жизнь.
Во время репетиций «Горя от ума» Софья Станиславовна поражалась, как ведет себя молодежь, когда говорит Олег Николаевич Ефремов, режиссер, художественный руководитель, – кто-то вяжет, кто-то шепчется, кто-то читает, но только не вслушивается в разбор ролей и пьесы. Актеры нового поколения очень довольны собой, им все ясно. В телепередаче «Это было недавно…» (1998) она вспоминала, как ее муж работал на стройке Телеграфа, возил кирпичи, чтобы оплачивать учебу, а сам жил в чужой ванной. Молодые актеры сейчас живут лучше, заметила она, они не выстрадали то, что пришлось выстрадать старшему поколению.
И надо сказать еще об одной дружбе Софьи Станиславовны. В 1992 году судьба свела ее с Наиной Иосифовной Ельциной, они встретились в Пушкинском музее. Наина Иосифовна обратила внимание на элегантно одетую женщину – ею оказалась Софья Пилявская, актриса, которую Наина Иосифовна обожала. Она подошла поздороваться и подержать за руку ту, кто имел счастье и возможность репетировать с Константином Сергеевичем Станиславским и Владимиром Ивановичем Немировичем-Данченко, последнюю актрису второго поколения мхатовцев. Эта дружба длилась до последних дней Софьи Станиславовны. Именно Наина Иосифовна помогла устроить Софью Станиславовну в больницу, когда той было уже совсем плохо, навещала ее. Выступая на вечере памяти Пилявской в Доме актера в 2002 году, Наина Иосифовна вспоминала, что даже в трудные минуты болезни, буквально накануне ухода, Софья Станиславовна была красива, она пронесла свою строгую красоту через всю жизнь.
В своих мемуарах К. С. Филиппова-Диодорова, ученица Пилявской, вспоминала историю с Николаем Ивановичем, который в Лувре долго рассматривал статую Афродиты, а потом сказал: «Моя Зося лучше». А заведующий труппой МХАТа Вадим Васильевич Шверубович говорил, что «зимой с ней еще можно ходить по улицам, но летом нет».
Она никогда никому не жаловалась, старалась воспринимать жизнь радостно, хотя это давалось ей очень тяжело. В последние годы она жила от спектакля до спектакля – в этом был смысл ее жизни. Пилявская надеялась, что в театр вернется та трепетность и ответственность перед людьми и делом, но она не возвращалась. Она мечтала о том, что вернется уровень старого МХАТа, который исчезал на ее глазах. Она терпела. Ей сложно было видеть то, чем стал театр, ведь она жила в одно время с гениями – Станиславским, Немировичем-Данченко, Книппер-Чеховой, Качаловым, Москвиным, Еланской, Андровской, Зуевой, Степановой и многими другими, но в то же время она понимала: театр не может жить без изменений.
Она хотела семью, но считала, что не имеет права жаловаться на ее отсутствие, конечно же, мечтала о новых ролях, но никогда их не просила. В последние годы часто говорила, что в театре она одна – последняя из того старого МХАТа.
Софья Станиславовна заранее позаботилась о наследстве – не забыла упомянуть ни одного из тех, кто был ей дорог. Особым ее пожеланием было уничтожить частную переписку, что и сделала одна из ее студенток.
Софьи Станиславовны Пилявской не стало 21 января 2000 года. Она отдала Художественному театру почти 70 лет, сыг ра ла около 50 ролей, среди которых Мария Меншикова в «Елизавете Петровне», Мариэтт в «Воскресении», Ночь в знаменитой «Синей птице», Софья и Хлестова в «Горе от ума», миссис Чивли в «Идеальном муже», Наталия Дмитриевна во «Все остается людям», Глумова в «На всякого мудреца довольно простоты», Войницкая в «Дяде Ване», баронесса Мина фон Брахейм в «Красивой жизни» и многие другие.
Она похоронена на Новодевичьем кладбище, где покоятся Вл. И. Немирович-Данченко, И. М. Москвин, О. Л. Книппер-Чехова, Е. С. Булгакова и С. Т. Рихтер.
«Грустная книга» – история жизни прекрасной актрисы, красивой женщины, любящей и преданной жены, Человека с большой буквы, рассказанная ею самой.
Е. А. Конюхов, Главный хранитель Музея МХАТ
Часть I
1911–1926 годы
Я родилась в мае 1911 года в Красноярске. Родители мои поляки. Отец – Станислав Станиславович Пилявский – родился в 1883 году в семье врача. Воспитывал его отчим, потому что моя бабушка, овдовев в 21 год и оставшись с четырьмя детьми, вскоре вышла замуж за богатого польского помещика Феликса Козловского.
Еще в Виленской гимназии отец вступил в нелегальный марксистский кружок. Этим кружком руководил Иван Осипович Клопов – офицер, преподаватель гимнастики (совсем как Родэ у Чехова в «Трех сестрах»). Только офицер Клопов сотрудничал в газете «Искра» и, кажется, занимался ее распространением.
После окончания гимназии отец поступил в Петербургский университет на юридический факультет, где через некоторое время вместе с Николаем Николаевичем Крестинским (в гимназии они учились в одном классе и дружили всю жизнь) стал в свою очередь руководить подпольным марксистским кружком.
В 1903 году отец вступил в партию большевиков. В 1905 году был первый раз арестован и пробыл в заключении около года. Из университета его исключили. После освобождения был в Ковно и Вильно на подпольной работе (кличка – Фома). Какое-то время жил у родителей.
Моя мать Софья Иосифовна, урожденная Стоковская, тоже человек не совсем обычной биографии. Ее мать – моя бабушка Стоковская – родилась в аристократической польской семье, очень молодой влюбилась в небогатого «шляхтича», тайно с ним обвенчалась, за что и была изгнана из семьи и проклята родителями. Мама была третьей и самой младшей дочерью, дед (мамин отец) умер, когда ей не было и месяца. Воспитывалась мама у одной из своих родственниц – сестры грозной моей прабабки, так и не сменившей гнев на милость.
Как и когда встретились мои родители, я не знаю. Венчались они уже в Петербурге, потому что благодаря знакомству отчима с ректором Петербургского университета отец вновь был принят туда и окончил в 1908 году юридический факультет. В 1907 году родился мой брат Станислав.
В конце 1908 года отца опять арестовали, судили и выслали на вечное поселение в Красноярск. Мама с моим братом тоже вскоре уехала к отцу. Вот почему я стала сибирячкой.
В том же году деятельность офицера Клопова была раскрыта. Его судили, лишили офицерского звания и приговорили к высылке за пределы европейской части России. Списавшись с моим отцом, Клопов и его жена с двумя молоденькими дочками переехали на постоянное жительство в Красноярск. Мои родители были очень дружны с этой семьей.
Красноярск я помню смутно, в ту далекую пору он был заштатным городом. В центре одна мощеная улица – Дворянская, тротуары деревянные. На площади собор, аптека, театр и кондитерская «Жорж Борман». Кондитерскую помню по пирожным и лимонаду. Смутно помню и городской театр, где я даже изображала однажды роль мухи в детском любительском спектакле.
Ссыльные называли город «Ветропыльск».
Жили мы на окраине (иначе нельзя было), наша улица называлась Узенькая.
Одноэтажный деревянный, в несколько окон со ставнями на улицу дом. Парадная дверь с козырьком. В холодных сенях – большое окно во двор. В те времена такой дом считался солидным и стоил недешево.
Квартира в несколько комнат. Кухня с русской печью и плитой, из кухни ход в сени и во двор. А там – будка и большой рыжий пес Цезарь, который иногда возил меня в санках.
В одной из комнат с окном во двор всегда жил или ночевал кто-нибудь посторонний. Освещение – конечно, керосиновые лампы и свечи. Удобства самые примитивные: воду носили ведрами (привозил водовоз), но была «умывальня» с тазами, кувшинами и рукомойниками.
Из прислуги были у нас кухарка, дворник и няня Зося, которую вывезли из Польши. Прислугу мои родители могли содержать потому, что мать и отчим отца высылали нам деньги, как и мамина старшая сестра – очень состоятельная женщина. Деньги высылались на имя мамы; она не была под надзором полиции и даже преподавала в местной женской гимназии музыку или пение.
Когда мне исполнилось 11 месяцев, мама повезла меня крестить в Польшу, в имение Козловских. Пока доехали до места, я уже пошла. По словам мамы, во время крестин я вела себя буйно. Крещена я тремя именами, как и полагается в католических дворянских семьях. У девочек первое имя материнское, у мальчиков – по отцу. Таким образом, я – София Аделаида Антуанета.
Детство, особенно раннее, обычно вспоминается светлым и радостным. Так и у меня: радость от катания на санках во дворе, радость от украшенной горящими свечами елки с подарками под ней (а до этого клеились разноцветные цепи, золотились орехи и делались какие-то игрушки). И вот наконец праздник. В гостиной что-то готовилось, а мы и наши гости Ира и Боба Мазинги (их отец, барон фон Мазинг, тоже был выслан в Красноярск) стояли под дверью, стараясь заглянуть в замочную скважину, и с нетерпеньем ждали марша или полонеза, который мама играла на пианино, – это был знак того, что сейчас откроется дверь.
Вспоминая сейчас то бесконечно далекое время, я понимаю, что мой очень активный, выражаясь мягко, характер доставлял родителям и всем близким много хлопот. Мой брат Станислав был кротким, воспитанным мальчиком, во всем мне уступавшим.
Обычно после мытья головы нам каждый раз закручивали волосы на папильотки нитками: маме хотелось, чтобы мы были в «локонах». Однажды, в знак протеста, я, раздобыв ножницы, срезала почти все свои волосы, устроив маме сюрприз. В результате нас обоих остригли почти наголо – есть фотография.
Хорошо помню воскресные завтраки и за столом, кроме членов семьи, большого, рыжего человека с добрыми, какими-то сияющими глазами – дядю Авеля. Его очень усердно потчевали, и он с аппетитом ел. Один раз, глядя на него, я спросила: «А вы не лопнете?» – повергнув маму в панику, а отца в смущение. А дядя Авель только хохотал. Это был Авель Сафронович Енукидзе, член партии большевиков с 1898 года, тоже не по своей воле оказавшийся на берегу Енисея. Он содержался не то в крепости, не то в казармах под Красноярском, и по субботам начальство отпускало его до утренней поверки в понедельник.
В субботу к вечеру он пешком приходил к нам, ночевал в комнате с окном во двор и утром, умытый и выбритый, в чистой суконной рубашке появлялся к завтраку.
Мы, дети, очень его любили. Почти все воскресенье он возился с нами, выдумывая различные игры, катал меня на закорках, я – к ужасу мамы – запускала обе руки в его пышную огненную шевелюру, а он смеялся.
Авель Сафронович был очень добрым и мужественным человеком. Говорили, что я родилась, когда он находился у нас в доме.
Сразу после моего рождения бабушка Стоковская опять проявила храбрость и упорство. Она приехала в далекий и «дикий» Красноярск и прожила с нами около года. По маминым рассказам я знаю, что именно мое появление было причиной ее смелого поступка: она тогда была уже старой.
Зимой нас, детей, будили обычно в одно время. Вставали при свече. После завтрака становилось уже светло, нас снаряжали на прогулку и отправляли на улицу, даже если мороз достигал 45°. Но была одна ужасная процедура – лицо и руки под очень теплыми варежками густо мазали гусиным салом.
Мой отец, будучи ссыльным, не имел права служить, но был обязан каждую субботу являться к приставу для отметки. Его использовали только во время сибирской переписи населения и внутринадельного размежевания в Енисейской губернии. Это было связано с дальними разъездами. Отец прекрасно ездил верхом, иногда ему приходилось сплавляться на плотах по Енисею – там, где из-за многочисленных порогов река не была судоходной. Это было небезопасно. Поэтому во время отсутствия отца все очень волновались.
На лето наша семья выезжала на дачу. На нескольких телегах везли мебель, домашнюю утварь, даже пианино. Дача стояла на берегу Енисея. Место это называлось «За монастырем». Помню круглую клумбу и в середине ее большой стеклянный шар. Очевидно, тогда так было модно. Дача была большая, и кроме нас там жили Мазинги, а где-то рядом семья доктора Гусарова. Очень крупный, красивый, светло-русый, всегда элегантный (это я поняла гораздо позднее, по фотографиям), эдакий красноярский доктор Астров, он лечил всех и от всего. Меня он принимал на свет. Я болела, кажется, всеми детскими болезнями, а в три года даже натуральной оспой. Это ему я обязана выздоровлением и тем, что оспин на лице осталось немного.
Потом я узнала, что доктор Гусаров не только лечил, но и помогал ссыльным. Он имел отношение к распространению «Искры» в Сибири. Мой отец не мог заниматься делами газеты – у него были свои, особые задачи.
Величественный Енисей тогда никакого впечатления на меня не производил – река как река, в которой меня иногда купали у берега.
Хорошо помню «тот» берег, где стояла скала Столбы. Кругом была тайга. В памяти мелькают обрывки рассказов взрослых о пустынности и опасности «того» берега.
Через 50 лет после того, как меня увезли из Сибири, летом я прилетела сниматься в Дивногорск, где достраивалась Красноярская ГЭС.
По дороге с аэродрома я жадно смотрела по сторонам. Дорога почти все время вилась по берегу Енисея. Тут я вполне оценила всю красоту этой могучей реки.
Дивногорск, совсем тогда юный город, спускался террасами к Енисею. Длинная набережная с современными магазинами, а в конце ее – прекрасная гостиница. Меня поразил вестибюль, где прямо из пола, во всю вышину лестничного проема, росла чудесная белоствольная береза, а в ее кроне щебетали птахи. Работники гостиницы очень гордились этой березой.
Окна моего номера выходили на Енисей. Виднелись только вода и «тот» берег, тогда еще не застроенный. Смешанный лес красоты необыкновенной, и кое-где пестрые, яркие поляны – красные, лиловые, желтые, – это цвели маки, ирисы и еще какие-то цветы.
Мне любезно предоставили машину и водителя-красноярца. Весь день мы кружили по Красноярску. Искали Узенькую улицу. Попадались похожие деревянные особнячки, но того, главного для меня, так и не нашли.
Не зря новый город около Красноярской ГЭС назван Дивногорском – это воистину чудо, гигант, а за ним – Красноярское море. Возили меня на глиссере и по Енисею, и по Красноярскому морю, которое разлилось на многие километры, затопив старинные сибирские села…
И вновь я возвращаюсь больше чем на половину столетия назад, на нашу Узенькую улицу.
Было мне лет пять, когда в комнате с окном во двор появилась молодая красивая женщина – Елена Густавовна Смиттен, тоже член партии, высланная в Красноярск. Она, как и все до нее, столовалась вместе с нами. Мы, дети, звали ее Лена.
Очевидно, это был конец 1916 года. Дядя Авель больше у нас не показывался. А в самом начале 1917 года уехал в Петроград отец, а с ним и Елена Смиттен. Мои родители разошлись.
Мы, дети, ничего не знали, внешне все было привычно благополучным. «Папа уехал на службу, и мы тоже скоро уедем в Петроград», – так нам было сказано.
Как я понимаю теперь, уехал он нелегально, накануне Февральской революции.
В Красноярске с нами осталась старшая сестра отца, Аделаида Станиславовна, отважно решившаяся на такое далекое и трудное путешествие – из Польши в Сибирь, чтобы убедиться, что и там можно жить. Приехала и осталась надолго, а когда уехал отец, она не сочла возможным оставить маму и нас. Воспитанная в женском монастыре (по моде того времени), она была восторженной, доброй и прилежной католичкой, совсем не приспособленной к повседневности, много молилась, всего пугалась. Нас она очень полюбила, и мы отвечали ей тем же, но совсем ее не слушались. После отъезда отца она часто плакала – тогда мы не понимали, почему.
Летом 1917 года мы не поехали на дачу, а в доме началась какая-то суета. Каждый приход почтальона вызывал большое волнение взрослых, долгие разговоры за закрытой дверью мамы и тети Адели.
Начали упаковывать вещи, их оказалось много – накопилось за 8 лет и мебели, и всякой домашней утвари. Дворник заколачивал ящики. Моя наивная мама думала взять с собой и пианино. Но постепенно выяснилось, что придется оставить не только его.
Хозяйственные люди посоветовали маме заготовить и везти продукты. Вялилось мясо, заказывалась соленая рыба и как-то по-особенному, в огромном чугуне в русской печи, варился мясной бульон до образования очень твердого куска, похожего на столярный клей.
И вот в конце лета настал день отъезда. Было пыльно и жарко. Вещи погрузили на ломовую телегу, в нашем распоряжении были два извозчика. Вокзал в Красноярске располагался тогда в пяти верстах от города. С нами уезжала и няня Зося.
Дорога от Красноярска до Питера почти совсем не запомнилась. Помню только, что вагон, в котором мы ехали, был мягкий. Моя непоседливость и тут доставила много хлопот: на меня опрокинулся чайник с кипятком. Я не помню боли, но в памяти осталась плачущая тетя Аделя, а на бедре – след от ожога.
В Питере меня поразил огромный дом в самом конце Каменноостровского проспекта (потом Кировского), в котором нам предстояло жить.
Когда я взрослой побывала там, то «огромный» дом оказался обыкновенным, в несколько квартир, дорогим доходным домом, каких много строили в начале XX века в Петербурге.
Квартира наша была большая, кажется, на первом этаже. Меня с братом выпускали только в чахлый палисадник перед окнами, дальше нам ходу не было, да и не тянуло – страшновато было после нашего двора на Узенькой. Квартиру снял для нас отец. Сам он в это время жил где-то в другом месте. Для нас, детей, особенным было то, что папа только навещал, а не жил с нами. Глобальные же события (было начало осени семнадцатого) проходили мимо нашего понимания.
Чем короче становились дни, тем сильнее было волнение взрослых: мамы, тети и няни Зоей. Отца мы видели теперь редко. Вскоре нас совсем перестали выпускать из дому. Брата почему-то не устраивали в гимназию, а было ему десять лет, и он уже два года проучился в Красноярске. Очевидно, брату было поручено меня опекать, он пытался читать какие-то польские сказки, однако меня это мало занимало, и мы подолгу торчали у окон. Но через какое-то время и это запретили.
На улице иногда возникало движение, не то, к которому мы постепенно привыкли, а какое-то особое: то большая, шумная толпа, то строем проходили военные, то с грохотом проезжали какие-то огромные повозки. Иногда мы слышали, как далеко что-то гремело, и тогда взрослые начинали метаться по комнатам, как испуганные птицы. А мне делалось страшно за папу, казалось, что ему угрожает опасность. Особенно жутко было, когда гасло электричество, которое мы, увидев впервые, восприняли как чудо.
Осень наступила сырая и ветреная, в квартире было холодно, нас подводило еще одно «чудо» – паровое отопление, которое часто бездействовало.
Живя в замкнутом мирке под командованием трех растерянных женщин, мы и не подозревали, какие великие перемены готовятся в мире и свидетелями каких событий мы окажемся.
В магазины, когда они были открыты, и вообще в город никто из наших женщин не ходил. Отец сказал, что из-за сильного польского акцента, не разобравшись, их могут принять за немок, и тогда – беда. Ходила за покупками дворничиха, очевидно, диктуя свои условия за услуги. Даже мы, дети, понимали, как трепетала перед ней мать.
Однажды вечером появился отец – похудевший, какой-то непривычно мятый, с красными глазами. О чем-то строго говорил, взрослые послушно кивали. Нам также непривычно сурово приказал слушаться маму. После этого мы увидели его очень нескоро.
Тут началось нечто непонятное, страшное, но весьма интересное. Даже мы, особенно брат, понимали, что на улице стреляют. Когда брали Зимний и стреляла «Аврора», нас пустила в подвал все та же «благодетельница» – дворничиха.
Очень смутно в памяти мелькают обрывки тех исторических дней. Ничего я, конечно, не понимала: почему кто-то радуется, а кто-то подавлен, растерян и очень сердит. Очевидно, в нашем доме жили и «буржуи», как их тогда называли. Кто-то уезжал, кого-то выселяли. Все это мы с братом наблюдали, стоя у окон.
Иногда мама, тепло одевшись, уходила поздно вечером. Мы, конечно, поднимали рев, хотя тетя Аделя и пыталась растолковать нам, что это дежурство у дома. А мне слово «дежурство» было непонятно, и от этого становилось еще страшней.
Когда выпал снег и стало морозно, внезапно приехал отец в какой-то странной пролетке, запряженной парой лошадей, с кучером-солдатом. Радости было много. Ведь мы так долго ничего о нем не знали! Побыл он не более часа. Все что-то объяснял маме, давая ей какие-то бумаги. Эти бумаги потом магически действовали на нашу «благодетельницу», которая из суровой и величественной стала ласковой и угодливой, даже со мной и братом. Про бумаги я помню потому, что все время висела на отце, а брат только подходил и прислонялся к нему. Отца это волновало. Став взрослой, я всегда знала, когда он был взволнован, – он снимал и протирал очки куском замши или отдельным носовым платком (отец был очень близорук). Еще тогда я запомнила и очки, и замшу. Уезжая, он обещал в следующий раз взять меня с собой, уж очень я, наверное, ревела.
Зима мне запомнилась холодом в доме и отсутствием вкусного. Мы потихоньку доедали взятое из Сибири вяленое, соленое и «пареное», похожее на столярный клей.
Иногда, после таинственных бесед мамы все с той же «благодетельницей», у нас появлялись картошка и капуста, кажется, все подмороженное.
На улицу нас все еще не пускали, было там как-то сумбурно-шумно, бегали мальчишки с газетами, что-то выкрикивая, маршировали какие-то люди, и не только военные. И ночи были не тихие – часто проезжали машины, иногда стреляли, кто-то кричал.
События происходили и в нашем «каменном гнезде».
Бедная, напуганная всем происходящим наша тетя Аделя мечтала об отъезде в Польшу, наивно думая, что уж там-то, дома, все тихо, а не так, как у этих русских. Каким образом это произошло – не знаю, но старшая (на 18 лет старше) мамина сестра тетя Маня, которая присылала нам деньги в Сибирь, оказалась в Питере. Из более поздних рассказов взрослых я знала, что тетя Маня снимала квартиру в Петербурге и в Париже, а постоянно жила в Варшаве. Вдовела она дважды и каждый раз оставалась единственной наследницей своих богатых мужей. Были у нее какие-то коммерческие дела, и, наверное, приехала она в Питер собирать остатки своего национализированного капитала и, конечно, рассчитывала увидеть маму и всех нас.
Моего брата тетя Маня знала маленьким, до отъезда в Сибирь, а меня и вовсе никогда не видела. Как происходила наша встреча в Петрограде – мне трудно сказать. Помню, что мама, брат и я пришли в нарядную квартиру, где царил страшный беспорядок. Нас встретила полная, как мне тогда казалось, старуха, с очень толстой косой до колен (так она ходила дома). Рядом с ней стояла на немыслимо кривых и коротких лапках маленькая коричневая такса. Я и брат таких собак никогда не видели и смотрели на нее недоуменно, вспоминая нашего великана Цезаря, а такса деликатно обнюхивала нас и тоже, наверное, удивлялась.
Вместе с маминой сестрой Марией Иосифовной и уехали к себе на родину наши добрые тетя Аделя и няня Зося. Помню обильные слезы при расставании, и не зря: больше мы никогда не виделись.
Стало в нашей большой холодной квартире совсем неуютно. Мама часто уходила из дома, ведь на ней теперь лежало все: и добывание скудных продуктов по карточкам, и обмен вещей на крупу, постное масло и керосин (дров для плиты не было, и появилась керосинка). Мы оставались одни в полутемной квартире, и нам было страшно.
Где-то в начале января 1918 года опять приехал отец, на этот раз на «автомобиле», как говорили тогда. В то время должность и служебное положение моего отца были мне, естественно, неизвестны. Только много лет спустя из воспоминаний Анатолия Васильевича Луначарского я узнала, что летом 1917 года – в сложное для большевиков время – отец вошел в городскую думу Петрограда. Вот как писал об этом Луначарский:
«В конце концов Управа была избрана приблизительно пропорционально от всех партий, и мы как для нашей пропаганды, так отчасти даже для хозяйственной и культурной работы в городе приобрели серьезные возможности.
В Управу от нас вошли я в качестве товарища городского головы и товарищи Кобозев и Пилявский в качестве членов Управы…»[1].
Отец был худой, печальный и о чем-то долго разговаривал с мамой. Пробыл он у нас дольше обычного, что-то ел и пил чай. Вечером, когда отец собрался уезжать, я устроила скандал, наверное, ревела благим матом, требуя выполнения обещания взять меня с собой. Потом мама мне говорила, что я вела себя неприлично, «не как воспитанный ребенок». Но ведь он обещал!
И вот, одетая в несколько одежек, сижу первый раз в жизни в автомобиле. Он гремит, чихает, но мы едем.
В памяти остались огромный мост, у которого нас остановил, как я поняла гораздо позднее, патруль, матрос в бушлате, перекрещенный пулеметными лентами и с большим пистолетом, солдат с винтовкой и еще какой-то человек в кожаной куртке, тоже с пистолетом. Отец показал им какую-то бумагу, они откозыряли, и мы двинулись дальше.
В дороге нам повстречалась свадьба: карета, запряженная парой лошадей, невеста в фате, веселые вскрики. Свадьба проехала, а вот каких-то людей на нашем пути стаскивали с пролетки и куда-то уводили.
Мы ехали по набережной Невы. Исаакиевский собор испугал меня – ничего подобного я не видела.
Вскоре мы подъехали к очень большому дому с какой-то странной дверью. Это была гостиница «Астория». Широкая круглая лестница с ковром. В вестибюле много людей – и в штатском, и военных. Шумно.
Когда мы с папой поднимались по этой диковинной лестнице, навстречу нам сверху стремительно спускался полный человек с пышной шевелюрой. Увидев отца, он быстро сказал: «Товарищ Пилявский, у вас деньги есть?» – «У меня нет, простите», – смущенно ответил отец. Когда человек, махнув рукой, побежал дальше вниз, отец сказал: «Это Зиновьев», – хотя мне было абсолютно все равно.
И вот мы на третьем этаже, на овальной площадке перед бездействующим лифтом. Напротив лифта двустворчатая дверь с номером над ней, а справа от нее дверь поуже, тоже с цифрой.
Мы вошли. Двухкомнатный номер. В спальне на кровати сидела Елена Смиттен, я ее не сразу узнала. Серая, отечная, с опухшими ногами, а руки худые. Она, наверное, удивилась, увидев меня, но встретила ласково. Отец что-то быстро ей говорил. Я поняла, что он торопится: он даже не снял пальто, а был уже поздний вечер, и ушел.
Тут было теплее, чем у нас, но свет тоже какой-то тусклый. И всюду бархат, шелк, дорогая мебель…
У постели Лены (так мы ее привыкли называть еще в Красноярске), на тумбочке с мраморным верхом, стояло что-то круглое на ножках. Она сказала: «Сейчас мы с тобой будем варить кашу». По ее указанию я достала с полки большого шкафа кастрюльку и пакет с какой-то серой мукой. «Пойди в ванную и налей полкастрюли воды».
Когда я вернулась с водой, «что-то круглое» на тумбочке стало розовым – это была впервые мной увиденная электроплитка. Бесконечно долго варили мы эту «кашу», забыв посолить. Мне очень хотелось спать и вовсе не хотелось каши, а Лена ела и хвалила. Была она тихая, какая-то виноватая и, конечно, очень больная. Меня она уложила на папину кровать, и я моментально провалилась в сон.
Утром, еще при электричестве, меня разбудил папа. Он был уже одет и выбрит. Лена повела меня в ванную и помогла умыться и одеться. Каждое движение давалось ей с трудом. Отец нас поторапливал и сказал, что завтракать мы будем у Зоей, то есть у моей мамы.
Мы очень долго спускались по лестнице – Лене было трудно. В руках отца был небольшой чемодан. Прошли через потрясшую меня вертушку и зеркальную дверь.
На улице было еще не совсем светло. Обратный путь на том же автомобиле я как-то смутно помню.
Приехав к нам, сразу стали завтракать; очевидно, мама знала о нашем приезде и постаралась накормить прилично. Потом они втроем ушли в бывшую тетину комнату и оставались там довольно долго, а я хвасталась брату всем увиденным, но он меня слушал рассеянно.
Наконец мама и отец вышли из комнаты, а Лена осталась там. Отец крепко поцеловал брата и меня. И очень низко склонился, целуя мамину руку.
Елена Смиттен – вторая жена отца – осталась жить у нас.
Оказывается, узнав, что Лена тяжело больна, беременна, лишена элементарного ухода и лекарств в этой роскошной «Астории», где было устроено подобие общежития, наша непрактичная, в чем-то наивная, плохо приспособленная к тогдашней очень трудной повседневности мама нашла единственно правильный выход: она просто приказала привезти Лену к нам, и отец подчинился.
Лена жила с нами до середины марта, и мама поставила ее на ноги. Как и чем она ее лечила в те трудные дни, я не знаю.
Только став взрослой, я поняла всю сложность взаимоотношений моих родителей в то время. Поступок матери для меня – высшее проявление духовности и нравственного начала. Я бесконечно благодарна моим родителям за то, что они сумели уберечь нас, детей, от непонятных нам тогда драматических жизненных поворотов в их судьбе и воспитали в абсолютном уважении, любви и преданности: мама – по отношению к отцу, а он – по отношению к маме.
…Зимой 1918 года случилось событие, оценить которое я смогла много позднее.
В Мариинском театре давали оперу «Борис Годунов» с Шаляпиным. (Меня, наверное, не с кем было оставить и пришлось взять в театр.) В обрывках памяти роскошный голубой с золотом огромный зрительный зал. Масса звуков. На сцене актеры, а зал полон плохо, по-зимнему одетыми людьми. Мы сидели в ложе вместе с Крестинскими – Николаем Николаевичем и его женой Верой Моисеевной. Дядя Коля, как я его называла, был очень дружен с отцом, они учились вместе в гимназии и потом в Петербургском университете. Он тоже окончил юридический факультет. Николай Николаевич Крестинский был человеком необыкновенного, ума, образованности, высочайшей принципиальности и беззаветной преданности делу партии. Он тоже был выходцем из дворянской семьи и в детстве так же, как и мой отец, изучал европейские языки. Но если отец хорошо знал, кроме польского и русского, французский и несколько хуже – немецкий, то Крестинский в совершенстве владел тремя европейскими языками, при обязательном знании (для них обоих) латыни и греческого.
Крестинские были люди бесконечно добрые, обожающие друг друга, очень любили детей. История их женитьбы не совсем обычна. Родители Веры Моисеевны, будучи евреями, не разрешали дочери перейти в православие. А без этого венчание с русским было невозможно. Поэтому Крестинские не могли иметь детей, так как дети считались бы незаконнорожденными. Тетю Веру фанатики родители прокляли, когда она ушла из дому. Только в девятнадцатом или в начале двадцатого года у них родилась дочь Наташа.
…Но вернусь в оперу. Очевидно, я сначала вела себя прилично, а вот во время сцены кошмара, когда Шаляпин – Борис (я помню его пятящуюся фигуру с протянутыми вперед руками) молил: «Не я, не я твой лиходей», – я заорала, и мама, зажав мне рот, вытащила меня в аванложу, где я долго еще ревела. Всю жизнь меня этим попрекали, кто в шутку, а мама – совершенно серьезно.
Как известно, Совнарком под председательством Ленина принял решение объявить столицей Москву, и в конце марта 1918 года из Петрограда в Москву переехало правительство – весь аппарат и семьи ответственных работников.
Я и тут оказалась причиной многих сложностей и пережитых страхов. В конце марта я заболела сыпным тифом. Благодаря маминым усилиям никто не заразился, но переезд наш в Москву был отложен на неопределенный срок. Мы трое остались в Питере.
Уже наступило лето, есть было нечего. Я отлично помню постоянное ощущение голода, хотя мама и брат отказывали себе во всем ради меня. Еду тогда можно было получить только в обмен на вещи, и в короткое время наше имущество сильно истощилось, не говоря уж о маминых «фамильных драгоценностях».
Где-то в середине или в конце лета мы стали собираться в дорогу. Мама начала укладывать вещи, брат ей помогал, и почему-то все ее успокаивали. Я же, ничего не понимая, радовалась, что мы едем в Москву к папе.
Ехать в то время с двумя детьми, с багажом, даже имея при себе соответствующие документы, было очень рискованно. Вся дорога от Петрограда до Москвы кишела бандами. Поезда останавливали, пассажиров обыскивали, а кого-то и в поле уводили. Поезда брались с бою мешочниками и всякого рода «смятенными» людьми. Один хороший, добрый человек по просьбе отца помогал нам. Если бы не он, мы бы не уехали.
Отъезд с Каменноостровского я помню. Мы ехали на ломовом извозчике через весь город. По-настоящему страшно стало на вокзале – это я могу сравнить только с эвакуацией в 1941 году. Наш покровитель и еще какой-то человек тащили наши пожитки, а мы, мертвой хваткой держась друг за друга и за маму, почти бежали к какому-то служебному вагону. Устроили нас в коридоре у закрытого выхода из вагона, где находился проводник. В считаные минуты вагон оказался забитым до отказа. Провожавший давал маме указания, как вести себя в дороге и во всем слушаться проводника. Мама покорно кивала.
Брата и меня усадили на корзину, где мы и замерли в обнимку с портпледом, на другой корзине – мама. Все мы держали в руках какие-то свертки, бидоны, а я – еще и плетеную корзиночку для гимназических завтраков (были такие в старину).
Наш покровитель ушел, вернее, протиснулся в чуть приоткрытую проводником дверь в тамбур и исчез. Долго мы сидели оглушенные и молча ждали, когда тронется поезд. Очевидно, я заснула.
Когда я очнулась, поезд шел, было почти темно, мама и брат дремали. Помню, что мне было страшно от массы людей, от храпа (я никогда не слышала, как храпят), от вони и еще оттого, что мама строго-настрого приказала молчать.
Мы то ехали, то подолгу стояли. Сколько так продолжалось – не знаю. Казалось, что бесконечно. Вдруг в вагоне начались шепоты, переговоры – что-то тревожное. Оказывается, наш поезд шел не прямо в Москву, а на Великие Луки (это все я узнала много позже). И чем дальше шел, тем быстрее. С разгону въехали на какой-то полустанок. Проводник что-то шепнул маме, она схватилась за нас и за мелкий наш скарб, а он стал выталкивать багаж на платформу. Мы выскочили. Поезд ушел. Какие-то люди с поезда, было их довольно много, разбредались куда-то, а мы трое, сидя на корзинах, опять замерли от неожиданности и страха.
Высадили нас в заштатном городке Торопец и тем спасли. Оказалось, что впереди какая-то банда, перекрыв пути на Великие Луки, грабила и убивала.
Каким-то образом мы оказались в доме за высоким забором с массивными воротами. Дом этот принадлежал довольно богатой еврейской семье. Не знаю почему, но они приютили нас. Жили мы в комнате, больше похожей на склад ненужной мебели. Спали на наших больших корзинах, почти не распаковывая, все ждали – вот-вот поедем в Москву. Но прожили там до холодов.
Вспоминаются обрывки каких-то страшных рассказов о том, как на центральной площади, в традиционном для таких городков сквере, находили трупы изувеченных красноармейцев с вырезанными на спине звездами. Это значило, что в очередной раз сменилась власть. У хозяина нашего дома были в запасе разные флаги, и он по утрам лазил на чердак смотреть в слуховое окно, какой вывешивать. Говорили также, что были погромы, но наших хозяев не тронули.
Только много лет спустя я поняла, сколько же страхов пережила мама за время жизни в Торопце – в ее красивых темных волосах от висков протянулись белые пряди.
…Стояла уже зима, когда однажды ночью послышался очень сильный стук в ворота. Все вскочили, мы тоже. Открывать пошел хозяин. Какие-то громкие голоса, что говорят – не понять, но вдруг прозвучала наша фамилия: «Здесь Пилявская?» Мама толкнула брата и меня себе за спину и держала очень крепко, а руки у нее тряслись – это я хорошо помню.
Вошли двое, кажется, военных, что-то спросили, но мне помнится, что мама не ответила, у нее, наверное, пропал голос. Еще какая-то фраза, как будто доброжелательная, и громко за дверь: «Сюда несите!» И вот в нашу заставленную всякой рухлядью комнатку внесли завернутого с головой человека. Осторожно положили на пол, еще что-то говорили, а мы трое все так же стояли. Потом они ушли, тихо закрыв за собой дверь.
Мама оторвалась от нас и, встав на колени, начала разворачивать голову лежащего. Очень белый, неподвижный, перед нами был отец. Мама какие-то секунды была как каменная, потом начала хрипло что-то говорить и вдруг очень проворно стала снимать с отца пальто, шапку… Брат ей помогал, стаскивал бурки, расстегивал френч. Мокрое полотенце – на сердце и на голову, чем-то терли виски, что-то давали нюхать. Это был глубокий обморок (у отца находили порок сердца).
И вот он пошевелился, открыл глаза и стал нас близоруко рассматривать (очки оказались под шапкой) и даже потрогал каждого рукой. Тут мама, привалясь к чему-то спиной, запрокинув голову, не то заскулила, не то застонала, но очень коротко. Потом мы все вместе старались как можно удобнее уложить отца, он подчинялся и что-то ласковое говорил.
Постучали в дверь, и наш хозяин протянул кружку с теплым молоком. Это был щедрый по тем временам подарок. Мы опять все вместе заставили отца выпить молоко. От всего пережитого брата и меня быстро сморило, а родители долго тихонько разговаривали.
Сегодня даже трудно поверить, как тяжело и опасно было отцу добираться до нас из Москвы в то далекое время – в начале девятнадцатого года, когда Москва и Петроград были в кольце, когда поезда почти не ходили. Отец даже не знал, живы ли мы. И вот наконец он едва добрался до Торопца, обнаружил, что мы здесь, – и у него начался сердечный приступ.
Наутро мы стали торопливо собираться в дорогу, часть скарба пришлось оставить, так как те же военные, которые привезли отца к нам, все подгоняли и что-то доказывали маме, а она покорно соглашалась. Отец был явно нездоров – нервное и физическое истощение очень изменило его внешне. Помню, что ему не разрешали ничего нести.
В Москве, на вокзале, нас протащили через людской водоворот, и мы долго сидели в каком-то служебном помещении и ждали отца. Нам с братом хотелось есть. Впрочем, в то время почти всегда хотелось есть.
После заштатного Торопца ошеломила вокзальная площадь, тогда она называлась Каланчевской или просто Каланчевкой. Море людей, невероятный гам, все это колыхалось, пробиваясь куда-то. Проехать на любом транспорте было непросто – никаких правил движения. Трамваи не ходили.
Наша дорога была недолгой. Отец привез нас на Новую Басманную (номер дома не помню). Парадная дверь заколочена. Поднялись на второй этаж со двора по черной лестнице, прошли через холодную кухню с большой плитой, через какие-то коридоры и оказались в огромной комнате, обитой красным штофом, с роскошной мебелью, обитой таким же штофом. Великолепие комнаты ослепляло, но было очень холодно.
Отец уехал: он с Еленой Густавовной и грудной дочкой – моей сестрой Наташей – жил в Кремле, в кельях Чудова монастыря.
Долгожданная Москва не показалась нам ласковой. Наша пурпурная ледяная комната была частью когда-то богатой квартиры, а теперь густонаселенной коммуналки. В кухне стояло несколько примусов и керосинок, на них готовили жильцы, которые не всегда жили дружно. Мама запрещала нам даже высовываться из двери нашего жилища. Теперь я понимаю, что она и сама всего боялась. Отец нам, правда, сказал, что это жилье временное, надо потерпеть.
У нас появилась «буржуйка» – маленькая железная печурка с трубой, выведенной в форточку. «Буржуйка» крепилась на железном листе, попросту прибитом большими гвоздями к великолепному паркету. Все это «сконструировал» очень мрачный человек, сам предложивший свои услуги. Он же предложил подкупать у него «дрова» (по одному полену), наструганные в щепки. Стоило это все очень недешево.
Мама пошла работать руководительницей детской группы, которая помещалась во 2-м Доме Советов, то есть в гостинице «Метрополь» на Театральной площади. Это давало ей обед и жалованье. Деньги, свернутые в рулончик, были похожи на трамвайные билеты – цифры астрономические, но купить на них можно было очень мало. (Чайное блюдце пшенной размазни в «обжорном» ряду под Каланчевским мостом стоило не то 4 тысячи, не то 40 тысяч.)
Каждое утро, еще затемно, мама уходила на службу, а мы с братом к двум часам дня, держась за руки, шли с Новой Басманной пешком в «Метрополь», к маме, за этим самым обедом и за хлебным пайком – его давали там же. Придя домой, мы на «буржуйке» грели суп, а кашу ели холодной. Вот так одним обедом мы питались втроем.
Под суп мы приспособили нарядную жестяную банку на два фунта с дужкой, как у ведерка (от конфет «ландрин» фирмы «Жорж Борман»), а на ее крышке был портрет Наполеона в треуголке. Как-то, уже в конце зимы, «Наполеон» подвел нас: дно прохудилось, и мы остались голодными. Конечно, не обошлось без рева.
По воскресеньям – вначале с мамой, а потом и одни – мы ходили под Каланчевский мост, где рядами сидели сытые спекулянтки, торгующие жидкой пшенной кашей и другими мало доступными нам блюдами. «Товар» они держали в ведрах, укутанных в обрывки старых одеял, и нередко сами сидели сверху. Мама выдавала довольно длинную ленту денег брату, каждому из нас по чайной ложке и одно блюдце на двоих. Стоя мы съедали точно поровну кашу, вычистив блюдце до блеска.
В нашем роскошном жилище по утрам было от –2° до +1°. На штофных стенах появлялась изморозь. Я часто простужалась. Однажды я, голодная и замерзшая, нарушила запрет и выползла из нашей комнаты. И запах – одуряющий, горячий, вкусный – повел меня в кухню. Там на столе в какой-то большой миске высилась гора жареных пирожков.
Я понимала, что это чужое, но их было так много! И я, схватив один, стала его судорожно заглатывать, почти не жуя. И тут случилось ужасное: в дверях кухни я увидела тетку, разгневанную, красную, она надвигалась на меня с криком: «Ах ты поганка, отродье!..» и т. п. В первую минуту я остолбенела, потом, петляя, как заяц, кинулась бежать, а мне вслед неслись жуткие вопли. Когда я вбежала в комнату и захлопнула дверь, на меня напала икота. Реветь громко я боялась и, забившись куда-то, просидела до прихода брата, принесшего обед, но есть я не могла.
После кражи пирожка прошло несколько часов. Соседка-торговка, успев за это время распродать свой товар, вернулась домой и, дождавшись прихода мамы, начала срамить меня с удвоенной яростью. Ошарашенная мама вначале ничего не поняла, а потом начала совать ей деньги, а та сперва не брала, продолжая орать так, что в приоткрытые двери высовывались головы других жильцов, но никто не вмешался. Наконец, утомившись и взяв у мамы «тысячи», она величественно удалилась. Уже в комнате мама, плача навзрыд, все твердила: «Как ты могла!» А брат трясся, как в ознобе, и повторял: «Ты же заплатила!»
Этот свой позор я и сейчас помню во всех подробностях.
Теперь я понимаю, что мое воровство ускорило наш отъезд с Новой Басманной. Случилось так, что Авель Сафронович Енукидзе узнал, в каких условиях мы живем (а был он в ту пору секретарем ВЦИКа), и через кого-то из своих порученцев передал маме ордер на комнату во 2-м Доме Советов. Он же обеспечил какой-то транспорт и человека для помощи при переезде. Только много позднее я узнала, что между отцом и Авелем Сафроновичем произошел не совсем дружеский разговор о мере щепетильности и скромности.
До этого ни брат, ни я гостиницы «Метрополь» не видели: мы приходили к маме со двора, позади самого здания, где был вход в квартиры и занимались детские группы. И вот наши пожитки несут через главный вход в роскошный вестибюль гостиницы «Метрополь». Поднимают на второй этаж и открывают дверь под номером 219. Сказка! Одноместный, но большой номер с альковом, стеклянная дверь на балкон, откуда открывается вид на сквер с фонтаном (теперь там памятник Карлу Марксу).
Обстановка номера выдержана в серо-фисташковых тонах, бархатные портьеры и ковер того же оттенка. И только лампочка в люстре одна и горит вполнакала. Но зато есть ванная, как теперь пишут – «совмещенный санузел», из крана течет вода и батареи теплые. И не надо далеко ходить за обедом, а можно тут же, в ресторане, в помещении, отгороженном для «раздаточной», получить этот обед в свою посуду.
В том далеком девятнадцатом в нашей жизни часто сочетались приметы времени, явно несовместимые: например, часть «Метрополя» еще служила гостиницей для иностранцев и каких-то богато одетых людей, говоривших по-русски, а другая часть – и в том числе наш второй этаж, со скатанным в конце коридора ковром, с боковыми лестницами, одна из которых вела на общественную кухню с огромной плитой и с титаном для кипятка, – называлась 2-й Дом Советов.
Наш номер стараниями мамы очень скоро стал даже уютным. Корзины мама как-то задрапировала сибирским покрывалом, на письменном столе было все необходимое.
Небольшой овальный обеденный стол покрывала скатерть, а на ночном столике у кровати появились фотографии родных. И не было «буржуйки» с дымом и с хлопьями сажи из трубы. Брат спал на диване, а я с мамой.
Мы с братом пребывали в состоянии тихого блаженства, но вскоре, осмелев, стали проситься в коридор обследовать этот сказочный дом. Мама говорила примерно так: «Если вы будете вести себя, как благовоспитанные дети, то, может быть, и можно, но я боюсь, что вы доставите неприятности Авелю Сафроновичу и папе!» Мы, конечно, клялись, что никогда!
Мама, как и раньше, уходила на работу в детскую группу, а мы вначале робко, а потом осмелев, а главное – познакомившись с такими же «жильцами», как мы, носились по широким коридорам, играли в прятки, забываясь иногда до того, что появлялся какой-нибудь бывший коридорный и начинал усовещивать. «Граждане дети, надо быть потише. Ведь это что ж такое!»
…Много лет спустя, когда нам с мужем доводилось бывать на приемах ВОКСа (они часто устраивались в «Метрополе»), мне всегда виделось: бойкий человек с черпаком в руках стоит ногами на бархатном диванчике, окружающем колонну с большой хрустальной люстрой, и покрикивает: «Ну, шевелись, а ну дружно!» И шлепает кашу в подставленные миски, тарелки и банки. А на соседнем бархатном диванчике так же разливают суп.
В начале зимы девятнадцатого года на семейном совете было решено определить меня в так называемую лесную школу для начинающих. Помещалась она под Москвой, на станции Мамонтовская. Это, наверное, была первая в новой стране попытка как-то начать учить и воспитывать детей, которые оставались без присмотра дома или вовсе этого дома не имели.
Я не без рева подчинилась, и мама повезла меня в Мамонтовку. Мы довольно долго шли от станции, мама несла небольшой баульчик с моими пожитками, а я – красный мешочек, сшитый из наволочки с диванной подушки (очевидно, в нем хранилось самое мое драгоценное, что – не помню).
Дошли мы до места. Это была большая, выстроенная под «модерн», деревянная дача в один этаж, с застекленными террасами и со шпилем на шатровой крыше. В ней было несколько комнат, где тесно в ряд стояли железные кровати с тощими тюфяками, жидкими одеялами и плоскими подушками.
Заведовали этой лесной школой две суровые женщины. Были еще сторож и повариха. Все они, а главное – много стриженных почти наголо девочек, одетых кто во что, вышли поглядеть на новенькую. Я закаменела от страха, особенно когда в адрес мамы послышались не помню какие, но явно нелестные слова о барстве. Мама была в потертом, еще сибирском пальто из жеребенка с котиковым воротником и в такой же шапке. Когда мама заговорила, ее польский акцент был встречен смехом.
Одна из руководительниц, взяв у мамы направление, провела нас в комнату и указала на кровать у окна, сказав, что пальто можно оставлять на кровати, потому что ночью холодно.
Дни тогда стояли короткие, маме надо было уезжать до темна. Она шептала мне по-польски ласковые слова о том, какая я хорошая и терпеливая, что надо слушаться и что она обязательно приедет в воскресенье. И я осталась одна.
Когда, немного проводив маму, я вернулась в комнату, в моем бауле уже хозяйничали девочки постарше меня. Они, со смехом вытаскивая мои пожитки и разбрасывая их, кричали: «Подбирай, буржуйка!» Подбирать я не смела и, сидя на краешке кровати в пальтишке брата, которое было явно мне велико, вертела головой, в страхе разглядывая моих товарок.
Стало быстро темнеть. Мне было жутко и очень тоскливо. Одна из девочек спросила: «Какая твоя фамилья?» Я ответила: «Зося Пилявская». И тут же, пошептавшись, они стали выкрикивать: «Пиявка, пиявка, Зыза!» Хорошо, что я не заревела…
Когда позвали ужинать, я поплелась за всеми. Опять пошептавшись, две девочки, подойдя ко мне с двух сторон, быстро проговорили: «Будешь жаловаться – ночью обольем водой».
В большой комнате с линейной керосиновой лампой (электричества в доме не было) стояли два длинных стола со скамейками по обе стороны. Давали кашу-размазню в оловянных мисках с такими же ложками и кружку морковного чая.
Меня посадили с краю. Сидевшая рядом шепнула: «Оставишь полкаши». Я оставила. Я очень их боялась.
Сразу после еды погнали спать. Сколько времени?.. Пока мы укладывались, горели две коптилки, потом их унесли и наступил мрак. Из окна дуло. Хорошо, что я не расставалась со своим мешком. Сунув туда шапку, я положила его под голову. Пододеяльников не было, от одеяла шел чужой запах. Я втянула пальтишко под одеяло и затаилась.
Девочки громким шепотом переговаривались. Я услышала «Зыза» и еще что-то, но не откликнулась. В эту ночь мой мешок был мокрым от слез, но даже шмыгать носом я не смела.
Утром, в темноте, опять с коптилками появилась воспитательница и зычно скомандовала: «Вставать!» Вставали неохотно, тихо переругивались, меня оставили в покое. Последовал приказ умываться, то есть сполоснуть лицо и руки под рукомойником. Из моего баула почти все исчезло, главное – кусочек мыла. Вытерлась я не помню чем, только не полотенцем. После завтрака – каша, такой же чай и кусочек клейкого хлеба – был приказ одеваться на прогулку. Ко мне подошла одна из начальниц и спросила, почему я опухла и красная (а я просто обревелась ночью). Меня как больную отослали лежать. Никто мной не интересовался. Мои товарки носились с криками по саду.
Эти девочки, наверное, не были злыми, наверное, в их коротеньких биографиях было много трудного, они уже притерлись друг к другу в этой школе, а я им была чужая.
Пока я лежала, у меня созрел план бегства: я решила терпеть до приезда мамы, а когда она пойдет обратно, потихоньку идти за ней и обнаружить себя только на станции. Убежать другим путем не было возможности. Денег на билет не было, да и в какую сторону ехать к дому, я тоже не знала. После того как я утвердилась в своем решении, я даже немножко поспала.
Никто и ничему в этой школе не учил. Все болтались без занятий от еды до еды, а воспитательницы следили только за тем, чтобы не было побегов и серьезных драк. Вот и все воспитание. Меня по-прежнему звали Пиявкой и Зызой, но больше особенно не задирали. Наверное, они сочли меня очень глупой и от глупости – тихой.
И вот настало воскресенье. Я с утра маячила на террасе, потом около дома и наконец увидела маму. На этот раз вместо шапки на ней был платок. Мы не сразу пошли в дом. Мама все расспрашивала, как приняли меня девочки, как проходят уроки и еще о чем-то… Я что-то врала, должно быть, довольно складно, так как мама мне верила. Она привезла мне что-то по тем временам лакомое, кажется, лепешки. Мы сидели на дровах за террасой, и я поедала мамины гостинцы, а оставшиеся спрятала в мешок – он всегда был при мне. Мое расставание с мамой было до того спокойным, что она даже удивленно взглядывала на меня.
Было еще светло, когда я с разрешения одной из начальниц пошла провожать маму. Через какое-то время мама стала говорить, что пора мне возвращаться. Мы обнялись, и она пошла, все оглядываясь. Тогда я тоже вроде бы пошла обратно, но, когда мама завернула за угол, я короткими перебежками последовала за ней. Так было до самого вагона, где я возникла перед ней со своим мешком.
Когда мама меня увидела, лицо у нее стало испуганное, потому что я сразу заревела во всю мочь и, захлебываясь слезами, стала рассказывать правду. Мама тоже заплакала, на нас стали обращать внимание, и она, пересадив меня к стенке и прижав к себе, стала шептать: «Мы до дому, мы до дому». Какое же было блаженство опять быть с мамой и ехать в Москву!
До «Метрополя» мы шли пешком. Там, в нашем чудном номере, меня долго мыли и вычесывали голову – для проверки. Брат, помогая маме, приговаривал что-то вроде: «Я так и знал».
Меня, счастливую, уложили в чистую мамину постель, и я блаженно провалилась в сон. Так окончилось мое короткое «обучение» в этой «школе».
После этого мама или брат, случалось, будили меня ночью, когда я кричала во сне.
Весну, лето и осень мы прожили в «Метрополе», досконально изучив все закоулки, коридоры и залы гостиницы. Сквер с фонтаном служил для всевозможных игр, а темная аллея у Китайгородской стены очень привлекала нас таинственностью и тем, что можно было подглядывать за влюбленными парами, а иногда удавалось и спугнуть кого-нибудь из них. Занятий в школах в то время не было из-за отсутствия то дров, то воды, а чаще света. Нам, детям, была предоставлена полная свобода.
…Было совсем тепло и зелено, когда отец повел нас с мамой к себе в гости в Кремль, в Чудов монастырь.
Кремль 1919 года был совсем не похож на нынешний – роскошный, парадный, начищенный до блеска, с массой цветов и голубых елей. Тогда, во-первых, оставалось еще много следов от перестрелок и атак семнадцатого года. Во-вторых, и до революции Кремль, видимо, не был сильно ухожен. Лежала на нем какая-то печать провинции.
Чугунная решетка, которая шла от Боровицких ворот вдоль всей стены до Спасской башни, отделяла Дворцовую и Соборную площади от нижнего сада. В начале совсем невысокий, а к концу довольно крутой склон холма был покрыт разнопородным кустарником, редкими березками и другими деревцами. На верхней площади, где склон был особенно крут, стояла мраморная галерея, выстроенная покоем, а на ее потолке – большие круглые мозаичные портреты всех царей Романовых за триста лет. На широкой площадке, куда вело несколько ступеней, в центре галереи стоял бюст Петра Великого.
Сам дворец казался каким-то слинявшим, облупленным, двери соборов были чуть приоткрыты и закреплены толстыми цепями, оставляя лишь узкие щели. В Архангельский собор я могла просочиться только потому, что была очень тощей. Внутри было жутко из-за полутьмы, шуршания птичьих крыльев под куполом и суровых ликов со страшными глазами – мне казалось, что они смотрели прямо на меня.
Царь-колокол и Царь-пушка были на своих местах, а вдоль стены на гранитных подставках лежали пушечные стволы старинного литья разных калибров. Повсюду сквозь камень, гранит и чугун пробивались какие-то кусты и кустики. На первом высоком выступе колокольни «Иван Великий» росла довольно большая березка, а выше – еще одна. Брусчатка площади во многих местах зеленела травой.
Вход в Кремль был по пропускам. Скоро мне и брату выдали дневные – с 8 часов утра до 11 вечера – постоянные пропуска. Тогда в Кремль входили через Кутафью башню и по мосту через Троицкие ворота (на месте нынешних часов тогда еще оставалась икона). Направо от выхода из Троицкой башни – Потешный дворец (он и сейчас есть), а за ним начинались Детская половина дворца и Зимний сад, аркой переходящий ко дворцу.
Въезд был через Спасские ворота, Боровицкие были заперты, а ворота Никольской башни использовались только в дни парадов. Ни у Спасской башни, ни у Кутафьи не было тех многочисленных пристроек из красного кирпича, которые сегодня органично вписываются в древние стены.
Если идти по Кремлю от Спасской башни, то сразу по правую сторону были замысловатое готическое здание со стрельчатыми высокими окнами, значения которого я не знала, и еще одно большое строение, а за ним – ворота в Чудов монастырь. Весь монастырь с приземистой церковью, низкой колокольней, трапезными, кельями и кладбищем не занимал много места. Окруженный своей невысокой оградой, он где-то примыкал к стене самого Кремля.
Я сейчас не могу точно описать расположения келий из двух покоев, помню только, что двери и окна были низкими и очень массивными, потолки сводчатыми, а подоконники такой глубины, что я, лежа поперек, только руками могла дотянуться до рамы окна.
Когда мы пришли туда, где жил отец с семьей, все мое внимание сосредоточилось на сестренке. Ей не было года, ходить она еще не умела – быстро ползала по родительским кроватям. Поджав одну ножку, она все пыталась приподняться и шлепалась на попку, смешно гукая. Меня оставили следить, чтобы она не подползала к краю кровати. С ней можно было играть, как с куклой, она была, как теперь говорят, очень контактной, веселой и добродушной.
Радость и протест выражала одинаково – громким визгом. Мы сразу подружились, а потом я возила ее гулять в странной детской коляске, больше похожей на садовую тачку. Маленькая Наташа росла на искусственном питании, а в то суровое время это было сложно. Карточные пайки родители старались получать всякой крупой для детских каш. Обыкновенное молоко было тогда недоступной роскошью, а сгущенное выдавали по карточкам редко.
Всем в доме руководила чудесная, но очень строгая няня Аннушка, взятая буквально с улицы моим отцом для ухода за новорожденной Наташей. Прежние хозяева этой замечательной женщины эмигрировали, и она осталась «без места». В доме отца она прожила долго, до начала тридцатых годов. Наташа, а за ней и я называли ее Ня-Аня. Она была уже очень пожилой, когда захотела уехать «помирать» на родину, куда-то на Тамбовщину.
Аннушка тогда буквально выходила Наташу на этих скудных пайках, часто лишая взрослых, и в первую очередь себя, самого необходимого. Благодаря ей сестренка моя росла здоровой, даже излишне пухлой от этих самых каш. Для отца Ня-Аня была непререкаемым авторитетом, он очень был ей благодарен, а она, любя и уважая его, тем не менее учила жить «как люди», иногда сбиваясь на «барина», чем повергала отца в смятение.
В ту пору в Кремле, в Офицерском корпусе, доходившем до внутреннего дворцового двора (где стояла древняя каменная церквушка, обложенная поленницами березовых дров, чтобы не рухнула), на первом этаже была совнаркомовская столовая. Входить в нее надо было через парадное крыльцо под козырьком на витых чугунных столбиках. За первой дверью была такая же «вертушка», как в питерской «Астории», только меньше, а за ней на площадке стояло чучело медведя с подносом в лапах. Здесь был гардероб, а за ним выход во двор-садик. Дверь налево вела в столовую, где обедали ответственные работники. Это был и своеобразный клуб, где они могли видеться вне работы.
А обедали они так: ели суп, а какое-то «второе» укладывали в вынутую из портфелей плоскую тару, чтобы отнести домой. Еще им давали сухим пайком ужин: половину батона или французскую булку из серой муки и кусок колбасы или сыра. Столовая была открыта до вечера, обедали кто когда мог.
На втором этаже этого здания были квартиры. Все окна выходили на улицу, а на противоположной стороне, отделенные широким коридором с окнами во двор, размещались кухни с огромными дровяными плитами: одна – для столовой, другая – для жильцов.
В этом корпусе жили Авель Сафронович Енукидзе (один в двух комнатах), Стучки, Крестинские, Сольц, Бонч-Бруевичи, кто еще – сейчас не вспомню, кажется, Троцкий с женой и сыновьями и Каменев с женой.
Все, кроме Авеля Сафроновича и Сольца, были семейные. На коммунальной кухне весь день пекли из чего-то лепешки прямо на плите, что-то варили, одалживая друг у друга соль.
В здании Потешного дворца жили Луначарские, Цюрупа, остальных не помню. А на детской половине – Сталины, Ворошиловы и, кажется, Чичерин.
В кельях Чудова монастыря, где поселилось довольно много семей, телефонов, конечно, не было, и все срочные вызовы и распоряжения давались под расписку нарочным. Поэтому нам, детям, часто приходилось бегать в столовую к папам. И вот однажды, посланная Леной со срочной запиской к отцу, я помчалась в столовую. С разбегу влетела в «вертушку» и, выскочив из нее, попала кому-то головой в живот, получила шутливый подшлепник, что-то со смехом было сказано кем-то в ответ на мое «ой!» – и я вбежала в открытую дверь столовой. Пишу об этом так подробно потому, что человек этот был Владимир Ильич. Так в первый раз я даже не увидела его толком. Семья Ульяновых столовалась дома, а сюда его привело, наверное, какое-нибудь дело.
Мы прожили в «Метрополе» часть зимы девятнадцатого – двадцатого годов. По-прежнему брат и я нигде не учились, и я много времени проводила в Кремле с маленькой сестренкой. Мне даже доверяли гулять с ней. Обыкновенно я катала ее по тротуару, идущему от Троицких ворот, вдоль здания Арсенала, в сторону Никольской башни и обратно. Почему так подробно о маршруте – объясню потом.
Не помню точно, когда стало известно, что Чудов монастырь, а также готическое здание (то есть все постройки от Сената и до Спасской башни) будут сносить. Вначале работы происходили в монастыре, на погосте снимали надгробные кресты и ограды, а иногда вскрывали и захоронения. Однажды мне довелось издали, потому что такое место обычно было оцеплено и всех любопытных отгоняли, увидеть в изголовье гроба что-то очень блестящее, наверное из парчи, что-то еще сверкнуло; но все остальное меня так испугало, что я кинулась в дом рассказывать об этом Ня-Ане. Она вздыхала, крестилась и говорила о грехе. Когда за мной пришел брат, чтобы вести меня домой в «Метрополь», следов этих работ уже не было: это место сровняли.
Наверное, в феврале или в начале марта 1920 года мама сказала, что получила ордер на комнату, так как в «Метрополе» долго жить нельзя, а в этом доме мы будем жить постоянно. Она ходила с ордером смотреть комнату, ей все понравилось, хозяева квартиры очень милые люди, и у них есть дочка чуть старше меня.
Вскоре мы прощались с полюбившимся нам «Метрополем» и обитателями второго этажа.
И вот я опять сижу поверх багажа на повозке ломового извозчика (были такие в ту пору в Москве). Возили эти громоздкие повозки могучие лошади с мохнатыми ногами зимой на полозьях, летом в больших плоских телегах. Назывались эти лошади по-ученому – першероны, а попросту – ломовики.
Ехали мы через шумный Охотный ряд, мимо Иверской часовни, потом по Никитской в Шереметевский переулок (ныне улица Грановского), в дом № 3.
Почти все дома в этом переулке в прошлом были доходными домами Шереметева. Дом, в котором нам предстояло жить, был выстроен буквой «П», по центру был палисадник, куда выходило три подъезда, и на улицу тоже три. Этот дом и сейчас существует.
Оказывается, нами «уплотнили» семью известного солиста Большого театра Александра Владимировича Богдановича. С ним жили его жена, в прошлом замечательная певица Маргарита Георгиевна Гукова, и дочь Таня. Приняли они нас кротко-доброжелательно, очевидно, боялись худшего.
Квартира была большая, барская, в шесть комнат. Просторная передняя, направо кабинет хозяина, всюду на дверях тяжелые портьеры. Квартира тогда еще не походила на коммунальную.
Наша комната – большая, светлая, бывшая детская – находилась в конце довольно широкого коридора, около ванной. Мебели у нас, естественно, не было. Хозяева квартиры оставили в комнате стол и диван, а кровать, шкаф, несколько стульев и некрашеный комодик (он и сейчас у меня) были получены мамой тоже по какому-то ордеру. Для меня предназначалась папина походная, еще сибирская, кровать, которая хитроумно складывалась в размер небольшого длинного чемодана в брезентовом чехле; В комнатке около кухни жила прислуга Богдановичей – Ириша. Она приняла нас вначале очень сурово, но потом сменила гнев на милость.
Семья Богдановичей для меня очень дорога. Этой семье я обязана бесконечно и писать о них буду подробно.
Мне тогда было неполных 9 лет, и Таня сразу стала мной руководить. Вначале она водила меня по всей квартире, показала кухню, черный ход во двор и чудесно обставленные комнаты ее семьи. Года через два у них реквизировали и кабинет, и комнату рядом с нашей, а тогда даже наше вселение не портило общего впечатления, было только очень холодно – топились голландские печи, но редко, дров было мало, и стоили они очень дорого.
Для своей «резиденции» мы с Таней облюбовали большой стенной шкаф в коридоре, где хранились какие-то вещи. Там было теплее, а главное – таинственней. Я слушала, разинув рот, о балетах и операх, о всех чудесах театра, с которыми Таня была уже знакома.
Но вскоре мне предстояло еще одно испытание. Нас с братом определили в школу – его в бывшую мужскую Травниковскую гимназию, которая находилась в соседнем Кисловском переулке, а меня – во второй класс тоже бывшей женской Щепотьевской гимназии, где на класс старше училась Таня Богданович.
Здание этой школы со входом с Кисловского переулка боковым фасадом выходит на Воздвиженку. И сейчас оно напоминает мне о моем таком пестром событиями, но прекрасном детстве и ранней юности.
Мои страхи и волнения, связанные с поступлением в школу, слава Богу, не оправдались. Все мальчишки и девчонки были примерно моего возраста и тоже пришли, как и я, не зная школы. Было нас около сорока человек. В этой бывшей женской гимназии впервые появились мальчики – началось совместное обучение.
Раньше эта гимназия принадлежала трем сестрам Щепотьевым. Старшая была начальницей, ее мы уже не застали, а младшие сестры не только преподавали, но и по привычке учили манерам. Выпускницы старших классов еще ходили в форменных платьях с черными передниками, делали книксен, встречая педагогов, а мы – пестрая и шумная команда, смотрели на них во все глаза. Еще раздавались в коридорах и в школьном саду на переменах возгласы младших сестер Щепотьевых: «Дети, силянс[2], прошу здороваться по правилам!» Мы, девочки, еще кое-как приседали, а мальчики тщетно пытались «по правилам» шаркнуть ножкой, поклониться только головой и с шумом неслись дальше.
Класс наш был дружным. Я не помню, чтобы мальчики нас обижали. Скорее, было наоборот, но держались мы врозь, у них были свои интересы, а у нас – свои.
Как мне помнится, твердой программы обучения еще не было. Нас учили в первую очередь обществоведению. Этот предмет преподавала наша классная руководительница – педагог нового толка: она «боролась» со всем «устарелым». Читала нам чьи-то статьи, в которых мы ничего не смыслили, рассказывала о революции 1905 года, о ссылках и каторге, где мучили людей, о том, как стреляла «Аврора» (что я слышала собственными ушами), и даже о том, что имя «Ленин» Владимир Ильич Ульянов взял себе, когда его сослали на эту северную реку. Очевидно, она была не талантлива как педагог, не образованна и не умела нас заинтересовать. Странно, но я не помню ее внешности и даже имени, хотя других помню хорошо.
Русский язык и грамматику пыталась нам преподавать младшая Щепотьева – Надежда. Я говорю «пыталась», потому что наша «классная» обязательно присутствовала на ее уроках, делала ей замечания, комментировала по-своему. Та, бедняжка, покрывалась пятнами и от волнения возражала очень робко, хотя была права. Урок шел «не туда». Мы все очень жалели учительницу русского и сразу дружно возненавидели «обществовичку». У нее была какая-то обидная кличка, но я забыла какая.
Преподавали нам и естествознание. Этот предмет вела высокая, с унылым лицом, жеманная дама. Она нам рассказывала о цветах, травах и особенно много о рыбах, за что тут же и получила кличку Осетрина.
Та же Щепотьева учила нас и начальным правилам арифметики. Эти уроки она вела твердо, и придраться к ней «классная» не могла, а вернее – не умела.
Домашних заданий не давали, мы по-прежнему жили привольно.
Читать я научилась раньше, и Таня Богданович давала мне свои детские книжки: «Дюймовочка», «Мальчик-с-пальчик», «Маленький лорд Фаунтлерой» и многие другие. Я даже нахально пыталась обучить Ня-Аню грамоте по новому букварю, где были такие примеры: «Мы не рабы! Рабы не мы!» Долго по слогам читала я ей, но когда я или брат спрашивали Ня-Аню, поняла ли она, ответ был один: «Что ж не понять – барыня».
По-прежнему я много времени проводила в Кремле и знала каждый его закоулок. Как же там было интересно! Нижний сад от Боровицких ворот с промежуточными башнями шел до Спасской, а почти рядом с ней стояла низкая, из белого камня церковь, очень древняя. Она была заперта, а в промежуточных башнях двери всегда были приоткрыты. Заглядывая внутрь, я видела зажженные свечи перед иконами и людей, особенно пожилых женщин. Тогда еще на Москве был колокольный звон, конечно, кроме Кремля. Во время благовеста из дальних церквей в нижнем саду было еще уютней и таинственней.
Это у меня перемешивалось с рассказами об операх в Большом театре – «Царь Салтан», «Золотой петушок», и в голове смутно рождались очень туманные картины с прекрасными королевнами, сказочными превращениями в далеких синих морях. Все было ново и бесконечно заманчиво.
Наверное, это был парад в честь третьей годовщины Октября в двадцатом году. Брата и меня с довольно большой группой из семей, проживающих в то время в Кремле, пустили на кремлевскую стену смотреть парад. Вел нас человек в кожаной куртке и галифе.
Вначале шли довольно долго по крутой каменной лестнице, где было совсем темно, и я в страхе цеплялась за брата. Потом открылась дверь с тяжелым засовом, и стало видно небо, а вскоре мы оказались на очень широкой дороге за зубцами стены. Потом я слышала, что ширина стены была такой, что на ней поместилась бы пара лошадей в упряжке.
Конечно, сейчас, через столько десятилетий, я не могу точно описать свои ощущения, но помню хорошо, что глаза разбегались – куда смотреть: на Москву или вниз на Красную площадь с деревянной трибуной? Вскоре из Никольских ворот показалась большая группа людей и направилась к трибуне.
Тут те, с кем мы пришли, стали называть чьи-то имена, указывая вниз. Брат мне все шептал: «Вот это Ленин!» А я никак не могла разобрать – где? И все спрашивала: «А папа?» Только спустя какое-то время, когда Владимир Ильич, вскинув руку, приветствовал участников парада, я наконец уразумела. Вот так во второй раз я увидела Ленина. Потом я видела его на территории Кремля не однажды…
Наверное, всем, кто знает старые хроникальные кадры, не надо рассказывать, каким скромным был тот парад. Не все были в военной форме и шли не так стройно, печатая шаг, и оркестр был небольшой. Проходили мужчины, по-разному одетые, и довольно много женщин, были и военные верхом, в шлемах, впереди – стройный всадник с шашкой наголо. Кто – не знаю, но думаю, что Ворошилова, Фрунзе и Буденного не было на том параде. Еще шла Гражданская война, и все военачальники были на фронтах.
Из Чудова монастыря надо было выезжать, его сносили, и отцу дали квартиру в Кавалерском корпусе. Это небольшое двухэтажное здание стояло в саду, куда выходила дверь из коридора столовой Совнаркома. Раньше оно предназначалось для дежурных офицеров, а может быть, и для дежурных фрейлин. Там были очень комфортабельные двухкомнатные квартирки с хорошей мебелью, кровати с великолепным голландским бельем, пуховыми подушками и одеялами на шелковой вате, чудесно оборудованные ванные со всеми удобствами, камчатные скатерти, наборы посуды… Из парадной двери вел один марш лестницы, еще дверь – и вы попадали в большой широкий, с окнами почти до полу коридор, куда выходили двери квартир, а с другой стороны был такой же коридор, куда из этих же квартир выходили небольшие окна. Эти коридоры – «Белый» и «Желтый» вели во дворцовые покои. Сейчас ни Офицерского, ни Кавалерского корпусов и всех примыкающих к ним построек нет. На этом месте стоит Дворец Съездов.
Когда я в первый раз попала на эту папину квартиру, все было мне непривычно, и я робела. Но довольно скоро осмелела до того, что вылезла из окна спальни в коридор и пошла в сторону дворца, попала в большую переднюю, в которую выходили боковые закрытые двери, а белая с золотом двустворчатая дверь впереди была чуть приоткрыта. Я туда проникла и оказалась в роскошном зале, где в глубине на возвышении стояло очень красивое большое кресло с высокой спинкой. Оказывается, я «посетила» Малый тронный зал императрицы. Одна из боковых дверей вела в древние царицыны терема, а вторая – на современную женскую половину.
Вскоре я повела по этому пути брата, и когда мы с ним вошли в Малый тронный зал, то увидели пожилого человека с петушиной метелкой на деревянной ручке. Этой метелкой он старательно обметал пыль с тронного кресла. Увидев нас, он застыл. Мы от смущения – тоже. Лицо его было недоуменно-страдальческим. Я догадалась сделать книксен, как нас учили в школе, и, кажется, это его чуть примирило с нами. Он проговорил что-то вроде: «Тут надо тихо» или «Нельзя шуметь» – не помню. Потом мы видели его много раз, все за такой же работой. Одет он был в ливрейные брюки с позументом, куцый пиджачок и войлочные туфли.
Мы вели себя пристойно, и он однажды повел нас в царицыны древние терема. По узким лесенкам, через низкие, с полуовальным верхом двери, обитые красным сукном или тисненной золотом кожей. Там у меня сладко замирало сердце, когда я глядела на свинцовые переплеты маленьких окон, на резные лавки, витые столбики кровати с тяжелым балдахином и высокие кованые сундуки-укладки. Оконца выходили одни во внутренний дворцовый двор, другие – на Красное крыльцо. Все это напоминало декорации уже виденного мной в Большом театре «Царя Салтана» и плохо вязалось с суровой нашей повседневностью.
Но время шло. Надо было ходить в школу, и для Кремля с его чудесами оставалось меньше времени. Однако в свободное время я по-прежнему гуляла с сестренкой по дорожкам Кремля. Теперь я часто встречала тетю Веру Крестинскую с шестимесячной дочкой – тоже Наташей. Мне даже разрешали иногда подержать Наташу на руках.
В ту далекую пору и Кремль был другим – и порядки были нестрогие, и опять-таки сочетались приметы времени, казалось бы, несовместимые, вроде старого дворцового лакея, молящихся старух, стариков в часовнях и латышских стрелков или кремлевских курсантов.
Только я стала привыкать к школе, к нашему классу, как моей маме кто-то внушил идею, что меня – польского ребенка – надо учить в польской школе (была такая в Москве в ту пору).
Моей маме, прожившей в России почти 60 лет и так до конца дней и не научившейся правильно говорить по-русски, все польское казалось прекрасным, и судьба моя была решена. Я затаилась. Обсудила свое положение с Таней, закрывшись в стенном шкафу. И мы выработали план.
Было решено, что в то утро, когда мама поведет меня для зачисления, я «не проснусь». И вот настал этот час. Меня стали будить. Чего только со мной не делали! Поднимали на ноги, складывали вместе со мной эту папину «раскладушку», сталкивали на пол, брызгали водой – я «спала». Мама в страхе вскрикивала: «Децко мое!» Так продолжалось дня три. Я «спала» намертво. Когда мама уходила на работу, а брат в школу, я «оживала». На вопросы отвечала: «Не помню».
И только когда было решено обратиться к врачу, я заявила в открытую, что не уйду из моей школы. Бедной моей маме пришлось с этим смириться, и все пошло по-старому.
К тому времени я побывала не только в Большом театре, но и в Художественном на «Синей птице». В этом спектакле мне больше всего понравились сцена «Неродившиеся души» (потом она была купирована) и музыка. Мы с Таней все напевали эту полечку. А что это был за театр – Художественный, – меня тогда совсем не волновало.
Однажды у наших хозяев с утра началось волнение. Ждали кого-то очень важного, о чем-то спорили, суетились. Таня мне сказала: «Придет самый-самый главный в Художественном театре, как Шаляпин в Большом». Маргарита Георгиевна и Александр Владимирович даже поспорили. Он говорил, что надо устроить обед, а она, из-за отсутствия продуктов, – чай. Примирились на печенье из пшена и еще на чем-то к чаю.
Около трех часов хозяева уже были в передней. Мы с Таней притаились за портьерой на двери коридора, ведущей в переднюю.
И вот звонок. Александр Владимирович открывает входную дверь, жена рядом, и из-за их спин возникает фигура гиганта в шубе, шапка в левой руке, и где-то очень высоко надо мной – серебряная голова и сияющее улыбкой прекрасное лицо. С гостя снимают шубу. Он склоняется к руке Маргариты Георгиевны, мы слышим его голос: «Я, наверное, помешал вашему обеду?» И испуганный ответ хозяйки: «Нет, нет, мы уже… Прошу к чаю!» Еще какое-то движение – и его уводят в столовую.
Мы выползаем из нашего укрытия и начинаем детально изучать шубу, шапку и огромные фетровые боты с отворотами. И тут я ставлю свою ногу в тряпочной самодельной туфле поперек этого бота… Так я впервые «соприкоснулась» с великим Станиславским.
Константин Сергеевич приходил приглашать Маргариту Георгиевну Гукову преподавать в Оперной студии, которая тогда создавалась по его инициативе.
Маргарита Георгиевна Гукова в начале XX века была приглашена в Большой театр с третьего курса Московской консерватории сразу на первые партии. По классу драмы ее педагогом был Л. Сулержицкий. О ней говорили как о лучшей Татьяне в «Евгении Онегине». В 1914 году Маргарита Георгиевна с мужем поехала в Германию на консультацию к знаменитому ларингологу, который случайно повредил ей связку в горле и приказал долго молчать, обещав, что голос не пострадает. В это время была объявлена война, уходил последний поезд в Россию, его брали с бою, и они чуть не остались. Она, бедная, кричала и навсегда погубила свой дивный голос.
Рассказывали, что Константин Сергеевич приглашал ее в Художественный театр – актрисой, но она отказалась, и вот теперь он пришел звать ее как педагога к себе в Студию, где с ним уже сотрудничали А. Вл. Богданович, А. В. Нежданова, немного позднее – Н. С. Голованов, Л. В. Собинов, Вс. Р. Петров, С. И. Мигай и директор Большого театра Е. К. Малиновская.
Это было началом реформы в оперном искусстве России.
Оперная студия находилась в доме № 6 по Леонтьевскому переулку (ул. Станиславского).
Как известно, Константину Сергеевичу был предоставлен советским правительством старинный особняк. В бельэтаже в нескольких комнатах жила семья Станиславских. Там располагались кабинет, спальня, столовая и две маленькие комнатки окнами в сад, занимаемые Марией Петровной Лилиной – женой К. С., замечательной артисткой Художественного театра. Остальные помещения бельэтажа занимала студия. В подвальном этаже – очень тесно – жили иногородние студийцы.
В парадные сени бельэтажа вела широкая деревянная лестница. Затем парадный зал, разделенный белыми мраморными колоннами, большая библиотека. Из парадных сеней две двери вели в жилые комнаты и на антресоли, в жилище старшей сестры Константина Сергеевича Зинаиды Сергеевны Соколовой – педагога Студии по классу драмы. Входная парадная дверь вела из сада, а в глубине сада была маленькая дверь на кухню, в хозяйственные помещения и к внутренней деревянной винтовой лестнице. По этой лестнице можно было попасть в маленькую комнату, где жили «на покое» две старые горничные. Где-то здесь же в одном из закоулков помещался и дядя Миша – дворник, истопник (дом отапливался голландскими печами), гардеробщик и почти секретарь.
Теперь в этом доме музей-квартира Станиславского. Подвальный этаж занимает экспозиция костюма из постановок Константина Сергеевича, а тогда каждый угол и даже площадки внутренних лестниц были обитаемы. С жильем в Москве было трудно: приходилось тесниться и студийцам, и семье Алексеевых-Станиславских.
Уму непостижимо, как Марии Петровне Лилиной удавалось всех расселить, а главное, накормить. С раннего утра все «спальные места» сворачивались, и с 11 утра начинались по строгому расписанию студийные занятия, продолжавшиеся с небольшими перерывами до поздней ночи.
Главными помощниками Константина Сергеевича были Зинаида Сергеевна Соколова и Владимир Сергеевич Алексеев – высокообразованный, великолепно знающий всю оперную классику, тонкий музыкант, он же преподавал пластическое движение и ритмику.
В квартире Богдановичей стали появляться молодые люди – студийцы. Разучивались партии. Первой зазвучала опера «Вертер», потом «Онегин». Уроки продолжались почти весь день. Я не могла понять, почему нужно было вначале «мычать», петь «а-а-а» и «у-у-у» и еще какие-то буквы, а не сразу дивные арии и дуэты. Только много времени спустя я поняла, как долго и трудно надо учиться, чтобы красиво и легко петь.
В городских школах занятия в те годы не всегда бывали регулярными. Мы часто были свободны и вместе с Таней ходили в Студию. Мне выпало счастье с моих десяти лет, с 1921 года, видеть, как репетирует Константин Сергеевич Станиславский, смотреть и слушать его. Упомянутый выше дядя Миша был в доме Станиславских одним из «главных» людей. Вот он-то и пускал нас в это святое место.
Тогда было как-то проще, на нас не обращали внимания, не гнали, лишь бы было тихо, а мы и дышали-то с опаской, чтобы не помешать. Подоконник первого окна от двери в Онегинский зал был нашим постоянным местом. Сколько волшебного, сказочного, волнующего видела я с этого подоконника!
Репетиции «Вертера» я помню очень смутно. Помню, что я завидовала девочке, которую выводили или даже выносили на руках по ходу действия (эта девочка – актриса МХАТа, заслуженная артистка РСФСР Галина Петровна Шостко).
Хорошо помню репетиции «Онегина», на них присутствовали весь состав студийцев и все педагоги. Репетиции шли под рояль. Константин Сергеевич входил из дверей библиотеки – элегантный, галстук бабочкой, пенсне на черном шнурке. Необыкновенной красоты руки! Склоняя голову, произносил: «Общий поклон», – и садился в кресло. Сначала он что-то говорил исполнителям, потом его обычное: «Ну-с, начнем!»
Но Станиславский недолго сидел в кресле. Сперва он приподнимался, замирал в какой-то неудобной позе и наконец устремлялся, например, к Татьяне Лариной в сцене письма, начиная показ. И вот он уже Татьяна – чудо грации, женственности, и все это точно в музыку, перо – в чернильницу, слова – на бумагу, сияющие любовью глаза… Еле заметный переход – и он уже няня.
А как гениально Константин Сергеевич строил сцену ларинского бала: от застойной скуки к танцевальному веселью под военную музыку, к ссоре и к драматическому окончанию Татьянина дня. Константин Сергеевич бывал и порхающей Ольгой, и ротным, и влюбленной в Ленского смешной увядающей девицей, и строгой мамашей…
Каждая группа гостей, приезжавших на бал, точно знала свою биографию: кто они, откуда, каковы их отношения с Лариными, кто им особенно мил, а кто не очень. А как он выводил Татьяну, когда учил студийца быть Греминым!
За роялем всегда был концертмейстер, а потом главный дирижер Оперной студии М. Жуков.
Я помню сдачу «Онегина». Кроме всех педагогов присутствовали: Луначарский, Енукидзе, Малиновская, Подгорный, конечно, Лилина, секретарь Станиславского по Художественному театру Таманцева и весь оперный цвет Большого театра. Исполнители играли в своих платьях. Успех был очень большой. После этой сдачи были отпущены большие средства на постановку и издан соответствующий указ «сверху». А Луначарский отозвался о постановке «Евгения Онегина», что «это благоуханно».
Кажется, в феврале 1922 года папа мне сказал, что весной он, наверное, уедет ненадолго в Италию. Помню это потому, что он попросил меня показать на карте Европы, где находится Италия, чего я, конечно, по полнейшему невежеству сделать не смогла. После маленького урока географии он стал рассказывать об особенностях и красоте этой страны – таким образом я узнала о готовящейся Генуэзской конференции, хотя в то время политическое значение этого события было мне неведомо.
Я не один раз видела наркома иностранных дел Георгия Васильевича Чичерина. Из рассказов взрослых я знала, что он из родовитой, старинной дворянской семьи, получил блестящее образование, воспитанный, тонкий ценитель музыки, превосходный пианист и очень скромный человек. Леонид Борисович Красин говорил о Чичерине, что серенький костюм из недорогого материала, который он обыкновенно носил, сидел на нем так же изящно и ловко, как фрак дипломата.
Чичерин был главой нашей делегации в Генуе. Подготовительная работа перед конференцией велась крупными партийными деятелями под руководством самого Ленина. Отец рассказывал, что всех членов делегации, а их было много, разбили на десятки, каждой из которых руководили те, кто знал правила этикета, костюма – что и когда надевать, как вести себя за столом, вплоть до самых, казалось, незначительных мелочей. С одной из таких десяток занимался и мой отец.
В конце марта делегация выехала из Москвы и в начале апреля прибыла в Геную. Мой отец заведовал секретариатом делегации.
Об огромном значении для нашего государства этой конференции и о ее блестящих результатах написано немало. Известно также, что выступление на первом заседании конференции Чичерина на безукоризненном французском языке поразило членов европейских делегаций, очевидно, не ожидавших встретить среди посланцев нашей страны таких людей.
Помню рассказ отца о том, как, живя в «Палаццо Империал» в местечке Санта-Маргерита неподалеку от Генуи, они заслушивались, когда поздними вечерами Георгий Васильевич подолгу играл Моцарта – своего любимого композитора. Уже тогда Чичерин страдал тяжелой формой диабета, а работа была безмерно ответственной, и так он отдыхал, а может быть, готовился к следующему трудному дню…
В двадцатых числах мая 1922 года делегация вернулась в Москву.
Несколько лет работы моего отца в Наркоминделе, наверно, были для него самыми значительными. Тогда еще был жив Ленин. Работа связывала его и с такими выдающимися деятелями, как Л. Б. Красин, В. В. Воровский, М. М. Литвинов, А. Д. Цюрупа, Я. Рудзутак, не говоря уже о А. С. Енукидзе, Н. Н. Крестинском, Г. М. Кржижановском…
Всех этих людей Анатолий Васильевич Луначарский называл «маршалами Ильича».
В сентябре 1922 года Константин Сергеевич Станиславский с Художественным театром уехал на два года на гастроли по Европе и Америке. В его отсутствие Оперную студию вели его помощники – педагоги и певцы Большого театра.
Событие, запомнившееся на всю жизнь, произошло в 1922 году.
Начало года. Зима. Объявлен парадный концерт в Большом зале консерватории. Весь сбор от концерта шел в пользу беспризорников, во множестве мелькавших по Москве. Спали они обычно в котлах, где днем варили асфальт. Они были небезопасны, отличались необыкновенным проворством и отвагой.
К 1922 году Москва была уже прибрана, улицы асфальтировались. А ведь в первые годы после Октября зимой на улицах наметались огромные сугробы, в которые с заборов и с невысоких крыш соскакивали «попрыгунчики», иногда те же беспризорники, а то и просто бандиты. Маскировались они в белые простыни или занавески, к их валенкам или сапогам прикреплялись пружины, а иной раз они появлялись из-за угла на ходулях. Встреча с таким «привидением» наводила ужас на прохожих, и, раздев и отобрав все ценное, «попрыгунчики» скакали дальше. А уж рассказы о них были один страшнее другого. Вечерами даже взрослые в одиночку ходили неохотно.
В 1922 году – откуда что взялось? – уже открылись магазины с нарядными витринами, ночные рестораны, роскошные кафе, появились извозчики на «дутиках» или в санях с медвежьей полостью… На Петровке во всю длину дома развернулась вывеска «Дрова! Лучшие на всем свете дрова! – Я. Рацер». Казалось, что бойкая торговля шла во всех закоулках Москвы. А уж об Охотном ряде и говорить нечего. С угла Театральной площади и почти до Иверской часовни сплошные ряды: мясо, дичь, рыба, молочные поросята, а около этих богатств прохаживались сытые, в белых передниках, с длинными ножами мясники и рыбники.
Прибаутки, остроты, зазывание покупателей. Ну прямо как в пьесах Островского! А на противоположной стороне лавки Головкина и других знатных купцов-поставщиков: грибы всех сортов и видов, всяческие маринады и соленья, зелень, овощи, фрукты…
Цены, конечно, были бешеные, и обыкновенные люди могли только смотреть издали на эту роскошь.
А по другую сторону Иверской, почти вплоть до Александровского сада и здания Манежа, стояли деревянные дома и домишки, а на их фасадах красовались большие вывески: «Пух», «Перо», «Яйца».
Вокруг Иверской часовни, где горели неугасимые лампады и множество свечей, кроме молящихся была толпа продающих, меняющих и покупающих всякую мелочь – словом, «толкучка».
На Никитской, угол Кисловки, где в то время еще действовал Никитский монастырь, была нэповская булочная-кондитерская. По воскресеньям мама давала брату драгоценный червонец (эти червонцы старались не менять, так как курс их не был твердым), и мы с братом шли за красивой и вкусной большой плюшкой, стараясь не смотреть на другие кондитерские чудеса.
На Арбатской площади, на месте нынешнего круглого метро и дальше, вглубь, до церкви Бориса и Глеба, тянулся Арбатский рынок. Там было все – роскошное, свежее, красивое, но, конечно, недоступное. На этом рынке нэпманы часто стояли целыми семьями, а по вечерам кутили под цыганское пение в саду «Эрмитаж», в ресторанах. И еще они «уважали» оперетту.
Тверская вся была в частных магазинах – «что угодно для души»: великолепная обувь от «Братьев Зелениных», шляпы, ткани всех видов, цветы, всяческая галантерея, розовые шелковые чулки – мечта всех тогдашних девиц, французская парфюмерия…
Так вот в этом двадцать втором году был анонсирован по высоким ценам благотворительный концерт с участием Шаляпина, Неждановой, Собинова, Петрова, Гельцер, Смольцова и других знаменитостей того времени.
Начинаться концерт должен был с выступления сводного детского хора, для которого из многих школ отобрали по десять детей. Мы с Таней Богданович оказались счастливыми – нас взяли: меня на второй голос, а Таню – на первый. Руководил хором и учил нас петь дивные старинные русские песни хормейстер Крынкин. В ту пору эта фамилия была очень известна. Отец Крынкина держал на Воробьевых горах знаменитый до революции ресторан, говорили, что ресторан был знаменит и старинными русскими песнями.
Наш хормейстер был очень строг, мы его боялись до ужаса; дирижировал он на спевках своей толстой тростью – суковатой палкой. Помню, как он бесчисленное количество раз заставлял нас повторять конец песни «От ворот поворот виден по снегу» и добился-таки нужного звучания. Песня кончалась как бы единым тихим вздохом. И еще мы пели «Плывет лебедушка» и «Поздно вечером сидела, все лучинушка горела».
Нам было приказано, как угодно, но быть в белых платьях и таких же туфлях. Уж не помню, из чего мама смастерила мне этот концертный туалет.
На генеральной репетиции Крынкин все еще дирижировал тростью. На концерте он потряс нас фраком и дирижерской палочкой.
Мы с Таней упросили ее отца, который тоже был участником концерта, разрешить нам остаться за органом, где все было слышно и даже чуть видно в щелку.
Особенно запомнился мне Шаляпин. Он и сейчас как живой стоит перед глазами. Что делалось в зале, когда его объявили! Он пел «Элегию» Массне, «Гренадеров» и на бис – «Дубинушку». Провожали его стоя, бесконечными криками «бис» и сокрушительным громом аплодисментов.
Мне выпало счастье слушать великого Шаляпина дважды: второй раз (и сознательно – первый) был и последним в том же году Шаляпин уехал за границу. Мне, уже взрослой, рассказывала Маргарита Георгиевна Гукова, что перед тем, как покинуть Россию, Федор Иванович собрал у себя на прощальный ужин узкий круг друзей. Супруги Богдановичи тоже были там. И вот, сидя за столом, Шаляпин чуть слышно запел «Глядя на луч пурпурного заката…» У Маргариты Георгиевны, прикрывшей глаза рукой, градом катились слезы. «Я не видела сидящих за столом, – говорила она, – но, наверное, плакали все».
…К тринадцати годам я уже целиком была во власти театра. За два года (конечно, в ущерб школьным наукам) мы с Таней много раз бывали в Большом театре, пересмотрели много спектаклей 1-й и 2-й студий МХАТа, особенно почему-то 1-й, а некоторые спектакли – по несколько раз.
Спектакли 1-й студии, то есть МХАТа 2-го, в те годы давали в небольшом театре на Триумфальной площади. Потом, когда МХАТ 2-й переехал на Театральную площадь в здание нынешнего Детского театра, на Триумфальной играл Театр Сатиры, а после него, уже в шестидесятых годах, – «Современник». Когда расширяли площадь, это здание снесли. Мне его жаль – столько связано с ним волнующих, радостных воспоминаний, столько пролито слез и столько смеха было, тоже до слез.
В двадцатых годах МХАТ 2-й и звезды его труппы: М. Чехов, Берсенев, Дикий, Гиацинтова, Корнакова, Бирман, Дейкун, Соловьева, Успенская, Дурасова, Чебан, Жилинский, Готовцев, Попов, Сухачева, Хмара, Азарин, Волков, Пыжова – пользовались очень большим успехом.
Для меня воспоминания об этом театре связаны прежде всего с именем Михаила Чехова. Я помню его очень хорошо, до сих пор звучит в моих ушах его голос.
«Сверчок на печи» Диккенса. Михаил Чехов в роли игрушечника Калеба – страдающий отец, оберегающий свою дочь от страшной действительности. «Потоп» Бергера, где Чехов то противный и злой, то открыто распахнутый к добру. «Петербург» Андрея Белого. Чехов в роли дряхлого сановника Аблеухова, с невероятными ушами и напряженно испуганным взглядом совершенно круглых глаз. Хорошо помню его присказки: «Знаешь-те ли вы?» и «Почему у барышень пятки розовые?» А как он слушал механизм в бомбе: «Тикает!»
Хорошо помню Чехова в «Гамлете» – он был даже красивым! Как смотрел он в сцене «Мышеловка» на короля (его играл Чебан)! А в «Двенадцатой ночи» Шекспира он меня совершенно сразил в роли Мальволио, его выход с торжественным лицом, в желтых подвязках. Очень понравилась в этом спектакле и Софья Владимировна Гиацинтова – хрустально звонкая, озорная и заразительно веселая.
«Эрик XIV» Стриндберга был для меня тогда слишком сложным спектаклем, но жуткая фигура Чехова – Эрика врезалась в память.
Несколько раз смотрели мы с Таней спектакль «Любовь – книга золотая» Ал. Толстого. В нем мы любовались необыкновенной артисткой Корнаковой: красота, женственность, талант, актерское обаяние, голос.
А как Корнакова играла в «Закате» Бабеля! Замечательно играла там и Серафима Бирман. Сейчас помню, как она говорила: «Мама, куда вы подевали мое зеленое платье?»
Когда создавалась 1-я студия, впоследствии МХАТ 2-й, помимо Константина Сергеевича Станиславского, руководителем и наставником был Леопольд Антонович Сулержицкий – личность огромного человеческого и творческого таланта, «мудрый ребенок», по определению Льва Толстого. Наверное, тот факт, что Сулержицкий так рано ушел из жизни, не мог не сказаться на творческом развитии этого коллектива. Возможно, были допущены какие-то ошибки – не мне об этом судить, произошел раскол труппы (если бы не уехал Чехов!). В 1936 году театр закрыли, и это взволновало и огорчило очень многих.
Во 2-й студии, которая в 1924 году целиком влилась в труппу Художественного театра и еще больше украсила созвездие его талантов, я, к сожалению, видела меньше спектаклей, но что-то врезалось в память навсегда. Помню «Зеленое кольцо» Гиппиус с очень смешной Анастасией Платоновной Зуевой, с Ниной Николаевной Литовцевой и Аллой Константиновной Тарасовой. Хорошо помню: когда в спектакле «Младость» кто-то по ходу действия просил позвать Васю, а «недослышавший» Н. П. Баталов переспрашивал: «Кого?» – из зала неслись подсказки шепотом и громко: «Васю, Васю!» Так велика была сценическая правда. От спектакля «Узор из роз» осталось лишь, как Раиса Молчанова говорила: «Малашка не от работы ослепла – от ветра!» Некоторые спектакли 2-й студии сохранились на Малой сцене МХАТа надолго, и даже я, поступив в театр, была занята в них. Но об этом позже.
В Малом театре я тоже стала бывать рано, но великую Ермолову не видела. Полюбила и запомнила с тех пор многих замечательных артистов – Массалитинову, Рыжову, Пашенную, молодую красавицу Гоголеву, Климова, Кузнецова и многих других.
Большое впечатление произвели на меня тогда спектакли «Нравы Растеряевой улицы» Успенского и «Доходное место» Островского.
На спектакле Малого театра «Волчьи души» (Джек Лондон) с Верой Пашенной в главной роли я почему-то оказалась с отцом. Во время пылкого любовного объяснения, где Пашенная была в белом туалете с голой спиной, мой бедный папа стал шептать мне: «Пойдем, это же, право, неинтересно, прошу тебя…» И так несколько раз. Уж не помню сейчас, удалось ли ему меня увести.
В театре Мейерхольда в те далекие годы я видела «Лес» Островского и агитскетч «Даешь Европу» (авторов сейчас даже и не припомню. По-моему, одним из них был И. Эренбург). Хорошо помню М. И. Бабанову в роли Боя («Рычи, Китай» Третьякова). Как она была трогательна и достоверна! Самоубийство ее героя потрясло до слез. Уже взрослой видела мейерхольдовского «Ревизора», в котором главной фигурой оказалась Анна Андреевна – З. Н. Райх, несмотря на великолепного Хлестакова – Гарина. Впечатление было жутковатое еще и от множества странных фигур, которых нет в перечне действующих лиц комедии, например, какой-то голубой гусар с лицом-черепом у ног Анны Андреевны. Марья Антоновна – Бабанова, хрупкая, наивная. Ее очень хлестко била по щекам мамаша.
Мне довелось видеть и ленинградский спектакль Мейерхольда «Маскарад». Этот спектакль был как драгоценное кружево. Трагический и грациозный, он казался воплощением лермонтовского замысла.
Помнится еще один вечер в этом театре. Было это много позднее. В черном колете, в лосинах и высоких сапогах с наколенниками З. Н. Райх читала монолог Гамлета «Быть или не быть». Это производило очень странное впечатление.
Когда в конце тридцатых Мейерхольд оказался в беде и театр его закрыли, Константин Сергеевич Станиславский – не принимавший ни единого его спектакля – позвал Всеволода Эмильевича к себе в оперный театр работать над «Пиковой дамой». Учитель пытался спасти своего строптивого талантливого ученика, и тот снова благодарно ответил филигранной работой над величайшим творением Пушкина и Чайковского в замысле Станиславского. Это была последняя работа в жизни Мейерхольда. Правда о страшном конце его и Зинаиды Райх стала известна нам только теперь.
В Вахтанговском театре я видела в середине двадцатых знаменитую «Турандот» Гоцци с Завадским, Мансуровой, Орочко. Как они были великолепны, блистательны, артистичны и сказочны!
Память возвращает меня в 1924 год. Умер Ленин. Зима была лютой, а в те трагические дни морозы стояли особенно сильные. В Колонном зале Дома Союзов лежал мертвый Владимир Ильич.
Я, в мои тринадцать лет, была достаточно взрослой, чтобы понимать горе и тревогу отца и его товарищей, возможность видеть и немного знать которых мне подарила судьба. Известие о смерти Ленина ошеломило тогда всех. В какую-то из ночей мама, брат и я тоже стали собираться в очередь к Колонному.
Отца в эти дни мы не видели. Все, как тогда называли, ответработники, сменяясь, несли почетный караул у гроба круглые сутки, а со всех концов страны, да и из-за границы ехали на похороны делегации выборных и отдельные люди.
Часов в 11 вечера мы, надев на себя все, что было у нас теплого, пошли к Кремлю. Очередь, по три человека в ряд, кончалась у Боровицких ворот. Ночная Москва была в белом морозном тумане. Помню хорошо, что было совсем тихо, люди говорили шепотом и соблюдался абсолютный порядок. На Манежной площади горело два больших костра. Люди по очереди грелись и опять становились в свой ряд. Двигались очень медленно, и когда вышли к Охотному ряду, стало видно, что такая же нескончаемая колонна медленно спускается от Лубянской площади. У здания Дома союзов, тоже в полной тишине, группами, по очереди из каждой колонны, впускали внутрь на широкую лестницу, по которой сверху, уже из зала, по одной стороне двигался поток людей вниз.
В зале я помню люстры, затянутые черным крепом, очень много венков. Группа людей, сидящих справа от постамента с гробом, и чуть впереди – поникшая фигура Надежды Константиновны Крупской с исплаканным лицом, с унылыми прядями, выбившимися из пучка седых волос, вдоль щек. А он показался мне совсем не крупным, не таким, как в раннем моем детстве. Когда мы медленно проходили мимо гроба, менялся караул по четыре человека с четырех сторон. Мелькнула фигура Авеля Сафроновича в дверях, ведущих во внутренние помещения.
Сколько раз спустя годы я выходила из этих дверей на эстраду во время концертов, а тогда возвышений никаких не было – паркетный пол был одного уровня.
Прошло более шестидесяти лет, а помню я эти дни отчетливо. И деревянный Мавзолей, который строили день и ночь. И похороны. Мы с братом опять стояли на стене Кремля, куда пускали по пропускам. Когда загудели заводы и паровозы, зазвонили церковные колокола, стало жутко. На площади все обнажили головы, несколько человек подняли гроб и понесли в Мавзолей.
Совершенно непонятно, как меня переводили из класса в класс! Я почти не готовила уроков – была околдована театром. Запомнились только уроки литературы и истории, которые очень интересно вел наш классный руководитель Головня. Через много лет мы встретились. Он стал доктором наук, профессором, а я уже играла в Художественном театре.
…Наверное, мне было лет четырнадцать или меньше, когда я решила поставить в школе спектакль. В свой план я посвятила Тоню Шибаеву – мы сидели с ней за одной партой. Она была первой в классе по точным наукам и снисходительно давала списывать контрольные. Тоня Шибаева не выразила восторга и посоветовала мне заниматься делом, пока меня не выгнали из школы. Я кинулась за помощью и советом к мальчишкам. Среди них я была «свой парень», так как участвовала во всех проделках, драках и розыгрышах. Я была очень горда их отношением ко мне.
Решено было идти к Головне. Он выслушал нас и дал согласие. Почему-то остановились на «Женитьбе» Гоголя. Стали распределять роли. Нашлись две тихие, покорные девочки, согласившиеся играть Агафью Тихоновну и сваху. Тетку невесты мы просто вычеркнули – не нашлось охотниц. Мальчишки разобрали все роли, кроме Подколесина: «Он много говорит и старый». Я нахально заявила, что сама его сыграю. Головня посмеивался.
Текст учили, вычеркивая все, что было непонятно или казалось лишним. Не помню, кто был Кочкаревым, но помню, что мы с ним все время спорили и поносили друг друга. Я кричала, что театр мне известен лучше, чем ему и вообще всем, а в ответ слышала, что «если девчонка будет представлять старика, какой это театр?».
И все-таки спектакль состоялся. «На ноги» мы встали за два дня до «премьеры», а до этого, сидя после уроков за партами, старались произносить текст «наизусть, подряд и друг за другом».
В нашем школьном зале была сцена и даже какое-то подобие занавеса, который раздвигался рывками. Мальчик, игравший Кочкарева, оказался дельным и преданным, тащил из дому все, что мы считали необходимым: скатерти, занавески, почему-то фотографии в рамках, один сапог и щетку. Я принесла мамин халат для своего героя и штору. Кто-то достал курительную трубку, мы ее насадили на длинную палку – получился «чубук».
Все «артисты» должны были достать себе длинные брюки, верх нам казался не принципиальным. Юбки и шали выпрашивали у нянь и бабушек. У моего брата были единственные приличные выходные брюки. На них я и нацелилась, поклявшись вернуть в целости. Штаны «Подколесина» оказались в поперечных складках, так как брат был высокий. В мамином халате, с трубкой на палке я являла собой зрелище немыслимое. К тому же в день «премьеры» мальчишки подстригли мне волосы – для достоверности.
Волновались мы очень, но чем ближе к спектаклю, тем меньше ссорились, стараясь поддержать друг друга. Своих домашних я в школу не пустила.
Когда дали последний звонок (у нас даже был «помощник режиссера», он же суфлер) и занавес, судорожно дергаясь, раздвинулся, в зале раздались смех и шепот. А когда я начала говорить – смех перешел в хохот. Головня шикнул, и зал затих, но ненадолго.
Степан с одним сапогом и щеткой зрителям явно понравился. Беда была со свахой и Агафьей Тихоновной. Сваха, выйдя на сцену, стала унылым ровным голосом произносить слова. Я же, старательно «представляя» Подколесина, попутно руководила ею: «Сядь! Встань! Громче! Не туда пошла!», а она еще больше робела. Снова хохот и какие-то реплики из зала. Спас положение Кочкарев, он, наверное, был самым живым и настоящим на нашем фоне. А в общем, мы имели успех.
Толкая друг друга, мы выходили на поклоны. Девочки жалели меня за изуродованные волосы, а мальчишки одобряли за «жертвенность». Головня, пряча улыбку, хвалил – и мы были горды.
Разобрав «костюмы, декорации и реквизит», отдав в учительскую мебель, я в сопровождении мальчиков, измученная, поплелась домой. Мои «сопостановщики» донесли мой узел только до двери, очевидно, боясь гнева моих близких за испорченные вещи.
Мама встретила меня испуганным возгласом: «Децко мое!»– глядя на стриженную клоками голову, а увидев брюки брата, впала в тоску: от булавок остались дырки, к тому же, зацепившись за что-то, я выдрала небольшой клок ткани. Брат возмущался очень бурно, так как в то время порвать выходные штаны было почти трагедией. В итоге дома было решено «больше не пускать ее бегать по театрам», и я ударилась в рев.
Придя в школу на следующий день и ожидая насмешек и осуждения, я была удивлена, почувствовав явное одобрение класса – и не за исполнение роли Подколесина, а за мой энтузиазм. Головня весь урок посвятил Гоголю и обещал, если мы будем хорошо учиться, помочь нам поставить следующий спектакль. Таким образом, жертвы мои были не напрасны.
В середине двадцатых годов квартира Богдановичей в Шереметевском была отдана какому-то «ответработнику», и нас переселили в одиннадцатикомнатную квартиру, ставшую коммуналкой. В ней было, наверное, человек сорок жильцов. Рядом с нами жила мать двух латышских стрелков, служивших в охране Кремля. В свои выходные они навещали ее, пили спирт и очень громко пели песни на родном языке. Мы их боялись, особенно мама.
В самом конце огромного нашего коридора была ванная комната. По утрам к ней тянулась длинная очередь. Умываться надо было мгновенно, чтобы не вызвать гнева ожидающих. Поэтому у нас в комнате был отгорожен угол с тазом, ведром и двумя кувшинами для воды. Для большого мытья ходили в Чернышевские бани или в Кремль к папе.
…Ранней весной 1925 года я заболела: высокая температура, боли в животе. Был приглашен врач, который нашел острый приступ аппендицита, и испуганная мама согласилась на операцию.
Позвонили на работу отцу, и он попросил не увозить меня в больницу до его прихода. Очень скоро он привез известного профессора Очкина. Доктор, осмотрев меня, серьезно сказал: «Зарезали бы девчонку». Он нашел у меня брюшной тиф. Болезнь протекала тяжело, температура была предельной, я часто лежала без сознания. Кроме того, у меня находили порок сердца.
Во время этого тифа, а он осложнился возвратным, меня ни на минуту не оставляли одну – в бреду я стремилась бежать, кидалась к окну. Папа приезжал каждый день хоть на несколько минут, а иногда сидел около меня и ночью.
Только через два с половиной месяца я стала подниматься. Меня обрили наголо, пообещав, что вырастут кудри. Но маминой мечте не суждено было сбыться. Страшная, худая, с прямым ежиком вместо кудрей, я имела очень жалкий вид. Добрая тетя Вера Крестинская подарила мне прелестный кружевной чепчик.
Богдановичи переехали в Пименовский переулок. Это был кооперативный поселочек из нескольких небольших домов, в одном из которых был очень популярный тогда «Кружок», он занимал весь подвальный этаж. Там бывали многие знаменитые артисты, режиссеры, писатели, ученые, поэты. Часто бывали Маяковский, Есенин, иногда Луначарский и Енукидзе.
Квартира Богдановичей находилась над одним из помещений «Кружка», и, когда мне доводилось ночевать у них, я, замирая, слушала шум, а иногда и отдельные фразы, сказанные громовым голосом Маяковского. Казалось, что там, внизу, особый, волшебный мир.
После болезни я была очень слаба, и папа взял меня на время своего отпуска в Малаховку, где в каком-то бывшем имении разместился закрытый пансионат. Помню, что там жил в то время известный нарком Крыленко. Он учил меня играть в шахматы (безрезультатно) и в крокет, где я проявила сноровку и даже обыгрывала его иногда, а он сердился, не то в шутку, не то всерьез. Он был очень вспыльчивым и нервным – таким он мне запомнился.
Был там конный двор. Отцу давали верховую лошадь. Это был красавец конь, серый, очень горячий – по кличке Сокол. Отец получал удовольствие от прогулок верхом, это был для него лучший отдых.
Я часто вертелась возле конюшен, а после того, как мне показали новорожденного жеребенка, еще нетвердо стоящего на тонких дрожащих ножках, я совсем заболела лошадьми и стала просить, чтобы меня научили ездить верхом. И вот папа сажает меня на мужское седло, у меня замирает сердце, кажется, что я где-то очень высоко. А подо мной тихая почтенная лошадь Галка. Папа подтягивает стремена, учит, как держать носок, в левой руке – уздечку, и ведет Галку на поводу по старой аллее.
Довольно быстро я научилась свободно сидеть в седле, и отец иногда брал меня с собой. Но тогда пределом моих возможностей была только езда осторожной рысью. Скоро я освоилась до того, что мне позволили пользоваться дамским седлом, хотя это гораздо труднее и неудобнее. Я очень была горда и мечтала уже о длинных прогулках, но тут кончился папин отпуск, а с ним и моя верховая езда.
Потом, когда я стала взрослой, отец несколько раз брал меня с собой: где-то рядом с «Бегами» давали напрокат оседланных лошадей по предъявлению какого-то документа. Ездили обыкновенно в Петровском парке. Я очень гордилась этими прогулками и изо всех сил старалась «гарцевать» по правилам. Отец терпеливо руководил мной. Я уже упоминала, что в седле он был профессионалом. К сожалению, огромная занятость отца очень скоро прекратила наши прогулки.
Еще только раз я сидела верхом, много лет спустя, на Дальнем Востоке, во время шефской поездки театра в Дальневосточную армию – в интернациональном полку, которым командовал полковник Берзарин, впоследствии первый советский комендант поверженного Берлина.
В последний школьный год у нас однажды был вечер со спектаклем, в котором я играла Софью Перовскую (наконец-то выступала в женской роли). Помню только свой костюм – черный бархатный верх с белым воротником и длинная юбка. Все это дала мне тетя Вера Крестинская. В то время Николай Николаевич Крестинский – дядя Коля – был полпредом в Германии, а тетя Вера часто оставалась в Москве со своей маленькой Наташей.
Наступила пора выпускных экзаменов, и я с ужасом поняла, что ничего не знаю по точным наукам. Дома был «траур». Срочно прекратились мои «поиски» в драматическом искусстве. С помощью брата я пыталась постигнуть премудрость точных наук – но все было тщетно. Было решено взять репетитора на все лето, чтобы я могла сдать экзамены осенью и получить аттестат. Каждый день по три часа я корпела над ненавистными предметами. На экзамен шла как на казнь, но сдала все, к изумлению близких, и даже на четверки.
Сразу после сдачи экзаменов все мои «знания» как вымыло из головы. Я и теперь, в старости, не знаю простейших вещей из этой области. Но в аттестате (к сожалению, он затерялся во время войны) была только одна тройка – по поведению.
Выпускной вечер в школе связан у меня с бурными переживаниями. Еще был нэп, и родители моих соклассниц делали все, чтобы их дочери блистали нарядами. Всем шили крепдешиновые платья и покупали туфли на высоких каблуках. Мне заказали у сапожника туфли на маленьком – «венском» каблуке. Это были мои первые туфли – до этого я донашивала обувь брата, из которой он давно вырос, или что-то из маминой обуви. За два-три дня до «бала» мама показала мне светло-сиреневое платье из маркизета и батистовую комбинацию, переделанную из ее сорочки. Что она отнесла в торгсин или в ломбард, чтобы купить этот маркизет – я так никогда и не узнала.
Сам выпускной вечер плохо сохранился в памяти. Помню только, что девочки пристально разглядывали друг друга, и, кажется, я была «не хуже других» в своем маркизете. После вечера мы всем классом пошли гулять по ночной Москве, и я, зная об этой прогулке, заранее прихватила старые мамины теннисные туфли, а новые несла с собой, не доверяя «кавалерам». Мы оказались на Каменном мосту, стояли у перил, о чем-то горячо спорили, и вдруг одна моя туфля улетела в воду.
Дома мне было очень стыдно и очень жалко маму, еще и оттого, что она меня не ругала.
Часть II
1927–1931 годы
К началу 1927 года я окончательно решила, что, кроме театра, у меня другой дороги нет. В любом качестве – но в театре!
К тому времени гениальное творение Станиславского – опера «Евгений Онегин» уже была перенесена на сцену нынешнего театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.
Знаменитый дирижер Большого театра Вячеслав Сук дал согласие заведовать музыкальной частью Оперной студии Константина Сергеевича.
Подробный и очень точный анализ этого спектакля дает в своей книге «Правда театра» П. Марков – лучше него не скажешь.
На сцене этого театра прошла премьера оперы «Царская невеста» Римского-Корсакова. Кто пел первый спектакль, почему-то не помню, а вот второй спектакль партию Грязнова пел Сергей Иванович Мигай – в то время очень известный и любимый публикой солист Большого театра.
Все крупные певцы того времени шли учиться к Константину Сергеевичу Станиславскому.
Замечательной Любашей была Гольдина, прелестно звучала в заглавной партии Шарова. Много тогда говорили о роли Грозного в исполнении Виноградова. Партию Лыкова пел Смирнов, в хоровых ансамблях участвовали все солисты Оперной студии.
В составе «Онегина», выпущенного ранее, были: Татьяна – Горшунова, потом ее сменила Мельцер – замечательная певица и артистка, очень красивая (я видела ее еще в двадцать втором году на занятиях М. Г. Гуковой); Онегин – Бителев, а потом Румянцев; Ленский – Смирнов, потом Печковский, Лемешев и Платонов.
Главным дирижером Оперной студии был Михаил Жуков.
Спектакли музыкальной комедии Владимира Ивановича Немировича-Данченко я увидела гораздо позднее, когда уже работала во МХАТе.
В Оперной студии я умудрялась быть не только на всех премьерах, но и на репетициях, проводившихся в Леонтьевском Константином Сергеевичем Станиславским.
В Художественном театре к этому времени я посмотрела «Турбиных», «Горячее сердце», «Смерть Пазухина», «На всякого мудреца…» со Станиславским в роли Крутицкого, «Бронепоезд 14–69»…
Первый раз я видела «Турбиных», сидя на ступеньках бельэтажа. Сразу и на всю жизнь я была покорена Верой Соколовой в роли Елены Тальберг, Хмелевым – Алексеем Турбиным, Борисом Добронравовым – Мышлаевским, Яншиным – Лариосиком, Кудрявцевым – Николкой. Весь этот спектакль вспоминается как прекрасный сон.
Не менее прекрасным был спектакль «Горячее сердце» по Островскому. Добронравов – Наркис (тупое, толстое лицо с бараньими глазами; грим – только парик и усы, а узнать нельзя), Хмелев – Силан (бестелесный старец, будто одни портки в валенках семенили по двору, а было ему 26 лет), да и вообще весь актерский ансамбль был блистательным и неповторимым.
Старшая сестра Станиславского – Зинаида Сергеевна Соколова – жила, как я уже писала, на антресолях в доме в Леонтьевском переулке. Кроме большой работы в качестве режиссера в Оперной студии, она вела драматический класс – кружок. Учеников у Зинаиды Сергеевны было человек десять-двенадцать. Точно установленного времени для обучения не было, но, что очень важно, еженедельно работу со своими учениками Зинаида Сергеевна показывала Константину Сергеевичу для разбора и уточнения.
В эти годы Станиславский выверял создаваемую им Систему и давал соответствующие задания Зинаиде Сергеевне для занятий с кружковцами.
И вот осенью двадцать седьмого года я решилась проситься в этот класс-кружок. Прослушать меня просила Зинаиду Сергеевну Маргарита Георгиевна Гукова. Мне было назначено время. Зинаида Сергеевна уже знала меня – я примелькалась за эти годы в Леонтьевском, но она не слышала, как я говорю.
Дело в том, что в доме у нас обычно говорили по-польски, а раньше родители часто говорили между собой на французском. Брат и я тоже говорили по-польски, знали разговорную французскую речь, а по-русски говорили только вне дома. Моя мама до конца своих дней думала по-польски, переводила мысль на русский и говорила с очень сильным польским акцентом. Я же не выговаривала букву «л» и очень нажимала на шипящие «ч», «ш», «щ», произнося их жестко.
Наивно полагая, что моя речь не может стать препятствием к поступлению, я приготовила монолог Фленушки из двухтомного романа Мельникова-Печерского «В лесах» и «На горах» и огорошила Зинаиду Сергеевну своим произношением: «Мне про муж-жа гадачь не приходица, с измауства жиуа я в обичели и спознауась я с жизнью кеейною». И так же басню Крылова «Ворона и Лисица»: «Ворроне где-то Бок посуау…» и т. п. Выслушав меня терпеливо, Зинаида Сергеевна сказала мне ласково: «Милая барышня… вас, кажется, зовут Зося? Должна вас огорчить. Сильный польский акцент почти не исправим, и на русской сцене вам вряд ли удастся быть». Вот так!
Не помню, как добрела я домой. Там, наревевшись вдоволь, я заявила домашним, чтобы при мне не смели говорить по-польски. С тех пор я исключила для себя язык моих родителей.
Кинулась я к Богдановичам и рассказала о своем горе. Меня эти замечательные люди ободрили, обещав посоветоваться с князем Волконским – известным тогда педагогом. Он часто бывал у Константина Сергеевича, который очень ему верил, признавая его метод.
Совет Волконского был прост. Букву «л» легко исправить простым упражнением, терпеливо его повторяя. А против «шипящих» одно лекарство. По многу раз читать одну фразу, например, из пушкинской прозы, сказок или из «Конька-Горбунка», чередуя прозу со стихами. Волконский сказал, что, если у меня есть слух и терпение, может быть, и выйдет толк.
Терпения у меня хватило, я рвалась к намеченной цели. По несколько часов в день я упорно твердила одну фразу и с величайшим трудом, очень медленно пыталась говорить по-московски – округло, мягко произнося гласные, убирая жесткость согласных. Читала, строго соблюдая знаки препинания, повышая и понижая голос по законам классической речи («по Волконскому»). Для домашних моих это была пытка, но они кротко терпели, особенно после того, как довольно скоро я четко начала выговаривать – «ложка», «лужа», «лыжи».
У Богдановичей стали говорить, что дела мои идут успешно, и это придавало мне уверенности.
У брата были способности к математике, и предполагалось, что он пойдет учиться дальше. Для поступления в университет надо было заполнять подробнейшую анкету после сдачи экзаменов.
Экзамены брат выдержал очень хорошо, а вот в анкете в пункте о происхождении (крестьянское, рабочее, мещанское и дворянское) ему пришлось написать «из дворян». Это не понравилось тов. Землячке – была такая партийная деятельница с большим стажем, очень грозная и одержимая ненавистью к дворянам. Она наложила резолюцию: «Пусть этот „дворянчик“ поработает на Урале, а там видно будет».
Отец не счел возможным хлопотать о сыне – тогда это было не принято, – и брат уехал на три года в Пермь работать слесарем на Мотовилихинском металлургическом заводе.
Мне же сидеть на иждивении родителей было невозможно – отец получал «партмаксимум», точную цифру я не помню, но на два дома, даже очень скромно, жить на эти деньги было довольно трудно, а мамин заработок не был регулярным. Я решила, что попутно с исправлением речи должна что-то делать и хоть немного зарабатывать. Посоветовавшись с Богдановичами, я отправилась на курсы машинописи.
Учиться на курсах было неинтересно. К тому же они мешали мне заниматься исправлением речи, поэтому до конца я так и не доучилась. Но все элементарные основы печатания усвоила, и у меня созрел план. В секрете от всех я позвонила Авелю Сафроновичу Енукидзе. Как сейчас помню, его кремлевский номер телефона – «2-й верхний». Все эти годы он заезжал к нам очень редко, но мы всегда чувствовали его дружеское участие и доброту. Очень робко я спросила, не могу ли я на время получить пишущую машинку, чтобы печатать дома. Он знал о моем провале в Леонтьевском, был очень ласков, одобрил мой план и обещал не только машинку, но и кое-какую работу.
Так у нас в доме появился старый «Ундервуд». Мама удивлялась моей смелости, а от отца почли за лучшее все скрыть. Я отчаянно старалась быстрее научиться зарабатывать и для облегчения задачи упразднила слепой метод печатания десятью пальцами, а била по клавишам главным образом указательными.
Через некоторое время мне стали приносить для перепечатки какие-то простенькие бумаги, я старательно их перепечатывала на казенную бумагу и даже зарабатывала 10–15 рублей в месяц. Лишь много лет спустя я догадалась, что эти деньги Авель Сафронович давал мне из своих. На протяжении многих лет он заботился о нас, спасая от голода, поощряя меня в желании быть самостоятельной.
…Осенью 1928 года я опять предприняла попытку поступить в класс З. С. Соколовой. Читать решила тот же репертуар.
Я очень трусила, но было и чувство некоей гордости, что я одолела главное препятствие, и еще мне казалось, что я глубже поняла чувства моей героини – Фленушки.
Я кончила монолог и, замирая, ждала приговора.
Зинаида Сергеевна довольно долго с любопытством смотрела на меня, потом улыбнулась (а была она строгой), сказала: «Не ожидала я, молодец, я буду советоваться с Константином Сергеевичем. Наверное, я вас возьму. Приходите завтра». Боже, как я была счастлива!
Когда отец узнал, что я окончательно решила стать актрисой, он очень загрустил, даже испугался и стал говорить о том, как тяжело и унизительно быть в театре посредственностью и что если так случится со мной, то ему будет очень горько. Я знала о его преклонении перед Комиссаржевской, слышала рассказы о том, как они – студенты Петербургского университета – по ночам, греясь в извозчичьих чайных, выстаивали огромные очереди за билетами на галерку на спектакли приехавшего на гастроли Художественного театра.
О том, что я принята в студию, я сказала отцу только после первого занятия. Мое сообщение взволновало его, но поздравил он меня сдержанно: «Старайся, надейся, увидим».
Всех учеников Зинаиды Сергеевны я уже знала, и они меня тоже. Приняли меня хорошо, особенно Володя Красюк – племянник Константина Сергеевича по сестре Анне Сергеевне Штекер. А ее дочь – Милуша Штекер – работала в Художественном театре помощником режиссера.
Анна Сергеевна Штекер была замужем за влиятельным, богатым человеком. В молодости участвовала в Алексеевском «Кружке искусства и литературы» и после открытия Художественного общедоступного театра еще продолжала играть, но недолго. Кроме Людмилы и Володи у нее было несколько детей, двое старших – Андрей и Соня – умерли от туберкулеза. Я хорошо знала Георгия – Гоню. Он был женат на прелестной Кате Сапожниковой – Китри. И мы с Гоней и Китри одно время очень дружили. Был еще и Глеб, но я его знала очень мало.
Ходили слухи, что рассказ А. П. Чехова «Живая хронология» написан с Анны Сергеевны Штекер. Как-то я, восхищаясь портретом юной Людмилы, сказала: «Итальянская головка!» А Людмила в ответ: «А я от заезжего итальянца!»
К старости Анна Сергеевна стала очень строга, все следила за «приличиями» и осуждала «вольное» поведение молодежи, а уж мы-то под строгим взглядом ее сестры – «Бабы Зины», как любя ее все называли, были как овцы – ходили по струнке. Сама же Зинаида Сергеевна, оставшись рано вдовой с маленькой дочерью, очень строго вдовела, ничем не напоминая свою младшую сестру.
Ко времени моего поступления в класс Зинаиды Сергеевны у нее уже обучались Н. Богоявленская, Г. Шостко, Т. Любимова, В. Красюк, Кристи (впоследствии довольно известный театровед) и заканчивал учение А. Абрикосов, ставший позднее артистом Вахтанговского театра. Остальных, к стыду своему, боюсь перепутать, некоторые из них в 1935 году перешли в новую студию Константина Сергеевича – Оперно-драматическую. Эго было ядро будущего драматического театра имени Станиславского, что на Тверской улице.
Первые уроки у Зинаиды Сергеевны я воспринимала как воспитательные. Говорилось о том, каким должен быть будущий артист. Малейшее отклонение от установленной дисциплины не прощалось, все наносное и не относящееся к занятиям оставлялось за порогом этого дома, и наше поведение ни в коем случае не должно было мешать занятиям оперной труппы. Мы едва дышали, опасаясь помешать кому-либо.
Владимир Сергеевич Алексеев – старший брат Константина Сергеевича, высокообразованный и тонкий музыкант, – преподавал у нас в классе ритмику, пластику и упражнения с несуществующими предметами. Эти уроки проходили в Онегинском зале по вечерам, когда он был свободен от оперных занятий.
Владимир Сергеевич был необыкновенно мягким человеком: делая замечания, облекал их в форму просьбы. Он интересно рассказывал нам о юношеских спектаклях в доме своих родителей и о том, каким был в детстве наш грозный Учитель – Константин Сергеевич Станиславский.
Уже в качестве ученицы драматической группы я впервые увидела Станиславского на занятиях ритмикой. Мы все, образовав круг, под аккомпанемент Владимира Сергеевича ходили, меняя соответственно музыке ритм – от медленного шага до бега. И вдруг из дверей библиотеки вышел Он. Мы замерли. А Он присел в стороне за роялем. Мы продолжали свое хождение и бег, но ноги у меня стали деревянными, и это не укрылось от глаз Константина Сергеевича. Мы услышали: «Стоп, минуточку!» И вопрос ко всем: «Что вы сейчас делали?» Константин Сергеевич, указав на меня, сказал: «Вот вы, пройдите отсюда до двери» (это почти через весь зал!). Боже мой! В детстве, когда я с подоконника смотрела на его репетиции с оперными, все казалось таким понятным и простым, а теперь, когда сама должна была что-то сделать, «простое» стало невероятно сложным! И, конечно, непреодолимое волнение и страх.
Воображаю, как бездарно проделала я этот «путь»!
На моем примере Константин Сергеевич начал объяснять всем, что без конкретной задачи нельзя действовать. Для чего этот проход, каковы предлагаемые обстоятельства? Все надлежит знать. У актера должно быть богатое воображение и такая же фантазия, а нафантазировав – нужно поверить в могущественное «если бы» и тогда, поставив для себя точную задачу, действовать. Потом я и остальные ходили и бегали в различных «предлагаемых обстоятельствах». Константин Сергеевич давал самые простые задачи: открыть, закрыть дверь или окно. Пробежать, чтобы встретить или позвать кого-то и, главное, – для чего позвать. И кого встретить – друга или врага?
Зинаиды Сергеевны с нами не было – она дежурила на оперном спектакле. В этот вечер Константин Сергеевич занимался с нами довольно долго. Сначала он незаметно снял сковывающее нас напряжение, подсказывал озорные задачи и даже сам, только чуть-чуть меняя «физику», слегка привставал и обнаруживал стремление «бежать» к какой-то заветной для себя цели… Происходило, как всегда на его гениальных показах, чудо перевоплощения.
Когда занятия кончились, Константин Сергеевич сразу стал немного другим. Сказав свое обычное «Общий поклон», пошел к дверям библиотеки, на ходу указав на меня: «Надо вырабатывать походку, она у вас мелкая». Это я запомнила дословно, а вот чтобы записывать все его уроки – ума не хватило.
Первое время на занятиях с Зинаидой Сергеевной я больше наблюдала, как занимаются другие. Со стороны все казалось понятным и простым, хотелось попробовать самой. Мои товарищи разбирали по задачам и по кускам басни Крылова «Орел и куры», «Ворона и Лисица» и еще что-то.
Очень много я трудилась над логическими ударениями и соблюдением знаков препинания – повышением и понижением голоса в соответствии с ними. Запятая – голос вверх, точка – голос вниз. Этим я занималась самостоятельно.
В год моего поступления в Студию занятия совпали с подготовкой к тридцатилетнему юбилею Художественного театра. Мне выпало счастье быть на обоих юбилейных вечерах.
В первый вечер чествовали юбиляров. На авансцене полуовалами были выгорожены как бы гостиные с парадной мебелью. С правой стороны от публики – президиум, возглавляемый А. В. Луначарским. Слева – пустующие кресла для юбиляров.
Сцена сияла светлым убранством и цветами, в центре сцены вверх уходила белая лестница, покрытая красным сукном, а по обе ее стороны рядами, как в амфитеатре, сидели вся труппа и весь состав работников театра. Нарядные, красивые, с цветами.
Когда открыли занавес и прогремели аплодисменты, президент Академии наук академик П. С. Коган попросил пригласить юбиляров.
Откинулись портьеры на верху лестницы, и под звуки фанфар первыми вышли те, кто служил в театре с основания: портные и портнихи-одевальщики, гримеры и парикмахеры, бутафоры и гардеробщики, рабочие сцены и все те, кто не виден зрителям, но участвует в создании спектакля. После них шли «молодые» артисты (юбилярами считались пришедшие в театр до 1902 года включительно) – Ф. В. Шевченко, Л. М. Коренева и другие. Потом появились первые «старики»: О. Л. Книппер и И. М. Москвин, М. П. Лилина и В. И. Качалов. Кто шел в паре с Л. М. Леонидовым и А. В. Лужским – не помню. Овации все увеличивались. И наконец показались Константин Сергеевич Станиславский и Владимир Иванович Немирович-Данченко.
Зал и все сидящие на сцене с самого начала стоя гремели аплодисментами, а при появлении основателей, как могучий обвал, покрывая звуки фанфар, аплодисменты смешались с криками благодарности и приветствий.
Мне и многим из молодых студийцев разрешили сидеть на корточках или стоять на коленях между рядами бельэтажа (лестничные ступеньки были более привилегированными местами). И никто из сидящих на своих местах не роптал из-за такого «уплотнения»!
Много времени спустя Федор Михальский совершенно серьезно вспоминал, как он боялся, что бельэтаж и ярусы не выдержат.
Конечно, в ложе было правительство. Начались приветственные речи, Константин Сергеевич благодарил правительство и всех, кто помогал создавать театр и кто участвовал в строительстве его здания. Он попросил почтить память всех ушедших, в том числе и Саввы Морозова. И ложа встала.
Потом Владимир Иванович говорил о наследниках, о втором поколении – о молодых, которые понесут дальше знамя театра.
Все это продолжалось долго, но промелькнуло как один миг.
Зрительный зал блистал дамскими туалетами, смокингами и даже фраками. Это были артисты, художники, музыканты, ученые – весь свет (без иронических кавычек). В нижнем фойе потом состоялся банкет (о нем мы услышали от наших педагогов – почетных гостей юбилея).
Через день было продолжение юбилея – играли отдельные сцены и акты. В начале вечера Москвин – «Царь Федор». Позднее он же – «Братья Карамазовы». Качалов – «Гамлет» в его собственной композиции. Леонид Миронович Леонидов в тот юбилейный вечер буквально ошеломил Митей Карамазовым. Было так жутко, так жаль его, могучего, одержимого, любящего и невиновного. Я, как сейчас, слышу его стон-протест из-за ширмы, где его переодевали: «Узко-о!»
После антракта «старики» – первый состав «Трех сестер» – играли 1-й акт: Маша – О. Л. Книппер-Чехова, Вершинин – К. С. Станиславский, Кулыгин – В. В. Лужский, Тузенбах – В. И. Качалов, Соленый – Л. М. Леонидов и Наташа – М. П. Лилина.
Открытие занавеса встретили овацией, а выход Станиславского – таким громом, стоя, что надолго задержали действие. А когда буквально выпорхнула Лилина – Наташа, в зале ахнули и опять долго не давали им говорить.
Какой же щедрый подарок сделали нам «старики» и какой дали великий урок «жизни человеческого духа на сцене»!
…После большого антракта шла «Колокольня» из «Бронепоезда 14–69», и никто в зале не знал, что Константин Сергеевич долго был без сознания. Вот почему после «Сестер» поклонились только один раз. Он, говорили, упал тут же, на сцене. За кулисами была паника. Ф. Н. Михальский осторожно, чтобы не заметили, пригласил двух знаменитых профессоров – Фромгольца и Маргулиса, бывших на юбилее. Они так и не вернулись на свои места.
Константина Сергеевича увезли домой, конечно, и Марию Петровну тоже. Профессор Маргулис провел у постели Константина Сергеевича почти всю ночь, а утром был созван консилиум. Официально у него признали тяжелый приступ «грудной жабы», а по теперешним понятиям, у него был обширный инфаркт, осложненный впоследствии двухсторонним воспалением легких.
Только по окончании «Колокольни», которую играли как-то отчаянно отважно (ею кончался юбилейный вечер), кто-то из публики узнал о случившемся несчастье, а после узнали и все.
С того вечера Константин Сергеевич никогда больше не играл на сцене. Нас несколько дней не пускали к Зинаиде Сергеевне. В Леонтьевском доме была тревожная тишина.
Через некоторое время наши занятия возобновились, но как бы «под сурдинку». С Владимиром Сергеевичем занятий не было, чтобы звуки рояля не тревожили Константина Сергеевича. Болезнь его протекала трудно, в какие-то дни состояние бывало критическим, и тогда наши занятия отменялись.
В такие вечера мы, тихонько перешептываясь, сидели на лестнице на большом деревянном рундуке[3]. Никому не хотелось уходить из этого ставшего таким дорогим дома.
Страшно было и за Зинаиду Сергеевну, и за Владимира Сергеевича – в таком тревожном и подавленном состоянии они находились, а весь подвальный этаж, где жили оперные студийцы, словно вымер – так тихо там стало.
Зинаида Сергеевна жила в просторной светлой комнате с окнами в сад, задняя часть которой отделялась деревянной перегородкой вроде забора – там она спала, а в передней части комнаты стоял большой стол, где мы и располагались. Вокруг было множество всевозможных вещей, некоторые из них лежали на резных старинных табуретах. Повсюду книги. На подоконниках – какие-то мелочи вперемешку с цветочными горшками и посудой. По углам – сундучки-укладки, на стенах – фотографии, а на самом видном месте – пришпиленный прямо к стене английской булавкой большой конверт с надписью: «На случай моей смерти».
Поначалу обстановка комнаты и особенно конверт на стене отвлекали внимание, хотелось все рассмотреть. Но потом я привыкла и вместе с остальными учениками потихоньку посмеивалась над «порядком» в комнате нашей учительницы.
…Теперь в этой комнате начало экспозиции музея – история рода Алексеевых. В нынешнем доме-музее К. С. Станиславского все в идеальном порядке, а в те далекие времена было не совсем так. Порядок соблюдался в парадных сенях, где черная печь и мраморный стол (только бюста Константина Сергеевича тогда не было). В Онегинском зале стояли разрозненные стулья и несколько разных кресел. В кабинете Константина Сергеевича на диване за круглым столом не было чехла. На спинку дивана булавками прикалывалась простыня, иногда с аккуратной заплаткой, видневшейся над головой или около прекрасного лица нашего великого Учителя.
В остальных комнатах было сумбурно.
Мария Петровна любила писать письма, сидя в постели, – она поздно вставала. В двух ее маленьких комнатках все было вперемешку – книги, папки с записями, очень много писем, плетеные рабочие корзиночки с нитками, вышиванием, пузырьки с лекарствами и длинными на них рецептами. На старинном туалете – увеличенная фотография в раме молодых Марии Петровны и Константина Сергеевича из-под венца и тут же папки с записями, очевидно, для Константина Сергеевича.
Мария Петровна Лилина была тончайшая, величайшего таланта и огромного диапазона артистка. Ей одинаково были доступны самые разные роли – от трагических до остро комедийных, но, будучи женой Константина Сергеевича, она всегда была как бы немного отодвинутой в Художественном театре. Константин Сергеевич ставил жену в положение рядовой артистки. Такой была их необыкновенная скромность. Это был вопрос чести Семьи Станиславских.
Мария Петровна была самой верной ученицей своего гениального мужа и помощницей в создании его Системы. Иногда она даже как бы «подставляла» себя, задавая Константину Сергеевичу вопросы для того, чтобы актеры еще раз услышали и поняли его объяснения.
…Но вернусь к послеюбилейным дням, очень напряженным от страха за Константина Сергеевича.
Когда ему становилось лучше, он тут же включался в работу Художественного и Оперного театров. Постельный режим не позволял прямого общения: у Константина Сергеевича теперь бывали только врачи и самые близкие.
Но, несмотря на строжайший режим, он довольно много говорил по телефону (отводная трубка была у постели), писал деловые письма и свои распоряжения для Художественного театра, а о том, что происходит в Оперном театре, узнавал через брата и сестру.
Константин Сергеевич очень волновался за работу над «Борисом Годуновым». Иногда потихоньку от врачей начинал работать над эскизами для «Пиковой дамы».
Две очень важные главы из его книги «Работа актера над собой» – «Общение» и «Эмоциональная память» – были написаны еще до болезни, но он продолжал вносить в них поправки.
Эта работа имела прямое отношение к нашим занятиям. Зинаида Сергеевна, бывая у Константина Сергеевича, тщательно записывала все услышанное и потом работала с нами на основе этих записей. Нас, конечно, в период болезни к нему не пускали.
Наша маленькая группа к тому времени уже вкусила счастье встреч с Учителем. Через безумное волнение и скованность страхом мы старались понять, казалось бы, простые задачи, и иногда это нам удавалось: увидеть, услышать партнера, «пропустить через себя» и ответить. Это были этюды на общение, самые вроде бы несложные, но как же трудно было убедить Константина Сергеевича в правде того, что мы делали!
Чаще он бывал недоволен нами, и тогда звучало его убийственное: «Не верю!» Но иногда, ухватив какое-то мгновение правды и видя, как Константин Сергеевич всем своим существом помогает не потерять эту правду, а развивать ее и довести до логического конца, мы бывали счастливы.
В такие минуты те, кто не был занят в этюде, неотрывно смотрели на лицо Учителя – в нем все отражалось и становилось понятным без слов.
Константину Сергеевичу становилось то лучше, то наступало резкое ухудшение, и тогда около него круглосуточно дежурили врачи.
Накануне Нового, 1929 года заболела Мария Петровна. Чрезвычайное напряжение физических и моральных сил на протяжении последних месяцев свалило ее. Обо всем этом рассказывается в четвертом томе «Летописи жизни и творчества К. С. Станиславского». Мне же хочется привести небольшую выдержку из письма Ольги Сергеевны Бокшанской от 2 января 1929 года, помещенного в той же летописи.
Здоровье, пишет она, «начало было улучшаться, теперь снова внушает опасения. Последними неутешительными сведениями очень взволновался Вл. Ив. (Немирович-Данченко. – С. П.), который трогательно и глубоко переживает болезнь Константина Сергеевича.
Со времени болезни Константина Сергеевича вся жизнь театра окутана, как сказал вчера на встрече Нового года Вл. Ив., дымкой печали, грусти, опасений»[4].
Наши занятия у Зинаиды Сергеевны в начале 1929 года как-то тускло отражаются в памяти. Все те же разборы по задачам и «задачкам» басен и отрывков из прозы Тургенева, Бунина, других писателей. Наша маленькая группа была какой-то инертной. Все мысли были о другом: что там, в нижних комнатах? Да и Зинаиде Сергеевне было не до нас.
Мы часто ходили в оперный на сценические репетиции «Бориса». Так как мы были «леонтьевскими», нас пропускали свободно.
Было очень интересно наблюдать, как в качестве режиссера работал Иван Михайлович Москвин. Особенно мы любили сцены кошмара. Замечательным Борисом был Николай Панчехин, кроме прекрасных вокальных данных, имевший и недюжинные актерские способности.
Москвин показывал, как Борис, пятясь от видения, споткнувшись о ножную скамеечку, пытается спрятаться за нее от призрака. Эта мизансцена, точно положенная на музыку, производила жуткое впечатление, и Панчехин в этой сцене был великолепен.
Николай Панчехин – один из любимых учеников Станиславского в Оперной студии. Партия Годунова была большой его победой, и, как мне помнится, Константин Сергеевич горячо одобрил эту его работу.
Очень хороша была М. С. Гольцина – Марина Мнишек. Она тоже получила одобрение Константина Сергеевича. Спектакль имел большой успех.
Так прошла зима, а в самом начале мая 1929 года Константин Сергеевич и Мария Петровна уехали в сопровождении врача за границу.
Примерно с марта возобновились наши занятия с Зинаидой Сергеевной. Мы «распахивали» тексты стихов Пушкина, Лермонтова, Блока, Есенина и других поэтов, следуя задаче Станиславского в работе с оперными студийцами над романсом: «Из восьми строк романса надо сделать драматическую повесть».
Занятия по ритмике с Владимиром Сергеевичем по-прежнему проходили в Онегинском зале под метроном и под рояль. Мы делали упражнения на оправдание позы (что и сейчас практикуется в нашей Школе-студии на первом курсе). Еще выполняли этюд «зверинец», когда можно было изображать любое животное, но так, чтобы легко узнавалось, «кто есть кто».
Я эти этюды не любила, стеснялась, но нашла выход: ложилась на пол боком, руки под щекой и на вопрос добрейшего Владимира Сергеевича «Кто вы?» отвечала: «Я рыба, а она спит». Владимир Сергеевич говорил о хвосте, плавниках и жабрах, а я нахально утверждала: «Но она же спит!»
Я никогда не вела дневников, о чем теперь жалею, и поэтому не могу точно назвать весь репертуар, над которым мы работали в отсутствие Константина Сергеевича. Но все, что связано с занятиями, запомнилось легко и навсегда.
Помнится, что с осени 1929 года мы с Зинаидой Сергеевной стали читать и разбирать по задачам – большим и малым – водевили «Спичка между двух огней» и «Лев Гурыч Синичкин». В «Спичке» я была занята, но эта работа меня «не грела», как тогда говорили, а скорее пугала. Я знала, какие требования Станиславский предъявлял к водевилю – его надо было переживать, как драму, даже «как высокую трагедию», а я не могла заставить себя поверить в те «предлагаемые обстоятельства», «зажить» в них, и могущественное «если бы» у меня не возникало. Я мучилась, мне было стыдно, но справиться с собой не могла – не умела.
В куплетах и танцах, которыми занимался с нами Владимир Сергеевич, я ощущала себя тяжеловесной, неуклюжей, и чувство неловкости меня не оставляло. Надо было быть «веселей», а мне было тоскливо. Для труднейшего жанра – водевиля – надо иметь особую, отважную веселость и умение очень серьезно шалить. Это особое актерское свойство, и не всем оно дано. Этим свойством виртуозно владели Михаил Чехов, Степан Кузнецов, Владимир Хенкин, а позднее Вера Марецкая, Ростислав Плятт, Осип Абдулов. Может быть, и сейчас есть актеры, которым это хорошо удается.
По приезде Станиславских мы должны были сдавать работу над водевилями Константину Сергеевичу. Моими партнерами были Красюк, Кристи и Любимова. Для меня это была Голгофа.
Константину Сергеевичу, этому идеально непосредственному зрителю, на нашем показе было скучно, но он терпел, «закусывал» руку (была у него такая привычка), доносилось его «гм, гм», а незанятые студийцы видели его лицо… По окончании возникло долгое молчание, а потом: «Ну-с, что вы сейчас делали?» И далее последовало все то, о чем я уже упоминала. Мне кажется, грозного разноса не случилось потому, что Константин Сергеевич очень любил Зинаиду Сергеевну и берег ее самолюбие и гордость. С Владимиром Сергеевичем было легче, у него был замечательный, легкий характер. Думаю, что без нас между ними разговор был «конкретнее».
К концу 1929 года Зинаида Сергеевна решила делать инсценировку романа Мельникова-Печерского «В лесах» и «На горах», взяв в основу линию Фленушки, то есть то, с чем я пришла в студию. Были скомпонованы три сцены: встреча Флены с Петром Самоквасовым, маленькая сценка с подружками-черницами и большая сцена с Игуменьей – решение Флены о великом постриге.
На роль Игуменьи была назначена Наташа Богоявленская, на роль Петра Самоквасова – Володя Красюк, а я была Флена.
Материал давал простор для фантазии и воображения. Старая Русь, лесной монашеский скит с его строгим укладом, с запретом всего мирского, тайная любовь, свидание с купеческим сыном… В этих «предлагаемых обстоятельствах» мне не было тоскливо, и «могущественное „если бы“» постепенно становилось реальнее. И еще очень манила прекрасная старинная русская речь, которой я уже свободно могла владеть.
Этой работой были очень увлечены и Зинаида Сергеевна, и все участники, остальные нам даже завидовали. Я много читала о том времени, о монастырской жизни. Мне помогало то, что я видела приблизительно таких монашек.
Еще во второй половине двадцатых годов на Никитской стоял женский Никитский монастырь. Ворота его выходили на Кисловский переулок, за невысокой оградой виднелись церковь, колокольня, трапезная и другие службы. Мы со школьными подружками любили заглядывать за эти ворота.
На Страстной (Пушкинской) площади на месте памятника великому Пушкину стоял женский Страстной монастырь, окруженный высокими стенами из красного кирпича с закрытыми воротами, за которыми шла своя таинственная жизнь. Позднее, когда я уже служила в театре, а Страстной монастырь снесли, бывшие монашки брали заказы на стегание одеял и разнообразные тончайшие вышивки для белья, носовых платков и дамских блузок. У меня до сих пор сохранились образчики их великолепного мастерства.
Зинаида Сергеевна очень интересно рассказывала о старине, о разбитых женских судьбах, похожих на судьбы Игуменьи и Флены, знакомила нас с церковными обрядами, учила, как надо двигаться, креститься, кланяться. После продолжительной «застольной» работы мы стали репетировать в Онегинском зале, где колонны были для нас деревьями. Репетиции проходили вечером, когда сцена, уже с приподнятым полом, бывала свободной от оперных репетиций. Одновременно с работой над этой ролью я старалась вникнуть в глубочайший смысл и красоту стихотворений Пушкина («У лукоморья дуб зеленый»), Лермонтова («Белеет парус одинокий»), Блока («Под насыпью во рву некошеном…»), Есенина («Шаганэ ты моя, Шаганэ…»). Это были мои первые попытки работы над стихом, конечно, под руководством Зинаиды Сергеевны. Но основные силы были все же направлены на роль Фленушки, чтобы оправдать надежды и доверие Зинаиды Сергеевны и не осрамиться перед Константином Сергеевичем.
Володя Красюк был очень похож на своего дядю Станиславского в молодости – фигурой, лицом, всем обликом. Но не талантом. Он был красив, хорошо воспитан, послушен, старателен. Иногда во время сцены он вдруг спрашивал: «Тетя Зина, я правильно делаю?» У Зинаиды Сергеевны раздувались ноздри, и она, сдерживая легкое раздражение, говорила: «Прошу продолжать».
Так до осени 1930 года моя жизнь была заполнена занятиями в студии, печатанием якобы нужных бумаг, за которые я получала (благодаря Енукидзе) как раз столько, сколько нужно было для оплаты занятий. Позднее, уже будучи в театре, я узнала, как много добра делал он не только для нас, но и для Художественного театра и его актеров: комнаты (тогда отдельных квартир почти не было), путевки, лечение, выезды «стариков» за границу для лечения и многое другое. Енукидзе очень любил театр и артистов. Он любил делать добро.
В свободное от основных дел время я довольно много ходила в Оперную студию Константина Сергеевича. Там все было «свое».
Как же Станиславский умел добиваться в опере живого общения, необыкновенной пластики, искренности! Иногда, например в «Богеме» или в «Майской ночи», мизансцены строились так, что казалось – петь невозможно, а пели и были живыми людьми, и радостно было не только слушать прекрасное пение, но и участвовать в «жизни человеческого духа» на сцене.
У Константина Сергеевича не было разделения на солистов и хор. Солисты участвовали в хоровых ансамблях, а певцам хора, если оказывались хорошими голосовые и актерские данные, давали и сольные партии.
Летом 1930 года я гостила в Юхнове у дорогих мне Богдановичей. Старшие и мы, молодежь, пошли за грибами, и тут, в лесу, я сначала услышала знакомый голос, куда-то звавший своих спутников, а потом увидела и самого живого Лариосика – Яншина. Я так оторопела от этой внезапной встречи, что бросилась в сторону и пошла напролом к своим, чтобы поделиться этой сенсацией.
В ту пору Михаил Михайлович был худеньким, стройным, спортивным. Тогда в лесу он был элегантен не «по-грибниковски» – в белых брюках, светлой рубашке, с браслетом (вероятно, ручные часы) на очень красивой руке. Руки у него были прекрасные и сохранились такими до последних его дней.
Осенью 1930 года вернулись Станиславский и Лилина. Мы с трепетом ждали, когда дойдет до нас очередь и мы будем вызваны на высший суд.
Нашу работу по Мельникову-Печерскому Константин Сергеевич принял спокойнее, чем водевиль (о чем я уже писала), даже одобрил. Было много указаний Володе Красюку (мы показывали только сцены свиданий). Константин Сергеевич требовал от нас обоих большей органики и глубины. Говорил: «Надо больше любить». И объяснял, что любовь бывает «для себя» и «от себя» и что вторая – жертвенней, сильнее. Он согласился, что работу нужно продолжить, одобрил план инсценировки и предложил Зинаиде Сергеевне дать мне еще задание, другого плана. Я была и счастлива, и испугана ответственностью.
После довольно долгих раздумий Зинаида Сергеевна велела мне (а решала она) читать «Василису Мелентьеву» Островского. Василиса – вдова, очень опытная и смелая женщина, а кем я была тогда?.. Я понимала, что мне дают все очень «русское», чтобы искоренить мое «иноземное», и очень старалась. Начала читать о царствовании Ивана Грозного. Атмосфера совпала с «Царской невестой» и с «Борисом Годуновым».
В то довольно трудное время в моем гардеробе была одна юбка и две блузки – фланелевая и полотняная, которые всегда должны были быть свежими. Юбка висела на «плечиках», отглаженная с вечера, а дома я надевала что-то перешитое из маминого. И еще у меня было платье (тоже перешитое из маминого) для походов в театр.
Однажды со мной произошел казус. Из боязни измять юбку, я надевала ее в последний момент перед выходом в студию. В тот день я, очевидно, торопилась (об опоздании не могло быть речи) и, явившись в Леонтьевский, где на площадке лестницы, ведущей на антресоли, находилась вешалка для верхней одежды, расстегнула пальтишко и ахнула и остолбенела: на мне были только байковые голубые штаны.
Очень воспитанный Володя Красюк ждал, когда можно будет принять мое пальто, чтобы повесить на вешалку, а я в таком виде! На мое счастье, кто-то из девочек пришел раньше. Поняв, в чем дело, они выгнали вниз Красюка и, давясь от смеха, пошли к Зинаиде Сергеевне с рассказом. В результате меня облачили в юбку Зинаиды Сергеевны (она была мне до полу). Тут же мне было сказано, что надо привыкать к костюму и что с этого дня я всегда буду репетировать в таком виде. Так оно и было потом, а в тот момент Зинаида Сергеевна даже не улыбнулась.
Зинаида Сергеевна традиционно устраивала вечера-показы своих учеников. На такие вечера приглашались, конечно, Константин Сергеевич с Марией Петровной, кое-кто из Художественного театра, бывали и почетные гости, в том числе и Енукидзе.
В первый год моего обучения я не участвовала в таком вечере. Потом был юбилей театра, болезнь и отъезд Станиславских, а в их отсутствие никаких торжеств в студии не устраивали. И вот с ранней весны 1931 года мы стали готовиться к вечеру-показу.
Даже сейчас, спустя более шестидесяти лет, я помню мое волнение, доходящее до паники. Вечер был назначен на двадцатые числа мая. Открываться он должен был инсценировкой романа «В лесах», где я все время на сцене. Потом что-то из Пшибышевского – без меня, потом кто-то еще читал, и снова я в роли Василисы Мелентьевой, с монологом «Задумала я думушку»…
К нам, «кружковцам-студийцам», очень хорошо относился Юрий Александрович Бахрушин – сын знаменитого основателя театрального музея. Он, кажется, заведовал постановочной частью оперного театра у Константина Сергеевича. Он обещал Зинаиде Сергеевне, что оденет нас как надо. И правда, костюмы были замечательные. Для Флены – монашеский черный сарафан и все, что к нему полагалось: мягкие черные сапожки и белый платок с каким-то темным орнаментом, а для Василисы Мелентьевой он одел меня пышно – кика[5], нарядный сарафан с расшитыми кисейными рукавами, летник из парчи, красные сапожки на высоких каблуках.
И вот настал этот торжественный для нас день. Ждали гостей из Художественного. Из моих близких должны были быть Богдановичи.
Заметно волновались Зинаида Сергеевна и Владимир Сергеевич – это был и экзамен. А уж мы были почти без памяти от страха.
Одевали нас в библиотеке, примыкавшей к Онегинскому залу. Комнату разделили ширмой. Мы трясущимися руками помогали друг другу одеваться, а потом шли на последнюю проверку к Бахрушину. Мы все были без грима, только перед выходом Юра Бахрушин, благословляя нас, пудрил всех большой пуховкой.
Зинаида Сергеевна и Владимир Сергеевич были уже с гостями.
Не помня себя, вбежала я на сцену и, по мизансцене, спряталась за дальнюю колонну. Первый ряд кресел и стульев был близко от сцены, и я увидела ноги: справа от себя какие-то элегантно обутые мужские, потом полные женские, еще маленькие, нарядные, Р. К. Таманцевой, секретаря Константина Сергеевича, я их узнала. Длинные необыкновенно узкие черные ботинки Константина Сергеевича – вытянутые ноги и ступня на ступню – так он всегда сидел, пока был спокоен. Боже мой! Все это промелькнуло за секунды. Мне надо было произносить текст, начинать сцену с Самоквасовым – Володя сидел, прислонясь к дальней от меня колонне. И вот я вымолвила: «Соловушек слушать? Опоздал, молодец, смолкли соловушки – Петров день на дворе».
Что я делала дальше, было как во сне. Уж очень страшно. Но нам уже тогда внушали, что волнение надо направлять на роль, иначе будет просто паника. Может быть, это и выручило. В зале было тихо. Когда я выбегала со сцены, чтобы тут же вернуться обратно, меня судорожно поглаживали и шептали что-то ободряющее.
Но вот кончились все сцены из Печерского, и мне можно было перевести дух, но тут же был приказ Бахрушина переодеваться на «Мелентьеву». Весь монолог в стихах, а повторить – нет сил. Одели меня, скоро выходить на сцену, а я чувствую, что меня тошнит – вот-вот я осрамлюсь. Бахрушин стоял рядом, взял меня за плечи, сильно встряхнув, прошептал: «Глупости!» И еще: «Воды не дам». Он стал хлопать меня по щекам и пудрить.
От исполнения монолога в памяти осталось, что стояла я, опершись о колонну, и читала в зал, глядя на окна и почти не видя их.
По окончании было довольно шумно в фойе-гостиной. Нам выходить в костюмах в публику не разрешалось. Приходили «за кулисы» Зинаида Сергеевна и Владимир Сергеевич, что-то говорили ласково. Зашла Маргарита Георгиевна Гукова – поцеловала меня. Вся наша «команда» сидела за ширмой в тревожном ожидании – что скажет Сам?
Когда гости разошлись, а мы, переодевшись, поднялись к Зинаиде Сергеевне в ее комнату, она стала нам рассказывать, что из театра были Е. С. Телешева – актриса и режиссер, Н. А. Подгорный, Р. К. Таманцева, еще назвала кого-то, сейчас не помню, а среди почетных гостей был Авель Сафронович Енукидзе. Говорила Зинаида Сергеевна долго, за что-то хвалила, а за что-то порицала, это относилось ко всем участникам. О Константине Сергеевиче сказала, что он будет говорить с нами сам, но, кажется, он доволен. Отпуская нас, Зинаида Сергеевна сказала, что соберет через дня три, а точно сообщит через Володю Красюка. Мы, «артисты», еще долго шептались, сидя на рундуке в «холодных» сенях, а потом пошли провожать друг друга.
Я в то время уже жила с мамой и братом на Покровке, угол Лялиного переулка, в маленьком трехэтажном доме, где на каждом этаже было по одной трехкомнатной квартире. Мы занимали две комнаты, а в третьей жила большая семья, тоже переселенная из Шереметевского переулка. Меня проводили до трамвая «А» – он ходил по Бульварному кольцу и доезжал до Покровских ворот.
Дома меня расспрашивали, но я была так взволнована и измучена, что вразумительно рассказать ничего не могла, только потрясла всех сообщением, что приходил дядя Авель. Маме хотелось, конечно, тут же обсудить все с Богдановичами, но у них, как и у нас, не было телефона.
Уже на следующий день к вечеру под моим окном возник Володя Красюк и сообщил, что завтра к шести часам вечера я должна быть у Зинаиды Сергеевны, чтобы к семи часам явиться к Константину Сергеевичу по его вызову. Сердце у меня оборвалось от страха и от недоумения: за что, в чем я провинилась? Володя ничего не мог мне объяснить.
В назначенное время, чисто вымытая, в наглаженной блузке и начищенных туфлях, я явилась к Зинаиде Сергеевне. Встретила она меня очень сдержанно, сказав, что Константин Сергеевич пожелал послушать, как я читаю, и, приказав мне вспомнить и по возможности повторить все стихи, над которыми мы работали, вышла из комнаты, оставив меня одну. В голове у меня все смешалось, я пыталась повторять то одно, то другое. И казалось, что я не помню ничего. Что греха таить, мы очень боялись Станиславского. Ведь Константин Сергеевич мог быть и очень грозным, его гневные глаза могли испепелить.
Так я и промаялась, ничего толком не повторив. Еще мешала мысль: для чего Он зовет и почему так сдержанна и сурова Зинаида Сергеевна? Но вот она вернулась и, сказав «пойдемте», повела вниз, как на казнь! Спустились, вошли в коридорчик. Вот она, низкая массивная дверь с поперечными медными полосками и с большим тяжелым кольцом вместо ручки… Я стояла как вкопанная. Зинаида Сергеевна постучала. Раздался его голос: «Войдите!» А я боюсь двинуться… Что-то прошептав, Зинаида Сергеевна толкнула дверь, и мы вошли.
Константин Сергеевич сидел на диване за круглым столом, на столе лампа с зеленым абажуром-козырьком, книжка, бумаги сложены, на них карандаш, вазочка с веткой сирени, на блюдце стакан с водой, накрытый белой аккуратной бумажкой. Лицо суровое, глаза пристальные, обычное – «общий поклон» (кажется, я со страху сделала книксен). «Садитесь». Зинаида Сергеевна села, а я продолжала стоять. «Ну-с, где вы учились до нас?» Я прошептала: «В школе». – «Я говорю о специальном образовании», услышала я и в страхе, без голоса, прошептала: «Нигде». После мучительной паузы: «С чего хотите начать?» Я молчала. Голос Зинаиды Сергеевны: «„Желанье славы“. Сосредоточьтесь, не спешите».
И я начала: «Когда любовию и негой упоенный…», потом «На смерть поэта», «О доблестях, о подвигах, о славе», «Под насыпью, во рву некошеном», «Россия, нищая Россия», «Девушка пела в церковном хоре», «Эх, вы сани, а кони, кони!», «Отговорила роща золотая» – Пушкин, Лермонтов, Блок, Есенин. Как я все это читала? И как вообще выдержала? Смотреть на Константина Сергеевича я не могла; перед чтением увидела, что рука козырьком над глазами – это плохой признак. Обращалась я к Зинаиде Сергеевне, и какой Он был все это время – не видела. Наконец прекратились приказания, и я замолчала, тупо уставясь в пол.
От Константина Сергеевича я услышала что-то вроде: «Ну, ну, увидим» и еще что-то совсем тихо. Потом, чуть привстав, он произнес то ли «Всех благ», то ли «Всего наилучшего». Но все сурово, неласково, совсем не так, как на занятиях.
Мы вышли в парадный вестибюль. Зинаида Сергеевна, строго глядя на меня, сказала: из Художественного театра сообщили, что я допущена к прослушиванию и что меня известят. Еще она сказала, что я, наверное, думаю, что всему научилась, говорила о необходимости быть к себе требовательной… Она была очень ревнива – наша «Баба Зина», и не очень охотно отпускала учеников. Например, Н. Богоявленская начинала в студии гораздо раньше меня, а в Художественный театр поступила на несколько лет позднее.
Я была очень растеряна от суровости Константина Сергеевича и от строгих слов Зинаиды Сергеевны. Только потом я уразумела, что так проявлялись их требовательность и ответственность за студию, за свой метод.
Отпуская меня, Зинаида Сергеевна рекомендовала «все вспомнить, все проверить и ждать»!
Сколько дней я ждала в непрерывном страхе, точно сейчас не вспомню, но 27 мая к вечеру под окном у меня опять появился Володя Красюк и сообщил, что на следующий день, 28 мая, к 12 часам я должна быть на Малой сцене для экзамена. У меня тут же от страха сел голос, и я стала сипеть. Володя сказал, что решили (кто – я не спрашивала) показывать сцену Флены и Самоквасова и потом читать, что прикажут. Сказав, что он за мной заедет, Красюк убежал.
В доме началась паника (к тому времени мне из папиных черных брюк и старого серого пиджака соорудили платье – довольно приличное, по тогдашней моде – длинное, как теперь называют, «миди», с белым воротником и манжетами), мытье головы и почти бессонная ночь.
Утром зашел Володя, и мы отправились. Малая сцена – чудесный, старинный особняк, приспособленный под театр. Широкая деревянная лестница в два марша, а внизу у лестницы деревянный рундук, совсем как в Леонтьевском, только меньше. Володя побежал наверх и скоро вернулся, сказав, что идет просмотр самостоятельных работ молодых артистов Художественного театра, а после окончания будут слушать меня.
Сколько мы сидели на этом рундуке в ожидании – не знаю, казалось, целую вечность. Но вот послышался говор, смех – по лестнице спускалась довольно большая группа нарядно одетых молодых людей, актрисы – в крепдешине, в лакированных туфлях, кто-то был узнаваем, но я сидела в остолбенении.
И в этот момент, перегнувшись с верхней площадки, Евгений Васильевич Калужский (я его узнала по «Турбиным») произнес: «Софья Станиславовна, пожалуйста, сюда». Господи! Артисты замолчали, остановились и, отступив, дали мне дорогу. И я пошла. Красюка многие знали. Он был свой, из вспомогательного состава. Его о чем-то спросили и тут же повернули за нами наверх.
В дверях одного из фойе нас встретил мужчина с военной выправкой. Хлопнув Володю по плечу, с полупоклоном сказал мне: «Просим подождать здесь, идет обсуждение, я за вами приду». (Это был один из лучших помощников режиссера – Сергей Петрович Успенский, в прошлом офицер царской армии. Впоследствии мы с мужем дружили с ним.) Через какое-то время он вернулся: «Прошу пройти за мной. Что приготовить из мебели?» Вошли в самое большое фойе Малой сцены, и я увидела у противоположной стены два ряда кресел. Постепенно они стали заполняться. Здесь были почти все «старики», только без Константина Сергеевича и Владимира Ивановича. А также большая группа актеров, которые встретились нам на лестнице.
Довольно скоро вошел пожилой плотный человек с головой патриция. Сдержанный гул смолк.
Для нас поставили два стула рядом – как на эшафоте. С. П. Успенский шепнул мне: «Подойдите, это Василий Григорьевич Сахновский». Я двинулась к нему, не помня себя, и услышала барственный голос: «Благоволите назвать, что вы нам покажете». Ответил за меня Володя. И Сахновский молвил: «Прошу».
Что я делала в сцене свидания Флены с Самоквасовым, я сейчас сказать не смогу, все помнится как в тумане. Кончили. Я жду: сейчас велят стихи читать. И вдруг слышу: «Благоволите завтра в двенадцать часов быть в конторе Федора Николаевича для встречи с Евгением Васильевичем Калужским – за ответом». «А читать?» – спросил Володя. «Не надо. Завтра в двенадцать. Благодарю». И Успенский вывел нас из зала.
Мы вышли на площадь с памятником Свободы, где сейчас стоит Долгорукий, и поплелись в Леонтьевский к Зинаиде Сергеевне. Она была заметно взволнована, подробно расспрашивала. Отвечал Володя, а я еле сдерживала слезы и меня слегка мутило.
