В Кэндлфорд!
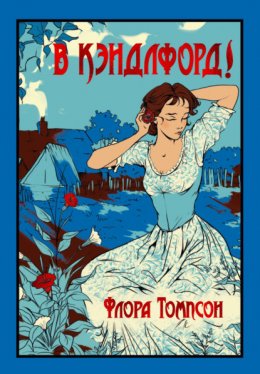
Flora Jane Thompson
OVER TO CANDLEFORD
CANDLEFORD GREEN
© А. А. Рудакова, перевод, 2024
© Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2024
Издательство Иностранка®
В Кэндлфорд!
I
Такие, как есть
– Вот придет лето, одолжим в «Фургоне и лошадях» старушку Полли с тележкой и все вместе отправимся в Кэндлфорд, – объявил отец (уже в десятимиллионный раз, подумалось Лоре). Хотя он вечно твердил про эту поездку, в Кэндлфорде семья еще ни разу не бывала. Дальше ближайшего городка, куда ездили за субботними покупками, они вообще не выбирались.
Однажды кто-то спросил детей, давно ли они живут в своем коттедже, и Лора ответила: «О, много-много лет», а Эдмунд присовокупил: «Всю жизнь»; однако «вся жизнь» мальчика насчитывала тогда пять лет, а его сестре едва исполнилось семь. Вот почему, когда мама сказала им, что самая большая оплошность на свете – родиться бедным, дети не поняли, что и сами уже совершили этот изначальный промах. Они были слишком малы, и им не с чем было сравнивать.
Их дом принадлежал к горстке небольших, окруженных полями коттеджей в трех милях от ближайшего городка и в пятидесяти от крупного города. Кругом простирались плодородные земли, которые память цепко хранила до конца жизни: полосы ребристых коричневых пашен, перемежаемых живыми изгородями из кустов и вязов. Картина эта была неизгладима; при желании можно было вызвать и другие воспоминания: акры молодой зеленой пшеницы, по которым стремительно несутся тени облаков; золото спелых нив; белизна глубоких снегов с цепочками заячьих и лисьих следов, тянущимися от изгороди до изгороди.
Среди этих коричневых, зеленых или белых, в зависимости от сезона, просторов, на небольшой горке, притулилась деревушка – скопление серых каменных стен и блеклых шиферных крыш, бесцветность которых лишь подчеркивалась пышными кронами плодовых деревьев и темной полосой тисовой изгороди. Путникам, шагавшим по большаку, что пролегал в миле отсюда, это селение, должно быть, нередко казалось уединенным и безлюдным; но в действительности место было оживленное, и более внимательный наблюдатель обнаружил бы, что тут кипит жизнь, не менее деятельная и занимательная, чем в колонии кротов.
Во всех здешних коттеджах обитали бедняки. Некоторым – старикам или семействам, разросшимся больше обычного, – жилось похуже, двум-трем семьям в более благополучных обстоятельствах – чуть покомфортнее, чем их соседям, но денег недоставало в каждом доме.
Если кто-то хотел одолжиться, он знал, что больше шести пенсов лучше не просить, а если просьбу встречали с обескураживающим выражением лица, то проситель поспешно прибавлял:
– Если шести не найдется, пожалуй, обойдусь и двумя.
Детям, когда в деревню приезжал бакалейный фургон, выдавали на сласти полпенни или всего один фартинг. Даже на меньшую сумму они накупали столько миндальной карамели или мятных леденцов, что могли часами набивать ими рот. Родителям же приходилось копить несколько месяцев, чтобы приобрести поросенка на откорм или несколько десятков вязанок хвороста на зиму. За исключением самых бережливых, всегда имевших немного денег про запас, к концу недели люди по нескольку дней сидели без гроша.
Но, как тут любили говорить, деньги – еще не все. Как ни беден был местный люд, обитатели каждого из маленьких коттеджей, так похожих друг на друга внешне, считали его неповторимым, ведь это был их «родной дом», или, по-здешнему, «до-ом». Запахи каминного дыма, бекона и капусты, которые встречали и окутывали мужчин, проработавших целый день в поле, на холодном свежем воздухе, казались усталым труженикам такими уютными; отрадно было опуститься в «отцовское кресло» у очага, стянуть тяжелые, в запекшейся грязи, сапоги и, усадив к себе на колени младшенького, прихлебывать крепкий, сладкий чай, покуда «наша мама» готовит ужин.
Старшие ребята весь день проводили в школе, а в хорошую погоду обретались на улице; но, как говаривали матери, дети знали, куда идти, когда проголодаешься, и под вечер они устремлялись домой на ужин и ночлег, словно почтовые голуби или кролики, спешащие в свою норку.
Для женщины дом был совершенно особым местом, ибо в четырех стенах проходили девять десятых ее жизни. Там она стирала, стряпала, убиралась и чинила одежду своего многочисленного семейства; там наслаждалась драгоценным получасовым покоем за чашкой чая перед камином, там несла, как умела, свое бремя и лелеяла редкие радости. Порой, когда гнет забот слегка ослабевал, она находила удовольствие в том, что по-новому переставляла скудные, убогие предметы мебели, переклеивала обои или мастерила из старых лоскутков покрывала и подушки, чтобы украсить свое жилище и придать ему уют; и мало какая женщина оказывалась настолько бедна, что не имела ни единого сокровища, которое можно было выставить напоказ, – какой-нибудь вещицы, хранившейся в семье «с незапамятных пор», или мебели, купленной на распродаже в таком-то поместье или подаренной ей господами, когда она находилась в услужении.
Такие сокровища по прошествии времени приобретали репутацию баснословно дорогих вещей. Дедушка Билла отказался продавать вон тот угловой буфет или эти напольные часы за двадцать фунтов, говорила одна; некий таинственный джентльмен однажды поведал, что огромные рубины и изумруды, украшавшие старую, облезлую металлическую рамку для фотографий, – настоящие, утверждала другая. И вечно твердила, что «в один прекрасный день» отнесет ее ювелиру в Шертон на оценку, но так этого и не сделала. Как и все окружающие, эта женщина понимала, что не стоит подвергать проверке свою любимую иллюзию.
Никто из слушателей не оспаривал ценность подобных сокровищ. Это было бы «неприлично», а кроме того, вещица с похожей легендой имелась почти в каждом доме. Отец Лоры и Эдмунда со смехом говорил, что, поскольку ни у кого из семейства Брэби в жизни не водилось за душой больше двадцати шиллингов, любой, кто предложит им двадцать фунтов за часы, будет тут же с негодованием отвергнут; а что касается рубинов и изумрудов миссис Гаскин, то всякому, у кого есть глаза, видно, что они происходят с того же месторождения, что и материал, из которого изготавливают дешевые однопенсовые стаканы.
– Какая разница, если им нравится так думать? – спрашивала его жена.
Это были работящие, самостоятельные, довольно-таки честные люди. От них частенько можно было услышать: «Провидение помогает тем, кто умеет сам позаботиться о себе». Врожденным чувством юмора они не отличались, зато унаследовали коллекцию шутливых изречений, считавшихся остроумными. Сосед, которого звали помочь передвинуть тяжелый шкаф, являясь, плевал на ладони и говорил: «А вот и я, готов на шиллинг потрудиться и полукроною разжиться». Помимо путаной арифметики, в этой безобидной шутке фигурировала фантастическая сумма, запрашиваемая в качестве вознаграждения. Обычной платой за подобную или чуть более существенную услугу служил бокал пива или стоимость оного.
Тот, кто помогал соседу справиться с каким-либо заковыристым вопросом, цитировал старую поговорку: «Одна голова хорошо, а две лучше», и сосед откликался: «Вот почему дураки женятся», или, если был настроен более приземленно: «Да, особенно если головы овечьи». Поговорку всегда нужно было заканчивать. Нельзя было просто сказать: «Если хочешь убить собаку, не обязательно ее вешать», не услышав в ответ: «Или душить подушкой»; а любое упоминание о деньгах как о корне всех зол влекло за собой непременное: «Однако я от такого корешка не откажусь».
Обсуждение собственных и соседских дел занимало место, которое в современном мире принадлежит книгам и фильмам. Ничего значительного по меркам внешнего мира в деревушке никогда не случалось, и тамошний уклад был совершенно непохож на нынешнее представление о сельской жизни, ибо Ларк-Райз не был ни рассадником порока, ни вертоградом пасторальных добродетелей. Но в жизни любого человеческого существа, какой бы ограниченной она ни была, всегда есть место и затруднениям, и тому, что позабавит стороннего наблюдателя, так что и на этой скромной сцене разыгрывалось много занимательных маленьких драм.
В повседневной жизни Ларк-Райза не имелось ни одного из тех удобств, которые ныне считаются необходимыми: вместо водопровода – общий колодец, вместо канализации – будка во дворе, вместо электрического освещения – свечи и керосиновые лампы. Жизнь была нелегкая, но деревенские обитатели себя не жалели. Они приберегали свою жалость для тех, кого считали настоящими бедняками.
Дети приносили домой из библиотечки воскресной школы книги о лондонских трущобах, которые прочитывались и их матерями. Тогда это была излюбленная тема писателей-беллетристов; целью их, по-видимому, было не столько вызвать возмущение ужасными условиями жизни, сколько обеспечить какой-нибудь сердобольной леди или ребенку выразительный фон повествования. Много было пролито в деревне слез над «Старой шарманкой Кристи» и «Младшим братцем Фрогги». Все жалели, что не могут вызволить из трущоб бедных маленьких сироток и поделиться с ними самым лучшим, что тут имеется.
– Несчастный крошка. Будь у нас возможность взять его к себе, он спал бы в кроватке с нашим маленьким Сэмми, а здешний воздух мигом бы его оживил, – сказала одна женщина про умирающего младшего брата Фрогги, забыв, что он, как она выразилась в другой раз, «всего-то книжный персонаж».
Впрочем, читать о страдальцах было не только печально, но и приятно, ведь это внушало отрадное чувство превосходства. Слава богу, у читательницы имелся в полном распоряжении и целый двухэтажный дом, так что ей не приходилось «ютиться» в одной каморке, и настоящие, к тому же чистые, кровати, а не кучи тряпья в углах вместо постелей.
Для этих людей, так же как для Лоры и Эдмунда, которые росли среди них, деревенская жизнь была совершенно нормальной. За одной гранью этой нормы находилась подлинная беднота, обитавшая в трущобах, а за другой – «джентри», мелкопоместное дворянство. Другого разделения на классы селяне не признавали; хотя им, разумеется, было известно, что и между ними живет несколько «важных людей». У навещавших их священника и врача из городка и денег было побольше, и дома́ получше, чем у ларк-райзцев, но, хотя оба являлись «урожденными джентльменами», к аристократии, обитавшей в огромных загородных домах или наезжавшей в окрестные охотничьи домики, они не принадлежали. Однако одного снисходительно именовали «старым пастором», а другого ласково «нашим доктором» и не относили к какому-либо определенному классу общества.
Джентри мелькали в здешних краях точно зимородки, порхнувшие сквозь стаю воробьев, копошащихся в живой изгороди. На глазах у местных жителей они проносились по деревне в своих экипажах, и дамы в развевающихся шелках и атласе прикрывались крошечными зонтиками с синельной бахромой, чтобы уберечься от загара. Зимой выезжали на псовую охоту: джентльмены – в безукоризненных красных охотничьих камзолах, леди на дамских седлах – в плотно облегавших изящные фигуры черных амазонках. «Выглядят так, будто их расплавили и залили в эти костюмы, верно?» Сырыми, туманными утрами, направляясь к месту сбора, господа пускали своих скакунов рысью, перекликаясь пронзительными голосами, которые было весело передразнивать.
Позднее в тот же день часто можно было видеть, как они несутся во весь опор по пашням, и тогда работники бросали свои орудия и забирались на полевые ворота, чтобы поглазеть на них, или останавливали упряжки, высовывались из-за плугов и, приставив рупором ладони ко рту, кричали:
– Ату, вперед, вперед, улюлю, ату!
Когда экипажи проезжали по деревне, многие женщины, идущие с колодца, ставили ведра на землю и делали реверанс, мальчики почтительно дергали себя за челку, а девочки приседали, как их учили в школе. Лора в такие моменты ощущала неловкость, поскольку отец говорил, что, хотя он согласен, чтобы Эдмунд приветствовал каждую леди (однако весьма надеется, что сын не будет при этом дергать себя за волосы, словно за веревку звонка), но решительно возражает против того, чтобы его дочери приседали, разве что в церкви или перед королевой Викторией, если ей случится тут побывать. Мама смеялась.
– В Риме поступай как римляне, – замечала она.
– Это не Рим, – парировал отец. – Это Ларк-Райз – место, которое Господь создал из того, что осталось после сотворения мира.
При этих словах мама запрокидывала голову и цыкала языком. Она говорила, что некоторые его понятия выводят ее из терпения.
Если не считать редких экипажей и дилижанса, проезжавшего дважды в неделю, по большаку мало кто ездил, разве только фургон пекаря и фермерские повозки, и телеги. Иногда проходила женщина из соседнего села или деревушки, спеша с корзиной для покупок в городок. Тогда считалось сущим пустяком проделать шесть-семь миль, чтобы купить катушку ниток, упаковку чая или шестипенсовый кусок мяса на воскресный мясной пудинг. За исключением дилижанса, появлявшегося лишь по определенным дням, другого транспорта не существовало. Поездка со Стариной Джимми считалась шиком, но и ужасным расточительством, ибо плата за проезд составляла шесть пенсов. Большинство людей предпочитали пройтись пешком и сэкономить шесть пенсов, чтобы потратить их там, куда они направлялись.
Впрочем, хотя этого никто еще не осознавал, транспортная революция началась. По дорогам уже носились, вихляя из стороны в сторону, дорогие «пенни-фартинги», предвещая, подобно первым ласточкам, грядущее лето автобусов, автомобилей и мотоциклов, которым вскоре предстояло преобразить сельскую жизнь. Как же быстро колесили эти новомодные велосипеды и какими опасными казались! Прохожие, встречая подобное средство передвижения, чуть ли не вжимались в живую изгородь, ведь почти каждую неделю в воскресной газете появлялись истории о людях, сбитых велосипедами, и печатались письма читателей, где говорилось, что велосипедистов не следует пускать на дороги, которые, как всем известно, предназначаются только для пешеходов и гужевых повозок. «У велосипедов, как у поездов, должны быть собственные дороги», – гласило общее мнение.
И все же это было захватывающее зрелище: человек, стремительно рассекавший пространство на одном высоком колесе, пока другое маленькое колесико беспомощно болталось позади. Вас поражало, как ему удается сохранять равновесие. Неудивительно, что у него такой ошалелый вид! Подобное выражение называли «лицом велосипедиста», и газеты предсказывали, что из-за этого занятия следующее поколение вырастет горбатым и издерганным.
Езду на велосипеде считали мимолетным поветрием, а велосипедистов в обтягивающих темно-синих костюмах с бриджами и кепках со значками своего клуба – посмешищами. Ни один деревенский житель, выбегавший к своей калитке, чтобы поглазеть на проезжающего мимо велосипедиста, надеясь и одновременно страшась, что тот упадет, не поверил бы, если бы ему сказали, что через несколько лет в каждом доме заведется по меньшей мере один «костотряс», на котором мужчины станут ездить на работу, а молодые женщины, покончив с домашними хлопотами, будут запросто оседлывать «железного коня» и, крутя педали, отправляться в городок, чтобы пройтись по магазинам. И уж тем более усомнились бы, если бы им поведали, что многие из них доживут до той поры, когда совет графства милостиво выдаст каждому деревенскому ученику по велосипеду и дети будут ездить в школу «совсем задаром», как тут выражались.
В остальном мире люди сооружали высоченные фабричные трубы и отводили многие мили зеленых лугов под убогие жилища для рабочих. И без того большие города обрастали десятками дорог и пригородных вилл. Для удовлетворения потребностей быстро увеличивавшегося населения строились новые церкви, часовни, железнодорожные станции, школы и гостиницы. Но обитатели Ларк-Райза не видели этих перемен. Они жили далеко от промышленных районов, и их окружение оставалось таким, каким было с самого их рождения. За много лет в маленьком селении в полях не прибавилось ни одного коттеджа, и, как оказалось впоследствии, в этом виде ему суждено было просуществовать еще по меньшей мере полвека; возможно, оно останется таким навсегда, ведь облик Ларк-Райза не изменился по сей день.
Престол занимала королева Виктория. Она прочно обосновалась там еще до рождения Лориных родителей, поэтому девочке и ее брату казалось, что королева была и будет всегда. Но многие старики еще помнили ее коронацию и могли поведать, как во всех окрестных селах целый день звонили в церковные колокола, жарили бычьи туши, а ночью жгли костры.
По утверждению священника, подданные называли королеву «нашей маленькой английской розой», и Лора частенько думала об этом, изучая портреты Виктории в рамке за стеклом, висевшие на почетном месте во многих коттеджах. С портретов смотрела полная, немолодая, довольно-таки сердитая особа с ярко-голубой лентой ордена Подвязки на груди и короной на голове, такой крошечной, что по сравнению с ней лицо казалось огромным.
– Как она держится? – спрашивала Лора, потому что ей чудилось, что при малейшем шевелении корона тотчас свалится.
– Не волнуйся, – успокаивала ее мама, – она продержится на этой голове еще много лет, вот увидишь.
И в самом деле, корона продержалась еще лет двадцать.
Для всей остальной страны королева уже не была «нашей маленькой английской розой». Она сделалась «королевой-императрицей» или «Викторией Добродетельной, матерью своего народа». В деревне ее называли «старой королевой» либо «бедной старой королевой», ибо разве она не была вдовой? И говорили, что ей тоже приходится нелегко с этим ее сыночком. Впрочем, все соглашались, что Виктория хорошая королева, а когда у них спрашивали почему, отвечали: «Потому что она снизила цену на четырехфунтовую буханку» или: «Ну, при ней ведь у нас мир, не так ли?»
Мир? Ну разумеется. Война была чем-то таким, о чем читали в книгах, штукой довольно захватывающей, если бы не приходилось погибать бедным солдатам; впрочем, все это было давно и далеко, а в наше время случиться никак не могло.
Однако война была не так давно, поведал Лоре и Эдмунду отец. Он сам родился в день Альминского сражения[1]. Тогда мы сражались с русскими, суровым и жестоким народом, который считал, что правда в силе, но обнаружил, что ошибался. Он не смог сделать рабами свободных людей.
Еще был старик, который являлся раз в несколько месяцев, играл на дудочке и просил милостыню. Его прозвали Одноглазым Хромушей, потому что он потерял под Севастополем глаз и часть ноги. Одна штанина у него доходила только до колена, и культя опиралась на так называемую деревянную ногу, хотя человеческую ногу та не слишком напоминала и в действительности представляла собой слегка сужающуюся книзу деревяшку, заканчивавшуюся железным наконечником. «Пошкандыбал», – говорили про Одноглазого Хромушу.
Однажды старик Хромуша при Лоре рассказывал их соседу о том, как лишился конечности. Его задело пушечным ядром, и он провалялся на поле боя незамеченным целые сутки. Затем пришел хирург и сразу же отпилил раздробленную голень.
– А я только орал, – говорил калека, – особенно когда он окунул обрубок в ведро с кипящей смолой. Это было до того, как пришли сестрички.
Он имел в виду сестер милосердия. Лора знала, что это значит, потому что в книге о «леди со светильником», которую читала ей мама, было изображение Флоренс Найтингейл[2], чью тень целовали раненые.
Но эти рассказы, кажется, ничуть не приближали войну в Крыму к той эпохе, в которую жили Лора и Эдмунд, и когда позднее они читали в своих старомодных книжках повести о хороших детях, помогавших матерям вязать и сворачивать бинты для солдат, сражавшихся в России, война и тогда представлялась Лоре и Эдмунду столь же неправдоподобной, как любая сказка.
Солдат – уроженцев Ларк-Райза считали не воинами, а молодыми искателями приключений, которые пошли в армию, потому что это был единственный способ повидать мир, перед тем как они остепенятся, женятся и встанут за плуг. Судя по их письмам, которые часто зачитывались вслух односельчанам, собиравшимся у порогов коттеджей, единственными врагами, с которыми им доводилось сталкиваться, были песчаные бури, москиты, тепловые удары и малярия.
Испытания, выпавшие на долю Лориного дяди Эдмунда, были иного рода, поскольку он находился в Новой Шотландии, где можно было отморозить себе нос. Но он, само собой, служил в королевских инженерных войсках, как и все военные по отцовской линии, ведь не зря же они владели ремеслом? В семье это давало повод к некоторому снобизму. В те наивные времена человек, которого родители отдали в ученики к какому-нибудь мастеровому, считался уже состоявшимся в жизни. «Вложите ему в руки ремесло, и он всегда будет надежно обеспечен», – говорили люди о каком-нибудь многообещающем парнишке. Им еще предстояло сполна уяснить смысл таких слов, как «депрессия» и «безработица». Так что в «крайнем доме» речь всегда шла про королевские инженерные войска, даже при матери Лоры и Эдмунда. В ее семье предпочтение отдавали полевой артиллерии, разумеется, тоже королевской, хотя на этом внимания не заостряли.
И инженеры, и артиллеристы несколько свысока взирали на полк графства, а тот, в свою очередь, свысока взирал на милицию. Без сомнения, у солдат милиционных войск также имелись свои мерила; вероятно, они свысока взирали на пассивных молодых людей, оставшихся дома, «парней, у которых не хватило удали пойти в армию». Те, кто отваживался вступить в милицию, редко задерживались в ней надолго. Почти все они еще до завершения первого этапа подготовки отправляли родителям письма, где сообщали, что прикипели к прекрасной солдатской жизни и решили перейти в «регулярные». Потом они приезжали домой на побывку в алых мундирах и маленьких круглых шапочках и прогуливались по деревне, покручивая тросточками и поглаживая свои новые усы, после чего отправлялись за море, в Индию или Египет. У тех, кто оставался дома, развлечений было немного: Рождество, праздник урожая и ежегодный сельский пир. В те дни не было ни кино, ни радио, ни экскурсий, ни танцев в сельских клубах! Летом несколько юношей и мужчин помоложе играли в крикет. Один парень считался в этих краях хорошим боулером и иногда набирал команду, чтобы провести игру в какой-нибудь из окрестных деревень. Как-то на пороге его дома произошел любопытный разговор. Вышедшая из экипажа дама попросила, вернее, приказала ему собрать команду для игры с «юными джентльменами», имея в виду своих сыновей, приехавших на каникулы, и их друзей. Естественно, Фрэнк захотел выяснить, насколько сильны соперники, с которыми ему предстояло сразиться.
– Полагаю, мэм, вы желаете, чтобы я позвал умелых игроков? – почтительно осведомился он.
– Конечно, – ответила дама. – Юным джентльменам по душе хорошая игра. Но пусть команда будет не слишком сильная. Джентльменам не хочется проиграть.
– И это, по ее мнению, называется крикетом, – с широкой улыбкой заметил Фрэнк вслед удаляющейся собеседнице.
Это сельское общество отделяют от нас пятьдесят с небольшим лет; но в смысле манер, обычаев и условий жизни – целые столетия. Не считая того, что соломенная кровля уступила место черепичной, а старинный открытый очаг сменился встроенной решеткой-жаровней, коттеджи оставались такими же, какими жилища бедняков были на протяжении многих поколений. Люди по-прежнему питались обычной деревенской едой, пока еще предпочитая ее новым продуктам фабричного производства, с которыми уже познакомились. Мужчины постарше по-прежнему носили длинные крестьянские рубахи, заявляя, что одна добротная рубаха переживет двадцать новых готовых костюмов, какие начали покупать молодые люди. Белоснежная, выстиранная вручную рубаха с искусно сшитой затейливой кокеткой, безусловно, выглядела куда живописнее грубых, плохо сидящих фабричных «пинжаков».
Женщин мода волновала больше, чем мужчин, но их усилия соответствовать последним веяниям ограничивались «воскресными нарядами», которые редко доставали из коробок, хранившихся на втором этаже. В повседневной жизни деревенские жительницы довольствовались большим, тщательно отглаженным белым фартуком, прикрывавшим заплаты и штопку. Чтобы дойти до колодца или до соседнего дома, хозяйка набрасывала на плечи, а в непогоду и на голову, клетчатую шерстяную шаль. А надев в придачу крепкие башмаки-паттены, она была готова ко всему.
Обитатели Ларк-Райза во многом еще походили на своих предков; но перемены уже подкрадывались к ним, хотя и медленно. В каждом доме читали еженедельную газету, которую покупали или одалживали, и хотя ее по-прежнему издавали образованные авторы для образованных читателей, так что нашим деревенским интеллектуалам порой приходилось поломать голову над их идеями, мало-помалу идеи эти добирались и сюда.
Необходимость ломать голову над идеями была естественна для поколения, воспитанного на Библии. Отцы этих людей считали «Слово Божье» единственным надежным проводником в нелегкой жизни. Священное Писание было для них и занимательным чтением, и сокровищницей слов и изречений, и поэтическим сборником – для тех, кто умел оценить поэзию. Многие пожилые люди по-прежнему считали каждое слово Библии истиной в буквальном смысле. Другие уже не были в этом убеждены; например, история об Ионе и ките требовала недюжинной доверчивости. А вот газетам верили все. Фраза «Я прочел об этом в газете, стало быть, это правда» была рассчитана на то, чтобы положить конец любому спору.
II
Малая родина
Лора пришла в этот мир холодным декабрьским утром, когда поля были покрыты глубокими сугробами, а дороги занесены снегом. В спальне Лориной матери, так же как и в других деревенских коттеджах, камина не было, и наверх носили нагретые в печи и обернутые фланелью горячие кирпичи, терявшие по пути тепло.
– Ох, как же мы мерзли, как мерзли, – повторяла мама, рассказывая ту историю, и Лоре нравилось это «мы». Оно свидетельствовало о том, что даже новорожденный малыш, никогда еще не бывавший за пределами комнаты, в которой появился на свет, уже являлся личностью.
Жизнь ее родителей была не столь тяжкой, как у большинства соседей, ведь Лорин отец был каменщиком и зарабатывал больше, чем батраки на ферме, хотя в восьмидесятые годы жалованье такого вот квалифицированного ремесленника было немногим больше нынешнего пособия по безработице.
Отец Лоры не был уроженцем этих краев; несколькими годами ранее его отправила туда строительная компания, занимавшаяся реставрацией церквей в округе. Это был опытный мастер, любивший свое дело. Говорили, будто он копировал и заменял обветшавшие детали резного убранства так, что подмену не сумел бы обнаружить и сам создатель резьбы. Отец занимался резьбой и дома, в небольшой столярке, которую построил рядом с коттеджем. Три его работы – лев, ландыши, растущие у корней дерева, и головка ребенка, возможно Эдмунда или Лоры, – украшали гостиную. Насколько искусны были эти изделия, Лора так и не выяснила, поскольку они покрылись сажей и были выброшены на свалку прежде, чем она повзрослела и смогла составить о них ясное представление; однако ей было приятно знать, что отец, по крайней мере, обладал творческим импульсом и художественными навыками, пусть и несовершенными.
К тому времени, когда реставрация завершилась, он женился и обзавелся двумя детьми, и, хотя этот человек никогда не питал любви к Ларк-Райзу и, в отличие от своей жены и детей, так и не влился в тамошнее маленькое общество, когда его товарищи по работе уехали, он остался и стал трудиться обычным каменщиком.
В этих краях по-прежнему много строили из камня. Один загородный дом сгорел дотла, и его пришлось отстраивать заново; к другому решили добавить новое крыло; также Лорин отец мог изготовить надгробную плиту, возвести коттедж или стену, сложить камин или, по необходимости, несколько рядов кирпичей. От мастерового ждали, что он возьмется за все, что относится к его ремеслу, и тот, кто умел больше остальных, считался лучшим работником. Эпоха специалистов еще не настала. Впрочем, каждый мастер должен был ограничиваться своим делом. Лора помнила, что однажды, когда из-за морозов отец был вынужден остаться дома, он случайно обмолвился при жене, что у плотников нынче много заказов, а та, зная, что в юности он успел подвизаться во всех мастерских, как было принято в ту пору у сыновей строителей, поинтересовалась, почему он не попросится на плотницкую работу. Отец рассмеялся и ответил:
– Плотникам это не понравится! Они скажут, что я браконьерствую, и посоветуют заниматься своим ремеслом.
Он трудился в строительной компании в городке тридцать пять лет: сперва каждое утро и вечер проделывал по три мили пешком, впоследствии ездил на велосипеде. Работал с шести утра до пяти вечера и, чтобы не опоздать, большую часть года был вынужден выходить из дома затемно.
В самых ранних Лориных воспоминаниях отец представал худощавым, стройным молодым человеком лет под тридцать, с горящими темными глазами и черными, как вороново крыло, волосами, но притом светлым, свежим цветом лица. Из-за белой пыли, неизбежной при его работе, обычно он носил одежду из прочной светло-серой шерстяной материи. Спустя многие годы после смерти этого постаревшего, озлобившегося человека Лора будто въяве видела, как он в повязанном вокруг пояса белом фартуке, с висящей на плече корзиной с инструментами и сдвинутой на затылок черной широкополой шляпой шагает домой по обочине дороги с таким видом, точно, по выражению деревенских жителей, «скупил землю по одну сторону дороги и подумывает о том, чтобы скупить по другую».
Даже в темноте его можно было узнать по походке, более легкой и энергичной, чем у других мужчин. Да и ум у него тоже был быстрее, а язык лучше подвешен, ибо он принадлежал к иному кругу и воспитывался в иной среде.
Некоторые соседи считали Лориного отца «самомнительным» гордецом, но терпели его ради жены, и отношения его с окружающими, во всяком случае внешне, были мирными – особенно во время выборов, когда он взбирался на доску, положенную на два пивных бочонка, и излагал гладстоновскую программу, а Лора, глаза которой оказывались на одном уровне с его выходными ботинками на пуговицах, внутренне трепетала, опасаясь, как бы над ним не насмеялись.
Его аудитория, слушателей двадцать или около того, смеялась довольно много, но не над ним, а вместе с ним, поскольку оратором он был занимательным. Никто из них не догадывался (и, вероятно, отец и сам еще не начал подозревать), что перед ними потерянный, надломленный человек, заблудившийся в жизни, к которой он не принадлежал, и по собственной слабости оторванный от нее до конца своих дней.
Он уже начал задерживаться где-то после работы. Мама, рассказывая детям сказку на ночь, нередко бросала взгляд на часы и говорила: «Куда подевался наш папа?» или, если дело уже шло к ночи, сурово замечала: «Ваш отец снова припозднился»; когда же он наконец являлся, лицо у него полыхало и он был словоохотливее, чем обычно. Впрочем, падение его только начиналось. Еще несколько лет все шло хорошо или, во всяком случае, сносно.
Коттедж их принадлежал миссис Херринг. Она с мужем сама жила там некоторое время, прежде чем его сняли родители Лоры, но, поскольку мистер Херринг когда-то был конюхом и имел пенсию, а миссис Херринг гордилась своим высоким положением, в Ларк-Райзе они никогда не были ни счастливы, ни любимы. Ее чувство превосходства еще можно было вытерпеть и даже подыграть ему, ведь, как говорили некоторые соседи, «свечку надо поднести к огню», но оно сопровождалось пороком, которого здесь не терпели, – скаредностью. Миссис Херринг не только держалась особняком, чем сама похвалялась, но и тряслась над каждым куском, вплоть до последней шкварки, когда готовила лярд[3], и последнего кочна капусты со своего огорода. «До того скупа, что и ниточку жаворонку на чулки пожалеет», – вот какую репутацию она себе составила.
Миссис Херринг, со своей стороны, жаловалась, что деревенские жители – народ грубый и неотесанный. Здесь не было людей, которых можно было пригласить поиграть в карты, она скучала по обществу и давно уже хотела перебраться поближе к замужней дочери, и вот однажды в субботний день к ней заглянул молодой каменщик, подыскивавший коттедж недалеко от работы. Она оказала новым жильцам любезность, очень быстро съехав, но не произвела на тех большого впечатления, поскольку запросила высокую плату, полкроны в неделю – больше, чем платили остальные арендаторы в деревне. Соседи вообще полагали, что миссис Херринг никогда не сдаст дом: кто может позволить себе столь дорогое жилье?
Лорины родители, лучше осведомленные о городских ценах, решили, что дом того стоит, поскольку он представлял собой два небольших коттеджа с соломенными крышами, объединенные в один, с двумя спальнями, и при нем был хороший сад. Конечно, по их словам, в нем недоставало городских удобств. Пока они сами не купили решетку-жаровню и не установили ее в так называемой прачечной – нижней комнате второго коттеджа, готовить воскресное жаркое было негде, к тому же было утомительно ходить за водой к колодцу, а в сырую погоду таскаться под зонтиком в уборную в саду. Зато в коттедже имелась уютная гостиная с полированной мебелью, полками, уставленными разноцветной посудой, и красно-черными дорожками, устилавшими вытертый плиточный пол.
Летом окно постоянно держали открытым, и в комнату заглядывали мальвы и другие высокие цветы, мешаясь с геранями и фуксиями, стоявшими на подоконнике.
В комнате этой была «детская». Так ее порой называла мама, когда дети вырезали картинки и оставляли на полу обрезки.
– Ведь эта комната – детская, – говорила она, на мгновение забывая, что детские, в которых она начальствовала до замужества, обычно считались у нее образцом чистоплотности.
У этой комнаты имелось одно преимущество перед большинством детских. В ней была дверь, выходившая прямо на садовую дорожку, и в хорошую погоду детям разрешалось бегать из дома в сад и обратно. Даже когда шел дождь и в выемки в дверных косяках по деревенскому обычаю вставляли доску, чтобы дети не выбегали наружу, они все равно могли перегибаться через нее и подставлять дождю ладони, наблюдать за птицами, хлопающими крыльями по лужам, вдыхать запахи цветов и мокрой земли, напевая хором: «Дождик, дождик, перестань, лучше завтра к нам нагрянь».
Сад был больше, чем им было нужно в ту пору, и один его угол беспрепятственно зарастал буйными кустами смородины, крыжовника и малины, окружавшими старую яблоню. Эти джунгли, как называл их отец, занимали всего несколько квадратных футов, но ребенок пяти-семи лет мог забираться туда и играть, будто он заблудился, или устраивать в зеленых зарослях домик. Лорин отец вечно твердил, что надо бы заняться делом – обрезать ветви давно не плодоносившей яблони и кусты, чтобы дать им больше света и воздуха, но он так редко бывал дома днем, что руки у него долго не доходили до сада, и дети продолжали устраивать в зарослях домики и, оседлывая нависающие над землей ветви яблони, раскачиваться на них.
Оттуда им был виден коттедж и мама, которая сновала из дома на улицу и обратно, выбивала коврики, гремела ведрами и драила каменные плиты перед порогом. Порой, когда она уходила к колодцу, Лора и Эдмунд бежали с ней, она поднимала их и, крепко держа в руках, давала посмотреть вниз, на свои крошечные отражения на поверхности воды, окаймленной склизкими зелеными камнями.
– Вы никогда не должны ходить сюда одни, – наказывала она. – Я знала маленького мальчика, который утонул в таком вот колодце.
Дети, конечно, любопытствовали, где, когда и почему он утонул, хотя слышали эту историю, сколько себя помнили.
– Где была его мама? Почему крышка колодца оказалась открыта? Как его вытащили? Он был совсем-совсем мертвый? Как дохлый крот, которого мы видели однажды под изгородью?
Летом за их садом простирались поля пшеницы, ячменя и овса, которые колыхались, шелестели и наполняли воздух пыльцой и запахами земли. Эти поля были большие, ровные и тянулись до дальней живой изгороди с рядом деревьев. В то время изгородь отмечала для детей границу их мира. Лора и Эдмунд наизусть знали очертания всех этих деревьев, высоких и маленьких, а также одного кряжистого, густого и приземистого дерева, похожего на притаившегося зверя, и разглядывали их, как в гористой местности дети разглядывают далекие вершины, где никогда не бывали, но которые так им знакомы.
За пределами их мирка, ограниченного теми деревьями, лежал, как им поведали, большой мир с другими деревнями, селами, городами и морем, а за морем были другие страны, где люди говорили на языках, отличавшихся от их собственного. Так рассказывал отец. Но до тех пор, пока дети не выучились читать, у них отсутствовала мысленная картина этого мира и имелись лишь отвлеченные представления о нем; зато в их собственном маленьком мирке в границах, обозначенных деревьями, всё казалось гораздо крупнее и ярче, чем было на самом деле.
Лора и Эдмунд знали каждый крошечный холмик в полях, каждую сырую ложбинку, где молодая пшеница делалась выше и зеленее, и берег, поросший белыми фиалками, и особенности каждой живой изгороди – с жимолостью, дикими яблоками, сизовато-синим терном или длинными побегами брионии, усыпанными ягодами, сквозь которые, будто сквозь церковный витраж, просвечивало алеющее солнце. «Но не вздумайте к ним даже прикасаться, иначе через руки отравите пищу!»
Им были известны и звуки разных времен года: пение невидимых в вышине жаворонков над зеленой пшеницей, громкий железный стрекот механической жатки, бодрые окрики пахарей «Тпру-у» и «Пошла-а», хлопанье крыльев вспорхнувшей над оголенной стерней скворчиной стаи.
Здесь витали тени не только плывущих по небу облаков и кружащих над нивами птичьих стай. Еще бродили истории о привидениях и колдовстве, которым и верили, и не верили. Никому не хотелось очутиться по наступлении темноты на перекрестке, где схоронили самоубийцу Дики Брэкнелла, пробив его тело колом, или приближаться к стоявшему в поле амбару, где он повесился еще в начале века. Поговаривали, что там видели дрожащие огоньки и слышали клокочущие звуки.
Далеко в полях, на опушке леса, находился пруд, который, по слухам, был бездонным и в нем обитало чудовище. Никто не мог точно сказать, как это чудовище выглядело, ведь ни один человек его ни разу не видел, однако считалось, будто оно напоминает большого, размером, пожалуй, с вола, тритона. Дети называли этот водоем «чудищевым прудом» и никогда к нему не приближались. Туда вообще мало кто ходил, поскольку пруд отделяла от полей полоса необрабатываемой земли и тропинки рядом с ним не было. Некоторые отцы и матери даже не верили, что пруд существует. Они утверждали, будто это просто глупая старая сказка, которой люди пугали себя когда-то. Но пруд существовал, потому что однажды Эдмунд и Лора, уже заканчивавшие школу, прошагав несколько пашен, продравшись сквозь множество живых изгородей и пустырь, заросший сухим чертополохом и крестовником, остановились, наконец, перед темным, тихим, притаившимся в тени деревьев прудом. Никакого чудовища там не было – только черная вода, темные деревья, угасающее небо и тишина, такая глубокая, что брат с сестрой могли слышать стук собственных сердец.
Ближе к дому, у ручья, росла старая бузина, из которой, если рассечь кору, якобы текла человеческая кровь, и все потому, что это было не обычное, а ведьмино дерево. Поколение назад мужчины и молодые парни застали одну женщину за подслушиванием под окном у соседей и гнались за ней с вилами, пока та не добежала до ручья. Но перебраться через поток она, будучи ведьмой, не смогла и превратилась в бузину на берегу.
Должно быть, ведьма снова обернулась женщиной, ибо на следующее утро она на глазах у всех, как обычно, отправилась на колодец за водой; эта нищая, уродливая, сварливая старуха отрицала, что накануне вечером выходила за порог своего дома. Но дерево, которого раньше никто не замечал, по-прежнему росло у ручья; оно стояло там и пятьдесят лет спустя. Однажды Эдмунд и Лора взяли столовый нож и собрались сделать надрез на коре, но мужество покинуло их. «А вдруг действительно потечет кровь? Вдруг бузина обернется ведьмой и бросится за нами?»
– Мама, – спросила однажды Лора, – существуют ли сейчас ведьмы?
И мать серьезно ответила:
– Нет. Похоже, все вымерли. В мое время они уже бесследно сгинули; но когда я была в вашем возрасте, в живых еще оставалось много стариков, знававших ведьм или даже заколдованных ими. И, конечно, – добавила она, подумав, – нам известно, что ведьмы существовали. О них говорится в Библии.
Это был решающий довод. Все, о чем говорилось в Библии, должно было быть правдой.
Эдмунд, в ту пору тихий, задумчивый маленький мальчик, имел обыкновение задавать вопросы, ставившие маму в тупик. Соседи утверждали, что он слишком много думает, пусть лучше побольше играет, однако привечали его за миловидность и очаровательные старомодные манеры. Если только он не забрасывал их вопросами.
– Я тебе не скажу, – отвечал очередной загнанный в угол Эдмундом взрослый. – Если скажу, ты будешь знать столько же, сколько я. А кроме того, какое тебе дело, откуда берутся гром и молния? Ты их слышишь и видишь; счастье, если они не поразят тебя насмерть, довольствуйся этим.
Другие, более доброжелательные или же более разговорчивые, сообщали Эдмунду, что гром – это глас Божий и что кто-нибудь, возможно сам Эдмунд, согрешил, вот Бог и прогневался; или объясняли, что гром вызывается столкновением туч; или предупреждали мальчика, чтобы во время грозы он держался подальше от деревьев, потому что одного человека, который прятался под деревом, убило насмерть, часы в его кармане расплавились и потекли по ногам, точно ртуть. Кто-нибудь обязательно цитировал:
- Под дубом молнию привлечешь,
- Под вязом безжизненный упадешь,
- Под ясенем вечный покой обретешь.
И Эдмунд погружался в себя, чтобы осмыслить полученную информацию.
Это был высокий, стройный мальчуган с голубыми глазами и правильными чертами лица. Одевая сына на дневную прогулку, мама целовала его и восклицала:
– Должна сказать, таким ребенком гордилась бы и родовитая семья. На мой взгляд, он ничем не отличается от какого-нибудь юного лорда, а что до ума, то он даже слишком умен!
Лора, отправляясь на эти прогулки в туго накрахмаленном платье, с белым шелковым шарфом, завязанным бантом под подбородком, и в оборчатых панталончиках, должно быть, выглядела опрятной, старомодной особой. Соседки, обсуждая девочку в ее же присутствии, называли ее «странноватой», потому что у нее были темные глаза и соломенные волосы, а такое сочетание они не одобряли.
– Жаль, что у нее не ваши глаза, – говорили они ее голубоглазой матери. – Пускай бы даже у нее были темные волосы, как у отца, всё лучше, чем теперь – ни то, ни се. Про такую масть говорят: ни рыба ни мясо. Но ты, деточка, – обращались они к Лоре, – не переживай. Красота – это еще не все; ничего не поделаешь, если ты отлучилась, пока ее раздавали. Зато здоровенькая, – утешали они мать. – Щечки вон какие румяные!
– С тобой все в порядке. Всегда будь чистой и опрятной, старайся иметь приятный, любезный вид – и будешь не хуже других, – говорила Лоре мама.
Но Лору это не устраивало. Она была одержима улучшением своей внешности. Изменить цвет глаз девочка не могла, зато попыталась покрасить волосы тушью, которую нанесла на прядки с помощью новой отцовской зубной щетки. В результате ее как следует вздули, и ей пришлось при свете дня лежать в кровати с только что вымытыми волосами, заплетенными в мелкие тугие косички, от которых у нее разболелась голова. Однако, к великой радости Лоры, волосы у нее вскоре сами начали темнеть и, после многих напрасных опасений, например, что шевелюра порыжеет, приобрели респектабельный каштановый оттенок, вполне неприметный.
Некоторые Лорины воспоминания о тех давних годах сохранились в виде отдельных маленьких эпизодов, никак не связанных ни с предыдущими, ни с последующими событиями. К примеру, ей запомнилось, как она шла с отцом по заиндевелым полям, держась маленькой ручкой в вязаной перчатке за его большую руку, тоже в перчатке, и на стерне под их ногами хрустели маленькие льдинки; потом они добрались до сосняка, пролезли под жердью и зашагали по рыхлой, мягкой земле под высокими темными деревьями.
Поначалу лес был так сумрачен и безмолвен, что было почти страшно; но вскоре отец и дочь услышали звуки работающих топоров и пил и вышли на вырубку, где мужчины валили деревья. Там был построен шалаш из сосновых веток, а перед ним горел костер. В воздухе разливался резкий хвоистый запах дыма, голубые клубы которого плыли по вырубке и заволакивали ветви еще не поваленных деревьев, высившихся над ними. Лора с отцом сидели на стволе дерева у костра и пили горячий чай, который им налили из жестяной банки. Потом отец набил принесенный мешок поленьями, маленькую Лорину корзинку наполнили глянцевитыми коричневыми сосновыми шишками, и они ушли. Должно быть, отправились домой, хотя обратная дорога бесследно испарилась из Лориной памяти: остались только воспоминания о веселом чаепитии вдали от дома и красоте потрескивающего пламени и голубого дыма на фоне сине-зеленых сосновых ветвей.
Еще Лоре запомнилось, как крупная рыжеволосая девушка в ярко-синем платье порхала по лугу в поисках грибов, а мужчина, стоявший у ворот, вынул изо рта глиняную трубку и, прикрыв ладонью рот, прошептал товарищу:
– Если за этой девицей не приглядывать, она падет прежде, чем ее отправят к алтарю.
– Пэтти падет? Как это – падет? Почему?
Услышав этот вопрос, Лорина мать явно смутилась и заявила маленькой дочери, что та никогда, никогда не должна подслушивать мужские разговоры. Это просто неприлично. Затем она объяснила, против обыкновения довольно сбивчиво, что Пэтти, должно быть, совершила какой-то проступок. Возможно, солгала, и мистер Арлисс испугался, что она может «пасть бездыханной»[4], как те муж и жена из Библии.
– Помнишь? Я рассказывала тебе про них, когда ты заявила, что своими глазами видела, как из гардеробной на втором этаже появилось привидение.
Упоминание об этом проступке заставило девочку залезть в кусты крыжовника в саду, где, как ей казалось, даже самому Господу было бы трудно ее отыскать; однако ответ матери ее не удовлетворил. Какое мистеру Арлиссу дело до того, что Пэтти лжет? Многие люди лгут, но до сих пор в Ларк-Райзе от этого еще никто не пал бездыханным.
Сорок лет спустя мама рассмеялась, когда Лора напомнила ей об этом разговоре.
– Бедняжка Пэт! – заметила она. – Вот уж вертихвостка-то была, ничего не скажешь. Впрочем, к алтарю ее все же удалось отправить, хотя шептались, что для этого пришлось дать ей хлебнуть бренди на церковном крыльце. Как бы там ни было, мне говорили, что она уже слишком располнела, чтобы плясать на свадьбе, и в белом платье со сплошными голубыми бантами спереди выглядела, должно быть, восхитительно. Наверное, тогда я в последний раз слышала, как на свадьбе пускали по кругу шляпу, чтобы собрать на люльку. Когда-то у этой прослойки людей подобное было делом вполне обычным.
Осталась в Лориной памяти и другая картина: мужчина, лежавший в устланной соломой фермерской телеге с белой тряпкой на лице. Телега остановилась у одного из коттеджей; известие о ее прибытии, по-видимому, сюда не дошло, потому что сначала рядом находилась только Лора. Задок телеги опустили, и девочка смогла отчетливо увидеть мужчину, который был так неподвижен, так страшно неподвижен, что показался ей мертвым. Прошло, как почудилось Лоре, много времени, прежде чем из дома выбежала хозяйка, забралась в телегу и с криком: «Родной! Бедный ты мой старик!» сорвала белую тряпку, открыв лицо почти столь же белое, не считая длинного темного пореза от губы до уха. Тут старик застонал, и сердце у Лоры снова забилось.
Вокруг собрались соседи, и наконец выяснилось, что произошло. Старик, который был скотоводом, кормил своих коров, и одна из них случайно попала ему в рот рогом и вспорола щеку. Пострадавшего сразу же доставили в сельскую больницу, и рана его вскоре зажила.
Особенно ярким воспоминанием был один апрельский вечер. Лоре было тогда около трех лет. Мама сообщила ей, что завтра майский праздник, Элис Шоу станет майской королевой и наденет корону из маргариток.
– Мне бы хотелось быть майской королевой и носить корону из маргариток. Можно мне тоже корону, мама? – спросила Лора.
– Можно, – ответила та. – Сбегай на лужайку для игр и нарви маргариток, а я сплету тебе венок. Ты будешь нашей майской королевой.
Девочка побежала с маленькой корзинкой на лужок, но к тому времени, когда она добралась до травянистого участка, где ребятишки Ларк-Райза играли в свои деревенские игры, было уже слишком поздно; солнце село, и маргаритки уснули. Их были тысячи, но все они были туго сжаты, словно зажмуренные глаза. Лора так огорчилась, что села посреди них и заплакала. Слезы очень скоро иссякли, и девочка начала оглядываться по сторонам.
Высокая трава, на которой она сидела, была чуть влажная, то ли от росы, то ли после апрельского ливня, и бутоны маргариток с розовыми кончиками тоже были слегка влажные, как глазки спящей девочки, уснувшей в слезах. Небо в том месте, куда опустилось солнце, было розово-лилово-желтое. Вокруг не виднелось ни одной живой души и не слышалось ни единого звука, кроме птичьего пения, и внезапно Лора осознала, как чудесно быть тут, на свежем воздухе, в высокой траве, наедине с птицами и спящими маргаритками.
Чуть позже в жизни девочки случился вечер после забоя свиньи; она стояла одна в кладовой, где с крюка в потолке свисала мертвая туша. Мама находилась всего в нескольких футах от нее. Лора слышала, как та весело переговаривается с Мэри-Энн, девушкой, приносившей им молоко с фермы и водившей детей на прогулки, когда мама была занята. Через тонкую деревянную перегородку слышались знакомые смешки Мэри-Энн, промывавшей водой из кувшина длинные, скользкие куски свиной требухи, которой занялась мама. Там, в «прачечной», царило деловитое веселье, а в кладовой, где притаилась Лора, стояла мертвая, холодная тишина.
На глазах у девочки прошла вся жизнь этой свиньи. Отец часто поднимал Лору над дверцей свинарника, чтобы та почесала хрюшке спинку; она проталкивала сквозь жерди загородки листья салата и капустные кочерыжки, чтобы угостить животное. Еще утром свинья рыла землю пятачком, хрюкала и визжала, потому что ее не покормили. Мама заявила, что этот шум действует ей на нервы, и у отца сделался смущенный вид, хотя он отмахнулся от жены, возразив:
– Нет. Сегодня, хрюшка, ты останешься без завтрака. Скоро тебе предстоит серьезная операция, а перед операцией не завтракают.
Операцию провели, и теперь свинья, холодная, окоченевшая и совсем-совсем мертвая, висела в кладовой. Уже отнюдь не забавная, но, как ни странно, исполненная достоинства. Забойщик накинул на переднюю ногу туши длинный ажурный кусок ее собственного жира, точно белую кружевную шаль, какие в те времена носили дамы, и этот последний штрих показался Лоре совершенно бессердечным. Она долго стояла там, поглаживая твердый, холодный бок свиньи и поражаясь, как существо, еще недавно полное жизни и шумное, может сделаться столь неподвижным. Затем, услышав, как ее зовет мама, девочка выбежала через самую дальнюю дверь, чтобы ее не отругали за то, что она оплакивала покойную свинью.
На ужин подали жареную печень с жиром, и когда Лора сказала: «Нет, спасибо», мама с подозрением покосилась на нее, после чего заметила:
– Что ж, может, и вправду не стоит, просто отправляйся спать, и все; но вот вкусный кусочек сладкого мяса[5]. Я приберегала его для папы, но ты можешь взять. Тебе понравится.
И Лора съела сладкое мясо, обмакнула его в густую, жирную подливку и перестала думать о бедной свинье в кладовой, ибо, хотя ей было всего пять лет, она уже училась жить в этом мире компромиссов.
III
«Давным-давно»
Никого из знавших в те времена Лорину мать не удивил поспешный ранний брак, из-за которого ее муж, предполагавший задержаться в здешних местах на несколько месяцев, остался тут насовсем.
Эмма была стройная, миловидная девушка с нежным, как лепестки дикой розы, лицом и волосами цвета новенького пенни, которые она разделяла на прямой пробор и собирала в узел на затылке, потому что глава семейства, где она до замужества служила няней, сказал, что ей всегда следует укладывать волосы именно так. Впоследствии Эмма говорила, что он прозвал ее «карманной Венерой».
– Вполне невинно, – спешила она заверить своего собеседника, – ведь он был джентльмен, человек женатый и глупостей себе не позволял.
Также, вспоминая ту пору, когда она была няней, мама поведала Лоре и Эдмунду, что у некоторых членов семьи вошло в привычку приводить останавливавшихся в доме гостей в детскую послушать сказки, которые Эмма рассказывала на ночь малышам.
– То было обычное развлечение, – говорила она, и ее дети не считали это странным, ведь теперь, когда сказки на ночь рассказывали им, они знали, насколько те занимательны.
Иногда это бывали короткие, на один вечер, истории: типичные для тех времен волшебные сказки, рассказы о животных, о послушных и непослушных детях, о том, как хорошие люди были вознаграждены, а дурные наказаны. Некоторые из них происходили из обычного арсенала всех сказочников, но историй ее собственного сочинения было гораздо больше, ибо, по словам Эммы, придумать сказку куда легче, чем пытаться ее выучить. Детям больше всего нравились сказки, сочиненные матерью.
– Что-нибудь из головы, мама, – просили брат с сестрой, и мама морщила лоб, притворялась, что напряженно думает, после чего начинала:
– Давным-давно…
Одна такая сказка надолго засела в Лориной памяти, когда сотни других превратились в приятные, но смутные воспоминания. Не потому, что это была одна из лучших историй матери, отнюдь, а потому, что ее цветовая гамма соответствовала детскому вкусу. Это была сказка о маленькой девочке, которая забралась под куст на верещатнике, «таком же, как Хардвик-Хит, знаете, где мы собирали ежевику», и нашла потайной ход в подземный дворец, где вся мебель и занавеси были голубые и серебряные. «Серебряные столы, серебряные стулья, серебряные тарелки, а все подушки и портьеры – из нежно-голубого атласа». Героиня пережила удивительные приключения, но они не оставили в памяти Лоры никакого следа, зато серебряно-голубые подземные чертоги излучали в ее воображении нечто вроде лунного света. Но когда мама, уступив настоятельной просьбе девочки, попробовала рассказать эту сказку снова, волшебство растаяло, хотя Эмма, надеясь угодить дочери, присовокупила серебряные полы и потолки. По-видимому, она перестаралась.
Были и многосерийные истории, которые ежевечерне рассказывались на протяжении целых недель, а то и месяцев, поскольку никто не желал, чтобы они заканчивались, а изобретательность рассказчицы никогда ей не изменяла. Впрочем, одна из них имела внезапное и трагическое завершение. Однажды вечером пора было, и уже давно, отходить ко сну, а брат с сестрой умоляли о продолжении сказки и получили его, но просьбы не прекратились, и тогда мама, потеряв терпение, напугала детей, сказав:
– А потом он пришел к морю, упал в воду, и его съела акула. Так бедному Джимми настал конец.
И сказке тоже настал конец, ведь никакого продолжения быть уже не могло.
Еще были семейные истории, каждую из которых дети знали наизусть и вполне могли бы рассказывать друг другу. Самая любимая из них была та, которую они называли «Бабушкина золотая скамеечка». История была короткая и довольно незатейливая. Родители их отца когда-то держали в Оксфорде трактир и извозчичий двор, и история гласила, будто то ли по дороге в «Лошадь и всадника», то ли едучи оттуда, дедушка усадил бабушку в экипаж и поставил ей под ноги шкатулку с тысячей фунтов золотом, сказав при этом:
– Не каждая леди ездит в собственном экипаже да с золотой скамеечкой для ног.
Должно быть, они направлялись туда с деньгами на покупку, ведь не могли же они возить с собой золотую скамеечку для ног. До приобретения трактира, ставшего возможным благодаря наследству, оставленному бабушке одним ее родственником, дедушка подвизался мелким подрядчиком и в дальнейшем тоже был подрядчиком, очевидно, еще более мелким, поскольку ко времени появления на свет Лоры семейное дело уже прекратило существование, а ее отец трудился по найму.
Тысяча фунтов исчезла столь же бесследно, как съеденный акулой Джимми, и все, что оставалось детям, – это пытаться представить, как должна выглядеть такая куча золота, и планировать, как бы они распорядились этакой суммой, окажись она теперь у них. Об этом любила рассуждать даже их мать, хотя и говорила, что терпеть не может расточительные, экстравагантные привычки некоторых ее знакомых, гордыню и самомнение, которые они выказывают, тогда как должны стыдиться утраты былого положения.
И точно так же, как они гордились золотой скамеечкой для ног и сопутствующим преданием, согласно которому их бабушка была «урожденная леди», тайно вышедшая за дедушку, почти каждая семья в Ларк-Райзе гордилась фамильным преданием, которое, во всяком случае в их собственных глазах, возвышало их над общей массой ничем не примечательных людей. У кого-нибудь дядюшка или двоюродный дед владел коттеджем, который со временем разрастался до целой улицы домов; у кого-то один из членов семьи некогда держал лавку или трактир либо возделывал собственную землю. Кто-то похвалялся благородной кровью, пусть даже незаконной. Один человек утверждал, что он правнук графа, хотя и признавал, что, «разумеется, пригульный»; однако ему нравилось рассказывать об этом, и его слушатели, обратив внимание, возможно впервые, на его прекрасную осанку и большой крючковатый нос и припомнив репутацию некоего необузданного молодого аристократа давних времен, начинали верить, что эта история имеет под собой кой-какие основания.
Другое семейное предание Эдмунда и Лоры, более фантастичное и не столь хорошо подкрепленное доказательствами, как история с золотой скамеечкой для ног, гласило, что один из дядей их матери, будучи совсем юным, запер своего отца в сундуке, а сам сбежал на австралийские золотые прииски. В ответ на вопросы детей о том, зачем юноша запер отца в сундуке, как он его туда запихнул и когда отец выбрался, мама могла лишь ответить, что не знает. Все это произошло еще до рождения ее собственного отца. Семья была большая, а дедушка детей – самым младшим отпрыском. Но сундук мама видела: это был длинный дубовый кофр, в котором вполне мог уместиться взрослый мужчина, а историю эту ей рассказывали, сколько она себя помнила.
Это случилось, должно быть, лет восемьдесят назад, и о дяде с тех пор никто не слыхал, но дети никогда не уставали говорить о нем и гадать, нашел ли он в конце концов золото. Быть может, он сколотил на приисках состояние и умер, не оставив потомков и завещания. Тогда его деньги принадлежат им, верно? Возможно, они и сейчас находятся в канцлерском отделении[6], ожидая, когда семья заявит на них свои права. У нескольких ларк-райзских семей были деньги в канцлерском отделении. Им было об этом известно, потому что одна воскресная газета еженедельно печатала список людей, которых дожидалось состояние, и они «собственными глазами, провалиться мне на этом месте», видели свои фамилии. Правда, отец Лоры и Эдмунда замечал, что фамилии-то у них в большинстве своем распространенные, но если им на это указывали, они страшно обижались и намекали, что, когда наскребут несколько фунтов «на адвоката», чтобы заявить свои притязания, маловерных среди них не будет.
Дети своей фамилии среди напечатанных в газете не нашли, но им нравилось планировать, как они распорядятся «канцлерскими» деньгами. Эдмунд сказал, что купит корабль и побывает во всех странах мира. Лора думала, что хочет полный книг дом в лесу, а мама утверждала, что была бы вполне довольна, имей она доход тридцать шиллингов в неделю, «выплачиваемый регулярно и надежный».
Эти «канцлерские» деньги были химерой, и ни у кого из них на протяжении всей жизни не водилось больше нескольких фунтов одновременно, однако их желания более или менее исполнились. Эдмунд много раз пересекал океан и побывал на четырех из пяти континентов; у Лоры был полный книг дом, если не в самом лесу, то где-то поблизости; а их бедная мать к концу жизни обрела-таки свои скромные тридцать шиллингов в неделю, потому что именно такой суммой канадское правительство компенсировало ее небольшой доход, назначив ей «материнскую пенсию». Воспоминание об этом желании придавало еще бо́льшую горечь слезам, которые она проливала первые несколько лет при получении ежемесячного чека.
Но все это было еще в далеком будущем в те зимние вечера, когда брат с сестрой сидели возле камина на маленьких скамеечках у ног матери, пока она вязала им носки, рассказывала сказки или пела. Ужин к тому времени уже бывал окончен, а отцовскую тарелку, чтобы не остыла, помещали на кастрюлю с водой, стоявшую на плите. Лоре нравилось наблюдать за огоньками, которые метались по стенам, попеременно освещая предметы и их собственные фигуры, отбрасывавшие огромные, пугающе гротескные темные тени.
Эдмунд присоединялся к матери, когда она исполняла такие песенки, как «Есть в городке одна таверна» и «Коричневый кувшинчик», но Лора по просьбе матери и брата воздерживалась от пения, ибо у нее не было музыкального слуха и они утверждали, что она фальшивит и сбивает их. Однако девочка любила наблюдать за плясавшими тенями и слушать голос матери, выводивший приятные, меланхоличные мелодии, повествуя о бледном сонме прекрасных дев, которые истосковались и зачахли от любви. В их числе была песня о прелестной Лили Лайл, начинавшаяся так:
- Ночь спокойна была и тиха, бледный свет проливала луна
- Над безмолвным холмом и долиной.
- Онемевши от горя, друзья вокруг смертного стали одра,
- Где лежит Лили Лайл бездыханна.
- Лили Лайл так прелестна была, словно лилия, сердцем чиста,
- И не знала не лжи, ни коварства.
Было еще несколько песен об умирающих девах, на похожий мотив и с похожими словами. А еще романсы «Старое кресло», «Предостережение цыганки» и подборка деревенских песен, судя по всему, относившиеся к началу века, например:
- Был ясный вечер, светила луна.
- Часы ровно восемь пробили.
- Мэри к калитке вышла одна,
- Радость в душе затаила.
- Но отчего погрустнела она?
- Парень еще не явился.
- Мэри вздохнула и произнесла:
- «Должно быть, он припозднился».
- Она у калитки ждала и ждала,
- Часы уже девять пробили.
- Мэри вздохнула и произнесла:
- «Обо мне, должно быть, забыли».
- Она у калитки ждала и ждала,
- Часы уже десять пробили.
- Тут руки Уилла, ее жениха,
- В объятья ее заключили.
- Уильям ходил кольцо покупать.
- И невеста его простила.
- Могла ли Мэри жестоко прогнать
- Того, кого нежно любила?
- В маленьком доме живут и сейчас
- Счастливые муж и жена.
- Мэри благословляет тот час,
- Когда дождалась жениха.
Иногда дети болтали о том, чем будут заниматься, когда вырастут. Их будущее уже было распланировано за них. Эдмунда намеревались отдать учиться какому-нибудь ремеслу – лучше всего плотницкому, считала мама: оно почище, чем ремесло каменщика, плотники не пьянствуют в трактирах, как каменщики, и люди уважают их намного больше.
Лоре предстояло устроиться помощницей няни к одной из прежних подопечных своей матери, с которыми та поддерживала переписку. Со временем девушка должна была стать старшей няней в так называемом приличном семействе, где и осталась бы на всю жизнь, если не удастся выйти замуж, поскольку предполагаемое «приличное семейство» в представлении ее матери было из тех, где обожаемые старые нянюшки ходят в черных шелках и имеют собственную комнату, в которой ведут доверительные беседы с домочадцами. Однако куда больше детей занимала идея обзавестись собственным домом, где можно делать все, что заблагорассудится.
– И вы будете приезжать ко мне в гости, а я накануне буду делать генеральную уборку в доме и печь пироги, – обещала Лора, которая на примере матери знала, как положено принимать дорогих гостей. Эдмунд же мечтал, что на обед будет есть патоку с молоком и без хлеба, но тогда он был намного младше сестренки.
Ни сказки, ни песни, ни разговоры не могли продолжаться вечно. Обязательно наступало время, и всегда слишком рано, когда мама уводила детей спать, «потому что скоро явится отец», и задерживалась, чтобы послушать, как они творят молитвы: «Отче наш», «Кроткий Иисус» и, напоследок:
– Благослови, Господь, дорогую мамочку и папочку, и дорогого младшего братика (или сестричку), и всех родных и близких…
Лора точно не знала, кто такие «близкие», но ей было известно, что «родные» – это кэндлфордские тетушки, сестры отца, которые присылали им чудесные посылки на Рождество, а также кузины, чьи вещи она донашивала. Тетушки, судя по всему, были добрые, потому что, когда открывали посылки, мама говорила: «Как Эдит, право, добра» или, более теплым тоном, пусть даже посылка оказывалась не столь интересной: «Если и есть в этом мире добрая душа, так это ваша тетушка Энн».
Кэндлфорд был местом необычайным. Мама говорила, что там целые улицы магазинов, битком набитых игрушками, сластями, мехами, муфтами, часами с цепочками и другими восхитительными вещами.
– Видели бы вы их под Рождество, – рассказывала она, – с залитыми светом витринами, точно на ярмарке. И тогда все, что вам понадобится, – это полный кошелек!
У кэндлфордцев кошельки были полные, потому что жалованье там было выше, а в придачу к этому у них имелся газ, освещавший дома до самого отхода ко сну, и вода из крана, а не из колодца. Лора слышала, как об этом рассуждали ее родители.
– Что ему нужно, так это поработать в каком-нибудь городке вроде Кэндлфорда, – говорил отец о каком-нибудь многообещающем пареньке. – Это пошло бы ему на пользу. Здесь ведь ничего нет.
Это удивляло девочку, ведь она считала, что в Ларк-Райзе много интересного.
– А ручей в Кэндлфорде есть? – спрашивала она, втайне надеясь, что ручья там нет, но ей отвечали, что у них есть река, которая шире любого ручья и через нее переброшен каменный мост, а не шаткая старая доска. Воистину, это был великолепный город, и Лора рассчитывала вскоре увидеть его.
– Вот придет лето… – говорил отец, но лето приходило и уходило, и никто уже не упоминал о том, чтобы одолжить у трактирщика Полли и рессорную тележку. Затем непременно случалось нечто такое, что отодвигало мечту о Кэндлфорде в дальний уголок Лориного сознания. Как-то в унылом ноябре расхворались деревенские свиньи. Они отказывались есть и стали такими слабыми, что вынуждены были прислоняться к ограждению свинарника, чтобы не упасть. Несколько животных сдохло, и туши засыпали негашеной известью, которая, как было сказано, мгновенно разъела их. Как ужасно умереть и быть засыпанным негашеной известью, так что вскоре от некогда живого тела не останется ничего! Но мама возразила, что гораздо ужаснее, что бедняки лишились своих свиней, ведь все эти месяцы они тратились на их прокорм; и когда забили свиней у них в доме (оба животных избежали болезни), – она щедрее, чем обычно, накладывала на тарелки, которые всегда рассылали соседям в качестве угощения, печень, жир и другие остатки. Многие люди, потерявшие свиней, все еще были должны за их корм. Ведь они рассчитывали, что после забоя смогут заплатить натурой. Один мужчина начал браконьерствовать, его поймали и посадили в тюрьму, после чего односельчанам пришлось носить его жене краюхи хлеба и фунтики с чаем и сахаром, чтобы помочь пережить невзгоды, пока не прошел слух, будто у нее в доме целых три куска сливочного масла, пожертвованных ей людьми, которым она жаловалась на бедность, и что сам мировой судья прислал ей соверен. Узнав об этом, люди стали недоброжелательно коситься на нее и говорили:
– Похоже, нынче выгодно быть преступником.
IV
«Перекинемся словечком»
Иногда вместо того, чтобы сказать: «Здесь ничего нет», Лорин отец говорил: «Здесь никого нет», имея в виду, что в Ларк-Райзе нет никого заслуживающего внимания. Но Лора никогда не уставала проявлять внимание к односельчанам и, становясь старше, начала прислушиваться и запоминать то, что они говорили, так что в конце концов многому у них научилась. Больше всего ей нравились пожилые женщины, вроде старой Куини, старой Салли и старой миссис Праут, которые до сих пор носили чепцы, хлопотали по дому и в саду, совершенно не интересовались тем, что нынче в моде, и почти не интересовались сплетнями. По их словам, они не одобряли пустопорожних шатаний от дома к дому. Куини плела кружева и возилась со своей пасекой; старая Салли варила пиво и солила бекон; и если какой-нибудь соседке надо было их увидеть, она знала, где их найти. Некоторые женщины помоложе называли их «угрюмыми старухами», особенно когда одна из них отказывалась что-нибудь одолжить. Лоре же казалось, что они возвышаются, словно незыблемые твердыни, а окружающие вечно болтаются вокруг них в поисках новых ощущений. Однако тех, кто придерживался старинных деревенских обычаев, осталось уже немного, и другие женщины тоже заслуживали интереса. Хотя все они носили похожую одежду и жили в похожих домах, среди них не было и двух одинаковых.
В теории все жительницы деревни пребывали в дружеских отношениях, во всяком случае, обязательно здоровались при встречах, поскольку ужасно боялись кого-нибудь обидеть и из кожи вон лезли, стараясь угодить тем соседкам, которых предпочли бы вовсе не видеть. Как говорила Лорина мать, «ты не можешь позволить себе с кем-то враждовать в таком маленьком селении, как наше». Но здесь, как и в более светских обществах, люди тяготели к объединению в компании. Чуть более обеспеченные, в основном недавно вышедшие замуж и пожилые женщины, у которых не было детей на руках, днем переодевались в чистый фартук и тихо домовничали, шили или гладили, либо надевали шляпки и отправлялись навестить приятельниц, деликатно стуча в калитку, перед тем как поднять щеколду. Те, кто попроще, заявлялись к соседкам без шляпки, чтобы чем-нибудь одолжиться или сообщить захватывающую дух новость, весь день переговаривались через заборы и с порогов своих домов либо подолгу зубоскалили с пекарем, москательщиком или любым другим гостем, случайно заглянувшим в дом и обнаружившим, что у него нет возможности отделаться, не допустив откровенной невежливости.
Лорина мать принадлежала к первой категории, и в гости к ней приходили в основном ее близкие подруги. Впрочем, иногда наведывались и другие посетительницы, казавшиеся Лоре гораздо более занимательными, чем молодая миссис Мэсси, постоянно мастерившая детские одежки, хотя в то время ребенка у нее еще не было (когда она наконец родила, Лора решила, что это счастливое совпадение), миссис Хэдли, вечно твердившая о своей дочери, находившейся в услужении, или «не слишком крепкая здоровьем» миссис Финч, которой надо было уступать лучшее место у огня. Единственным, что интересовало в ней Лору, был синий пузырек с нюхательными солями, который та носила при себе, но он перестал вызывать интерес после того, как миссис Финч протянула его девочке и велела хорошенько понюхать, а когда по Лориным щекам покатились слезы, расхохоталась. Лоре такие шутки были не по вкусу!
Куда больше Лоре нравилась Рэйчел. Хотя ее никогда не приглашали, Рэйчел иногда являлась сама, «просто покалякать», как она выражалась. Ее «каляканье» стоило того, чтобы его послушать, ведь ей было известно всё, что случилось в округе, «и многое другое», утверждали ее враги.
– Спросите у Рэйчел, – говорила какая-нибудь несведущая особа, пожимая плечами, и если Рэйчел, когда к ней обращались за фактами, тоже бывала не совсем уверена, она своим громким, бодрым голосом отвечала:
– Ну, по правде сказать, я еще не докопалась до сути дела. Но обязательно вызнаю, что смогу, вот пойду к источнику и расспрошу.
И со всем добродушным нахальством, какое только можно вообразить, отправлялась к миссис Биби, чтобы спросить, правда ли ее младшенькая, Эм, покидает место службы еще до истечения года, или к матери Чарли – выяснить, действительно ли тот поссорился с Нелл по пути из церкви домой в прошлое воскресенье и помирились ли они уже или по-прежнему «не в ладах», как здесь называли размолвку.
Когда Рэйчел заглядывала «покалякать», ее примеру обязательно следовали другие. Лора, лежа на коврике у камина перед книжкой с картинками или вырезая в углу узоры из бумаги, слушала, как они то повышали, то понижали голоса, временами переходя на шепот, если обсуждалась тема, не годившаяся для детских ушей. Иногда девочке ужасно хотелось задать какой-нибудь вопрос, но она не осмеливалась, ведь в деревне существовало строгое правило: детей должно быть видно, но не слышно. Лучше было даже не смеяться, когда произносилось нечто смешное, ведь смех привлекал к ребенку внимание и кто-нибудь мог заметить:
– Этот ребенок начинает слишком много понимать. Надеюсь, она не из этих молодых да ранних, потому что я их не выношу.
Это задевало маму, и она говорила, что ее дочь вовсе не скороспелка и скорее отстает от своего возраста, а что до понимания, то навряд ли Лора слышала, что только что было сказано, и засмеялась лишь потому, что смеялись остальные. Вместе с тем, когда маме казалось, что разговор принимает неподобающий оборот, она старалась тут же отправить Лору наверх или послать за чем-нибудь в сад.
Иногда кто-нибудь из соседок отпускал замечание о тех далеких днях, что были еще до рождения Лоры и Эдмунда.
– Мой старый дедушка говаривал, что в прежние времена все земли отсюда до самой церкви – все общинные земли, тогда еще поросшие травой и вереском, – были завещаны приходским беднякам; но их украли и разбили на участки.
И кто-нибудь соглашался:
– Да, я тоже всегда это знала.
Порой одна из соседок изрекала нечто неожиданное, как сделала Пэтти Уордап, когда остальная компания обсуждала меховую накидку миссис Имс: та явно не могла ее купить, и, уж конечно, накидка не выросла у нее на спине сама собой, однако в прошлое воскресенье миссис Имс появилась в ней в церкви и ни словечком никому не обмолвилась, откуда взялась эта вещица. Правда, миссис Бейкер предположила, что накидка смахивает на кучерскую пелерину из темного, густого меха, так называемую медвежью шкуру, а ведь миссис Имс однажды упоминала, что у нее есть брат, который служит где-то кучером. И тут Пэтти, задумчиво вертевшая в пальцах ключ от двери и не принимавшая участия в обсуждении, тихо заметила:
– Раз в жизни к ногам каждого человека падает золотой мяч. Так утверждал мой дядя Джарвис, и я сама не раз была тому свидетельницей.
Какой золотой мяч? Кто был этот дядя Джарвис? И какое отношение имел золотой мяч к меховой накидке миссис Имс? Неудивительно, что все рассмеялись и сказали:
– Она, как обычно, грезит наяву!
Пэтти не была уроженкой тех мест, но приехала туда лишь несколько лет назад, поступив экономкой к одному старику, у которого умерла жена. По обычаю, если у мужчины не было родственниц, готовых вести хозяйство, он обращался в попечительский совет с просьбой об экономке, и ему подобрали Пэтти – наиболее подходящую на тот момент обитательницу работного дома. Это была упитанная маленькая женщина с гладкими русыми волосами и кроткими голубыми глазами, которые в день ее приезда прекрасно оттенял пучок незабудок на шляпке. Как она очутилась в работном доме, оставалось загадкой, поскольку этой еще крепкой женщине не исполнилось и пятидесяти, и она явно принадлежала к чуть более высокой общественной прослойке, чем ее новый хозяин. Свою историю Пэтти никому не рассказывала, и никто ее об этом не просил. «Не приставай с вопросами, и тебе не солгут, а кое-что выведать можно и без расспросов», – гласил девиз Ларк-Райза. Однако все считали Пэтти «важной птицей», ибо разве она не заплетала волосы в пять косичек ежевечерне вместо того, чтобы заплетать три косички на буднях и пять по воскресеньям? И не меняла после обеда белый передник на черный атласный фартучек, отделанный бисером? А еще Пэтти была отличная кухарка. Эймосу повезло. В первое же воскресенье после своего прибытия она приготовила мясной пудинг с такой тоненькой корочкой, что ее могло сдуть порывом ветра, и с густой, наваристой начинкой, которая изверглась потоком, как только в пудинг воткнули нож. Старик Эймос заявил, что от одного аромата у него потекли слюнки, и стал выяснять, сколько подобает выждать после смерти жены перед церковным оглашением нового брака. Все молча решили, что скоро будет свадьба.
Однако Пэтти вышла замуж не за Эймоса-старшего. У него был сын – Эймос-младший, он первый и сделал предложение, которое было принято. Деревенские женщины, по их словам, терпеть не могли, когда жена старше мужа, а Пэтти была на добрых десять лет старше своего нареченного; тем не менее они решили, что Эймос-младший неплохо устроился, особенно когда перед самой свадьбой прибыли повозка с мебелью и сундук с одеждой, которые Пэтти каким-то образом сумела спасти после разорения и где-то припрятать.
В Ларк-Райзе и прежде полагали, что Пэтти «важная птица», но лишний раз убедились в этом, когда стало известно, что среди мебели есть пуховая перина, обтянутый кожей диван с такими же стульями и чучело совы под стеклянным колпаком. Каким-то образом выяснилось, а может, об этом упомянул Эймос-младший, известный хвастун, что Пэтти уже была замужем – и не за кем-нибудь, а за трактирщиком! И потом очутилась в работном доме, бедняжка! Но, к счастью, у нее хватило ума припрятать свои пожитки. Не сделай она этого, вещи оказались бы в попечительском совете.
Пэтти и Эймос были образцовой парой, когда субботним вечером отправлялись в городок за покупками: Пэтти щеголяла в черном шелковом платье с воланами, разноцветной шали и с зонтиком с ручкой слоновой кости в блестящем черном водоотталкивающем чехле, защищающем шелковый купол. Но постепенно проявилась и оборотная сторона. Пэтти любила пропустить стаканчик стаута. Никто не винил ее за это, ибо было хорошо известно, что она может себе это позволить и, должно быть, пристрастилась к спиртному, когда была трактирщицей. Вскоре стали замечать, что в рыночные дни Эймос и Пэтти возвращались из городка все позднее и позднее, а затем, в один невеселый вечер, кто-то встретил их на дороге и сообщил, что Пэтти так накачалась стаутом или чем покрепче, что Эймос едва ее тащил. Некоторые утверждали, что он нес жену на руках. Вот и объяснение работному дому, сказали соседки и стали ждать, когда Эймос начнет избивать Пэтти. Но он не только не начал, но никогда не упоминал о ее слабости и никому не жаловался на жену.
Пэтти срывалась только по выходным и в пьяном виде была не шумной и не задиристой, а беспомощной. Ларк-Райз был уже погружен в темноту и большинство людей лежали в кроватях, когда супруги тихо прокрадывались домой и Эймос относил Пэтти наверх. Возможно, он даже полагал, что никто из соседей не знает о слабости его жены. Если так, то надеялся он напрасно. Иногда казалось, что у самих изгородей есть глаза, а у дороги – уши, ибо на следующее утро по округе разносился шепоток о том, какой трактир выбрала Пэтти, что и в каких количествах она пила и сколько сумела пройти своими ногами, возвращаясь домой, прежде чем ее одолел алкоголь. Но если Эймос не противился пьянству жены, с чего должны были возражать остальные? Она же не появлялась в скотском состоянии на публике. Так что Пэтти и Эймоса, с единственной оговоркой, продолжали считать образцовой парой.
Дети обожали, когда их приглашали в дом Пэтти полюбоваться чучелом совы и другими сокровищами, в числе которых были несколько засушенных цветков из Святой Земли в рамке, изготовленной из оливкового дерева с Масличной горы. И веером из длинных белых страусовых перьев, который владелица вынимала из футляра и показывала ребятам, а затем легонько обмахивалась им, забравшись с ногами на кожаный диван.
– Я знавала лучшие времена, – говорила Пэтти, если пребывала в словоохотливом настроении. – Да, я знавала лучшие времена, но никогда не видела мужа лучше Эймоса, и мне нравится этот маленький домик, где я могу запереться и делать все, что душе угодно. Ведь в трактире ты всегда на публике. Всякий, у кого имеется два пенни, может прийти и уйти, когда ему заблагорассудится, даже не постучавшись и не спросив позволения; а что такое роскошная мебель, если она тебе не принадлежит, ведь нельзя же называть ее своей, если ею пользуются другие!
И Пэтти сворачивалась клубочком на кушетке и закрывала глаза, потому что, хотя дома она никогда не бывала пьяной, у нее изо рта порой исходил странный сладковатый запах, в котором люди постарше распознали бы запах джина.
– Теперь уходите, – говорила хозяйка, приоткрывая один глаз, – и заприте за собой дверь, а ключ положите на подоконник. Гости мне больше не нужны, и сама я никуда не собираюсь. Визитов сегодня не будет.
Еще в Ларк-Райзе была молодая замужняя женщина по имени Герти, которая слыла красавицей исключительно благодаря тонкой талии и жеманной улыбке. Она была большая любительница любовных романов и особа весьма романтичная. До замужества Герти служила горничной в загородном поместье, где держали лакеев; их общество и комплименты избаловали будущую супругу доброго и честного работяги. Она обожала повествовать о своих победах, о том, как дворецкий, мистер Пратт, четырежды танцевал с ней на балу для прислуги и как ревновал ее Джон. Его пригласили на бал ради невесты, он явился в светло-сером воскресном костюме, с огромной, как блин, хризантемой в петлице, но танцевать не умел и потому весь вечер просидел, как неотесанный болван, на стуле, свесив большие красные руки между колен.
На Герти было белое шелковое платье, в котором она впоследствии вышла замуж, и волосы ей завивал настоящий парикмахер – служанки сбросились, чтобы оплатить его услуги; он потом остался на танцы и особое внимание уделял Гертруде.
– И видели бы вы, как свирепо наш Джон вращал глазами от ревности…
Но если ей и удавалось дойти в рассказе до этого места, ее прерывали. Никто не желал слушать о ее победах, зато женщины охотно выспрашивали про наряды. В чем была кухарка? В черном кружевном платье поверх красной шелковой нижней юбки. Звучало привлекательно. Потом Герти описывала туалеты старшей горничной, буфетчицы и так далее, вплоть до помощницы кухарки, которая, надо признать, не могла позволить себе ничего заманчивее серого выходного платья.
Герти была единственной из жительниц Ларк-Райза, кто обсуждал свои отношения с мужем.
– Думаю, наш Джонни больше меня не любит, – вздыхала она. – Сегодня утром он ушел на работу, не поцеловав меня.
Или:
– Наш Джон превращается в обычного мужлана. Вчера вечером после чая он уснул и храпел в своем кресле. Я почувствовала себя такой одинокой, что чуть не разрыдалась.
Самые бесцеремонные смеялись и спрашивали Герти, чего она ожидала от мужчины, который весь день пахал в поле, или говорили:
– Времена изменились, душечка. Вы уже не невеста.
Герти около года служила объектом насмешек всей деревни; затем родился маленький Джон, белое шелковое платье разрезали, чтобы сшить крестильную рубашечку, и Герти, произведя на свет такой образец совершенства, позабыла о былых триумфах.
– Разве он не красавчик? – спрашивала она, демонстрируя невзрачного красного младенца, и те, кого в прошлом больше всех раздражали ее излияния, первыми объявляли, что он чудесный малыш.
– Джон точная копия своего отца, но у него ваши глаза, Герти. Клянусь! В свое время он разобьет не одно сердце, вот увидите.
Время прошло, и Герти сама стала красной и невзрачной. Исчезли осиная талия и восковая бледность, которые она считала столь аристократичными. Однако она сохранила свою романтичность; в последний раз, когда Лора видела ее, в ту пору женщину средних лет, Герти уверяла, что недавний брак ее дочери с подручным конюха – итог «романа, какие только в книжках бывают», хотя, насколько поняла ее слушательница, свадьбу сыграли, чтобы, по выражению представителей предыдущего поколения, «покрыть грешок».
Лоре лицо Герти не нравилось. Черты лица были довольно сносные, но все портили выпуклые бледно-голубые глаза с вечно воспаленными белка́ми и нездоровый желтоватый оттенок кожи. Даже ротик, которым так восхищались местные ценители красоты, казался девочке отталкивающим. Он был такой маленький, что на губах образовывались крошечные складки, делая их похожими на обметанную петлю. Один невежа сравнил рот Герти с «куриной гузкой».
Зато среди заглядывавших к матери соседок была одна, которой Лора искренне любовалась, поскольку ее лицо напоминало профиль с камеи, которую мама по воскресеньям прикалывала к своему кружевному воротничку, а струящиеся черные волосы, уложенные на прямой пробор, будто тоже были вырезаны в камне. Красивая головка этой женщины всегда была полуопущена, что подчеркивало линию шеи и плеч, и, хотя одевалась она не лучше остальных, на ней платья смотрелись гораздо выгоднее. Миссис Мертон всегда ходила в черном, ибо не успевал закончиться полуторагодичный траур по двоюродному дедушке, двоюродному брату или троюродной сестре, как умирал кто-нибудь еще. Или, не дожидаясь кончины очередного перешагнувшего восьмидесятилетний рубеж или «дышавшего на ладан» дальнего родственника, она решала, что не стоит «носить цветное». Пусть даже миссис Мертон и знала, что черный цвет ей идет, она была слишком умна, чтобы упоминать об этом. Если бы она добровольно предпочитала черные одеяния в повседневной жизни, люди считали бы ее тщеславной или эксцентричной, траур же возражений не встречал.
– Мама, – сказала Лора однажды после ухода соседки, – разве миссис Мертон не красавица?
Мама засмеялась.
– Красавица? Нет. Хотя некоторые сочли бы ее привлекательной. На мой вкус она слишком бледная и унылая, и нос у нее длинноват.
Миссис Мертон, какой она помнилась Лоре спустя годы, могла бы позировать художнику в образе музы трагедии. Она была натурой меланхоличной.
– Я вдоволь хлебнула горя, – без устали твердила эта женщина. – Я вдоволь хлебнула горя, и скорбь всегда будет моим уделом.
Впрочем, как напоминала своей приятельнице Лорина мать, та не имела особых причин жаловаться. У нее был хороший муж и не слишком большая семья. Не считая дальних родственников, иных из которых миссис Мертон ни разу в жизни не видела, она потеряла лишь одного младенца, отца, который недавно умер от старости, и хряка, подохшего от чумы свиней два года назад, что, по общему признанию, являлось большим несчастьем; но такие утраты могли постичь любого. Многих они и постигали, и все же людям удавалось справляться с ними без разглагольствований о том, что они хлебнули горя.
Притягивает ли меланхолия несчастья? Или правду говорят, что прошлое, настоящее и будущее едины и разделены лишь нашим ощущением времени? Миссис Мертон суждено было в старости действительно превратиться в ту трагическую фигуру, какую она лишь изображала в молодости. Уже после того, как у нее умер муж, ее единственный сын и двое внуков погибли на войне 1914–1918 годов, и она осталась одна-одинешенька.
К той поре миссис Мертон переехала в другую деревню, и Лорина мать, сама потерявшая на войне близких, отправилась к приятельнице, чтобы повидаться и посочувствовать ей. Она нашла миссис Мертон печальной, но смирившейся со своей участью пожилой женщиной. Та уже не объявляла, что вдоволь хлебнула горя, и не сетовала на свои беды, но спокойно принимала мир таким, каким он был тогда, и твердо старалась бодриться.
Была весна, и комнату миссис Мертон украшали цветы в горшках и вазах. Ее гостья заметила, что они почти не источают аромат; затем, приглядевшись, она обнаружила, что это не садовые цветы. Во всех горшках, кувшинах и вазах стояли цветущие ветки боярышника.
Лорина мать была несколько шокирована этим, поскольку, будучи менее суеверной, чем большинство деревенских женщин, все же она никогда не стала бы держать боярышник в доме. Он мог накликать беду, а может, и не мог, однако было неразумно рисковать зря.
– Вы не боитесь, что боярышник принесет вам несчастье? – спросила она у миссис Мертон, пока они пили чай.
Хозяйка дома улыбнулась, и улыбка ее была почти столь же необычна, как цветы боярышника в доме.
– Разве это возможно? – возразила она. – Мне больше некого терять. А эти цветы я всегда любила. Поэтому и решила украсить ими комнату, чтобы услаждать взгляд. Что же до счастья, то мой запас исчерпался.
О политике женщины упоминали редко. А если и упоминали, то обычно когда комментировали чрезмерный пыл мужа.
– Почему он не может оставить политику в покое? Не его это дело, – говорила чья-нибудь жена. – Какая ему разница, кто у власти? Кто бы ни был, они ничего нам не дадут и ничего не смогут отнять, ведь из камня воду не выжмешь.
Некоторые проявляли пристрастность и говорили: жаль, что мужчины одержимы этими либеральными представлениями.
– Если необходимо участвовать в выборах, почему бы им не голосовать за тори, чтобы оставаться в хороших отношениях с джентри? Что-то мы не слыхали, чтобы либералы раздавали беднякам на Рождество уголь и одеяла.
Ясное дело, не слыхали, ведь каждый либерал в приходе сам покупал себе центнер[7] угля и почитал себя счастливым, если у его жены имелось одеяло на каждую кровать.
Некоторые мужчины постарше были столь же робки. Однажды в день выборов дети, возвращаясь из школы, встретили роскошный экипаж, в котором везли на избирательный участок их старого, почти не встававшего с постели соседа, обложенного подушками. Несколько дней спустя, когда Лора принесла ему небольшой гостинец, переданный ее матерью, он шепнул ей на прощанье:
– Скажи папе, что я голосовал за либералов. Хе-хе! Они подвели бедную старую клячу к самой воде, но она не стала пить из их корыта. Не стала!
Когда Лора передала это отцу, тот, кажется, был не так доволен, как ожидал сосед. И заметил, что, по его мнению, это «низко – добираться в их экипаже, чтобы проголосовать против них»; но мама рассмеялась и возразила:
– Так им и надо за то, что вытаскивают бедных стариков из постели в этакую погоду.
Помимо политики отношение жителей Ларк-Райза к тем, кого они именовали «джентри», было довольно своеобразным. Они гордились своими богатыми и влиятельными соседями-помещиками, особенно титулованными. Старого графа из соседнего прихода называли «нашим графом», и когда над верхушками деревьев показывался флаг, который поднимали на башне его загородного дома, чтобы сообщить, что хозяин сейчас здесь, в деревне говорили: «Вижу, наше семейство опять пожаловало домой».
Иногда он проезжал через деревню в карете – дряхлый старец, утопавший в подушках и укутанный пледами, зачастую настолько сонный, что поклоны деревенских жителей оставались незамеченными им. Граф никогда не разговаривал с ларк-райзцами и ничего им не дарил, ибо они жили не в его коттеджах, а что до раздачи рождественского угля и одеял, то у него был свой приход, о котором нужно было заботиться; однако люди трудились на его земле, и хотя нанимались не напрямую к нему, каким-то врожденным инстинктом они чуяли, что он принадлежит им.
К богачам без положения и происхождения особого почтения не испытывали. Когда богатый шляпник на покое купил имение по соседству и заделался помещиком, деревня негодовала.
– Кто он такой? – вопрошали ларк-райзцы. – Какой-то лавочник, корчащий из себя джентри. Я ни за что не стану работать на него, даже если он будет платить мне золотом!
Один мужчина, которого отправили чистить колодец на конном дворе у этого самого шляпника, говорил, что, когда увидел его, то хотел попросить продать ему шляпу; и на протяжении нескольких недель эти слова всюду повторяли как отменную шутку. Спустя годы Лоре поведали, что более образованные соседи ларк-райзцев испытывали к бывшему шляпнику почти такую же враждебность; они не ездили к недавно разбогатевшей семье с визитами. Это было еще до той поры, когда золотой ключ стал открывать любые двери.
Уважением пользовались землевладельцы с прочным положением в обществе и строгие или добрые мировые судьи, а также их жены. Некоторых отпрысков местных семейств называли «бешеными юнцами» и взирали на них с каким-то боязливым восхищением. Традиции Клуба адского пламени[8] еще не окончательно угасли, и некий молодой дворянин, по слухам, в один присест «продул» одно из своих поместий. Намекали и на грязные оргии, в которых якобы участвовала горстка деревенских красоток, и один праведный пастырь, седовласый старец, отправился увещевать молодого гуляку, в то время одиноко жившего во флигеле заброшенного фамильного особняка. Сведений о содержании этого разговора не сохранилось, но результат был известен. Старика вытолкнули с парадного крыльца, захлопнули за ним дверь и заперли ее на засов. Затем, как гласит история, пастырь встал на колени и громко помолился за «бедное многогрешное дитя». Садовник, проявив недюжинную смелость, довел старика до своего коттеджа и дал прийти в себя, прежде чем тот поплелся домой.
Впрочем, подавляющее большинство помещиков вели если и не очень полезную, по деревенским меркам, то, во всяком случае, достойную жизнь. Летом в три часа дня к дверям подъезжала коляска, и помещица и ее взрослые дочери, если таковые имелись, отправлялись с визитами. Когда хозяев дома не оказывалось, гостьи оставляли визитные карточки с загнутыми уголками, как полагалось по этикету. Или же проводили день дома, принимая посетителей, играя в крокет и потягивая чай под раскидистыми кедрами на ухоженных лужайках. Зимой помещики охотились с собаками; и летом, и зимой никогда не пропускали воскресную утреннюю службу в своей приходской церкви. Они обязательно улыбались и кивали менее состоятельным соседям, которые с ними здоровались, а обитателям коттеджей в своих владениях оказывали и более весомые знаки уважения. Что до их частной жизни, то простолюдины знали о ней не больше, чем бритты о римлянах, населявших виллы, разбросанные по сельской округе; и сомнительно, чтобы дворяне графства знали о своих скромных соседях больше, чем римляне о своих, хотя и говорили с ними на одном языке.
В иных местах кастовый барьер уже преодолевали: возможно – какой-нибудь молодой человек или девушка, которые опередили свое время и осознали, что население за воротами их парка – это не просто некая масса «бедняков», а отдельные личности, которым случилось появиться на свет в неимущей семье. О таких представителях знатной молодежи порой говорили:
– Он другой, мастер Раймонд; с ним можно покалякать о чем угодно, он больше похож на наших, чем на джентри. Такую, бывает, историю расскажет – животики надорвешь, к тому же он малый добрый и на все пуговицы не застегнут, как иные. Побольше бы таких, как он.
Или:
– Мисс Дороти, она другая. Не сыплет вопросами, когда является кого-нибудь навестить, а больше помалкивает, и если хочешь ей что-нибудь рассказать – можно смело рассказывать и быть уверенным, что она никому это не передаст. Я не возражала бы против ее визита даже в суматошный банный день, а это о чем-то да говорит.
А еще были старые няни и доверенные горничные, которых те, кому они служили, считали личностями и любили как настоящих друзей, невзирая на классовые различия. И когда хозяева во всеуслышанье называли своих слуг друзьями, тем это приносило более глубокое удовлетворение, чем любые материальные блага. Одна бывшая горничная, с которой Лора познакомилась уже позднее, много раз с большим чувством рассказывала о том, что, судя по всему, полагала венцом своего жизненного опыта. Она много лет служила у титулованной леди, вращавшейся в высшем обществе, одевала ее для приемов при королевских дворах, раздевала и укладывала в постель во время болезни, путешествовала с ней, потакала ее невинному тщеславию и знала (ибо, столь приближенная к ее особе, не могла не знать) самые сокровенные ее горести. И когда «ее светлость», уже состарившаяся, лежала на смертном одре, эта горничная, которая помогала ухаживать за умирающей, как-то оказалась с ней в комнате наедине, пока родственники леди, среди которых не было особенно близких, обедали внизу.
– «Приподними меня, – попросила хозяйка, я стала помогать ей, а она обхватила меня рукой за шею, поцеловала и проговорила: – Друг мой».
И даже двадцать лет спустя мисс Уилсон считала этот поцелуй и эти два слова более щедрой наградой за свою многолетнюю преданность, чем прекрасные коттедж и рента, доставшиеся ей по завещанию покойной леди.
V
Миссис Херринг
Заявив, что из гардеробной в спальне появилось привидение, Лора и не думала врать. Она искренне полагала, что видела духа. Однажды вечером, когда еще не совсем стемнело, но углы комнаты уже погрузились в сумрак, мама послала Лору наверх за какой-то вещью из сундука, и, когда девочка наклонилась над ним, с опаской косясь в тот угол, где находилась гардеробная, ей почудилось какое-то движение. В то время она была уверена, что там что-то зашевелилось, хотя не имела ясного понятия о том, что это такое. Возможно, то была прядь ее собственных волос, трепыхнувшийся край занавески или просто тень, замеченная краем глаза; но, что бы это ни было, его оказалось достаточно, чтобы Лора закричала и, спотыкаясь на бегу, бросилась вниз.
Сначала мама приласкала ее, потому что решила, что дочь упала с лестницы и ушиблась; но когда Лора сообщила, что видела привидение, мать сняла ее со своих колен и стала расспрашивать.
И тут девочка начала сочинять. На вопрос об облике призрака она сперва объявила, что тот был темный и лохматый, как медведь, затем – что он высокий и белый, и запоздало добавила, что глаза его напоминали фонари и ей почудилось, будто он держал что-то в руках, но она не уверена.
– Ясное дело, не уверена, – сухо ответила мама. – Если хочешь знать мое мнение – все это сплошные выдумки, и если ты не поостережешься, то падешь бездыханной, как Анания и Сапфира из Библии. – И для острастки принялась рассказывать эту историю.
После этого Лора никогда не говорила о гардеробной ни с кем, кроме Эдмунда; но она по-прежнему, как и всегда, сколько себя помнила, отчаянно боялась ее. Дверца, которая никогда не отпиралась и находилась в самом темном углу, наводила на девочку ужас. Даже мама никогда не заглядывала в гардеробную, поскольку ее содержимое принадлежало домовладелице, миссис Херринг, которая, съезжая из коттеджа, оставила кое-что из своих вещей, сказав, что очень скоро заберет их.
– Что же там хранится? – спрашивали друг друга дети. Эдмунд считал, что скелет, поскольку слышал, как мама говорила: «В каждом шкафу есть скелет», а Лора полагала, что нечто не столь безобидное.
Вечером, после того как брат с сестрой укладывались в постель и мама спускалась вниз, Лора поворачивалась к дверце спиной, но если она оглядывалась, а делала она это часто (иначе как можно быть уверенной, что дверца в это мгновение не открывается?), ей чудилось, будто в том углу скопился весь мрак комнаты. Там виднелись окно – серый квадрат, в котором порой появлялись одна-две звезды, – и смутные очертания стула и сундука, но в том месте, где находилась дверца гардеробной, была лишь темнота.
– Боишься запертой дверцы! – воскликнула однажды вечером мама, когда обнаружила дочь сидящей в постели и дрожащей от страха. – Что там хранится? Куча старого хлама и больше ничего, уж поверь. Будь там что-нибудь ценное, она бы давно его забрала. Ложись и спи, давай же, и не болтай глупостей!
Хлам! Хлам! Какое диковинное слово, особенно если снова и снова твердить его под одеялом. Как объяснила мама, оно обозначало негодные старые вещи, но Лоре по звучанию казалось, что это скорее ожившие черные тени, надвигающиеся на человека.
Ее родителям гардеробная тоже не нравилась. Они платили за аренду дома и не понимали, почему пусть даже небольшая его часть по-прежнему используется владелицей; и пока гардеробная не опустела, они не смогли осуществить свой план: снять ее переднюю стенку, чтобы расширить комнату и с помощью деревянной перегородки устроить отдельную спаленку для Эдмунда. Поэтому отец написал миссис Херринг, и в один прекрасный день она приехала, оказавшись маленькой, сухонькой старушкой с темно-коричневой родинкой на заскорузлой щеке и в черном чепце, украшенном агатовыми висюльками, похожими на крошечные удочки. Мама спросила, не желает ли она снять чепец, но миссис Херринг ответила, что не может, потому что не захватила домашний чепчик; а чтобы придать себе в доме менее официальный вид, развязала бант под подбородком и перебросила ленты через плечи. Незакрепленный чепец все сильнее съезжал набок и в сочетании с изысканными манерами домовладелицы выглядел странновато.
Эдмунд и Лора сидели на кровати и смотрели, как миссис Херринг вытряхивала старую одежду, проверяла, не трачена ли та молью, и сдувала пыль с посуды мехами, позаимствованными у жильцов, пока воздух в чистой, светлой комнате не сделался пропыленным, словно в известковой печи.
– Сколько пыли! – сказала мама, брезгливо наморщив хорошенький носик. Но миссис Херринг и глазом не моргнула. С какой стати? Она ведь в собственном доме; ее жильцы удостоились великой чести, снискав позволение тут поселиться. По крайней мере, именно так Лора поняла домовладелицу, надменно вздернувшую свой маленький заостренный нос.
Когда дверца гардеробной наконец распахнулась, за ней оказался просторный, уходящий вглубь, под наклонную крышу коттеджа, чулан с побеленными стенами. Он был битком набит разным барахлом, скопившимся за многие годы: старой одеждой и обувью, стульями без ножек, пустыми картинными рамами, чашками с отбитыми ручками и чайниками с отбитыми носиками. Главные ценности – валик для кружевоплетения на стойке, огромный зеленый зонт со спицами из китового уса и набор медных тазиков для варенья, которые, по словам Лориной матери, впоследствии будут стоить кучу денег, – уже были снесены вниз. В окно было видно, как мистер Херринг в серо-коричневых гетрах на тощих ногах укладывает их в двуколку. Для всех вещей места в двуколке не хватало, а арендовать ее еще на день было бы чересчур дорого. Так что теперь миссис Херринг предстояло решить, что предпринять дальше.
– Думаю, как мне лучше поступить, – то и дело повторяла она, обращаясь к матери Лоры и Эдмунда, однако так не получила полезного совета от той, которая терпеть не могла «старое барахло, распиханное по темным углам».
– Старая скопидомка, настоящая старая скопидомка! – прошептала мама Лоре, когда миссис Херринг спустилась вниз посовещаться с мужем. – И не вздумай попадаться мне на глаза с той рухлядью, которую она тебе отдала. Убери ее, а когда миссис Херринг уедет, мы ее постираем или сожжем.
Брат и сестра с неохотой убрали подарки. Эдмунд был рад получить сломанный штопор и маленький моток бечевки, а Лора восторгалась игольником в виде книжечки с фланелевыми страничками и полотняным переплетом с вышитой крестиком надписью «Будь прилежна». Все иглы внутри оказались ржавыми, но это не имело значения; игольник восхищал Лору как произведение искусства. Но прежде чем дети успели возразить матери, над перилами показалась голова миссис Херринг; ее чепец к тому времени еще сильнее съехал набок, а на лице повисла паутина.
– Не пригодится ли вам это, дорогая? – спросила она, протягивая связку легких стальных обручей, снятую с гвоздя на стене гардеробной.
– Без сомнения, это весьма любезно с вашей стороны, – последовал сдержанный ответ, – но, пожалуй, кринолин я носить не стану.
– Да. Он уже вышел из моды, – признала миссис Херринг. – И очень жаль, ведь это был удобный фасон для молодых замужних женщин. Я знавала таких, которые, нацепив кринолин побольше, дохаживали до самых родов, так что даже ближайшие соседи ничего не подозревали. Не то что нынешние бесстыдницы! А вот прекрасная фотография принца-консорта[9]. Уверена, вы о нем и слыхом не слыхивали, – обратилась она к детям.
Вовсе нет. Мама поведала Лоре и Эдмунду, что, когда умер принц-консорт, все женщины в стране облачились в траур, и, сколько бы им об этом ни рассказывали, дети каждый раз обязательно спрашивали: «Ты тоже носила траур, мама?» А мама отвечала, что в то время была маленькой девочкой, но надевала черный кушак и ленты. Дети знали, что принц-консорт был мужем королевы, хотя почему-то не королем, и что он был настолько хороший, что при жизни его никто не любил, кроме королевы, которая «души в нем не чаяла». Все это они выяснили постепенно, потому что у их соседки, носившей прозвище Старая Куини[10], была табакерка с портретами принца-консорта и королевы на крышке.
Однако миссис Херринг вернулась в чулан и, поскольку не могла забрать все свои вещи, решила проявить великодушие.
– А вот миленькая бисерная скамеечка для ног. Она попала ко мне из Тасмор-хауса после пожара, так что не сомневайтесь, вещь хорошая. Можете ее забрать, дорогая. Мне бы хотелось, чтобы она осталась у вас.
Лорина мать окинула взглядом маленькую круглую скамеечку с ножками в виде когтистых лап и шитой бисером обивкой. Ей эта вещица очень понравилась, но она положила себе ничего не брать. Возможно, ей также пришло в голову, что скамеечка все равно достанется ей, ведь миссис Херринг придется оставить все, что она не сумеет захватить с собой, потому что она снова произнесла:
– Без сомнения, это весьма любезно с вашей стороны, но я не знаю, пригодится ли она мне.
– Пригодится, пригодится! – заверила ее миссис Херринг. – Храни вещь семь лет, и ты обязательно найдешь ей применение! Кроме того, – довольно категорично добавила она, – скамеечка для ног необходима, когда кормишь грудью; вы же не станете делать вид, будто вам уже не доведется этого делать, и делать не единожды, – в вашем-то возрасте!
К счастью, в этот момент снизу донесся крик мистера Херринга, сообщавшего, что двуколка забита до отказа и он даже иголку больше не втиснет, поэтому его жена с глубоким вздохом заявила, что, судя по всему, остальное ей придется оставить тут.
– Возможно, вам удастся продать что получше и пустить деньги на оплату аренды, – с надеждой предложила миссис Херринг, но мама Лоры и Эдмунда решила, что лучший способ избавиться от хлама – костер в саду. Однако после отъезда домовладелицы она отобрала, почистила и сохранила несколько вещей, в том числе бисерную скамеечку для ног, медный половник и маленькие дорожные часы, которые после починки вызывали восторг у детей, поскольку бой часов сопровождался коротенькой мелодией: «дзынь, дзынь, дзынь, динь-динь-динь» – и так день за днем на протяжении целых сорока лет! Затем, отслужив, наконец, свой срок, они переселились на полку в мансарде Лориного дома.
На первом этаже накрыли «чай для гостей». На столе красовались лучший сервиз с широкими гирляндами из розовых роз по краям чашек, сердцевинки салата-латука, тонкие кусочки хлеба со сливочным маслом и хрустящие кексы, испеченные утром. Эдмунд и Лора чинно восседали на жестких «виндзорских» стульях. Сперва полагалось взять по кусочку хлеба с маслом. Хлеб с маслом всегда вначале: дети затвердили это как «отче наш». Однако мистер Херринг, самый старший из присутствующих, который был обязан подавать хороший пример, начал с кексов, внимательно осматривая каждый, а затем в два счета расправляясь с ним. Впрочем, не успел он доесть последние несколько кексов, как миссис Херринг положила ему на тарелку кусочек хлеба с маслом и многозначительно протянула латук; а когда он скрутил нежные молодые листья салата в тугой рулет и обмакнул в солонку, его жена взяла ложечку и насыпала соли на край его тарелки.
Миссис Херринг ела очень благовоспитанно: крошила кекс на тарелку, выбирала и отодвигала в сторону смородину, поскольку, как она объяснила, та была ей не по вкусу. Беря чашку, она округляла отставленный мизинец и отхлебывала чай, точно птица, подняв глаза к потолку.
Пока все сидели за столом, дверь была широко распахнута, и с улицы доносились аромат цветов и жужжание пчел, виднелись покачивающиеся верхушки фруктовых деревьев, словно обещая Лоре и Эдмунду, что скоро чопорное, церемонное чаепитие закончится и вся эта благодать будет ожидать детей в саду. Тут у дома остановилась какая-то женщина, внимательно осмотрела нагруженную двуколку, поставила ведра с водой и отворила калитку.
– Да ведь это Рэйчел. Чего ей надо? – сказала Эмма, несколько раздосадованная вторжением. А Рэйчел надо было знать, что за гости приехали и с какой целью.
– Уж не миссис ли Херринг это… и мистер Херринг вместе с ней! – воскликнула соседка с оттенком радостного удивления, приблизившись к двери. – Надо думать, вы притащились, чтобы разобрать этот ваш старый чулан! Я так и решила, когда увидела у калитки двуколку: «Это миссис Херринг наконец-то явилась за своим барахлом». Но я была не совсем уверена, ведь вы набросили сверху водонепроницаемую покрышку. Как вы оба поживаете там у себя?
Во время этой речи миссис Херринг на глазах оцепенела.
– У нас все хорошо, спасибо, – процедила она, – и нам очень нравится наше нынешнее жилище, хотя не понимаю, какое вам до того дело.
– О, это не в обиду вам, не сердитесь, – слегка смутилась Рэйчел. – Я лишь хотела узнать, так, по-дружески.
И, тяжело ступая, она отправилась восвояси, мимоходом бросив на двуколку последний любопытный взгляд.
– Нет, вы слыхали? – воскликнула миссис Херринг. – Я в жизни не видывала такого количества невеж! Женщина, с которой я, живя здесь, едва давала себе труд здороваться, смеет так панибратски ко мне обращаться!
– Она ничего дурного не имела в виду, – стала оправдываться Эмма. – Здесь так мало всего происходит, что люди интересуются приезжими куда больше, чем в городе.
– Эта особа мною интересуется! Какая бесцеремонность! – воскликнул до сих пор молчавший мистер Херринг. – Будь моя воля, я бы поучил ее, как вести себя с теми, кто выше ее по положению.
– Видит бог, пока мы здесь жили, я делала все возможное, чтобы указать им место, – вздохнула миссис Херринг, остывая, – но все без толку. Если бы вы спросили меня, почему мы вообще решили тут поселиться, я не смогла бы вам ответить, разве что сказала бы, что дом этот в то время, когда мистер Херринг ушел на покой, отдавали задешево, а в придачу шел отличный участок земли. В Кэндлфорде все совсем по-другому. Конечно, и там есть бедняки, но мы не водим с ними компанию; они обитают в своей части города, а мы – в своей. Видели бы вы наш дом: красивая чугунная ограда перед фасадом, и крыльцо с лестницей не такое, как здесь, где дверь выходит прямо на дорожку и, отворяя ее, вы тотчас натыкаетесь на кого-нибудь, не успев ничего сообразить. Не то чтобы сам дом нехорош, – поспешно добавила миссис Херринг, вспомнив, что является владелицей коттеджа, – но вы понимаете, о чем я. Кэндлфорд другой. Цивилизованный, как выражается мой зять, а ведь он работает в самой большой бакалейной лавке города, кому и знать, как не ему. «Цивилизованный город», – говорит он, и это правда. Деревню, подобную этой, не назовешь цивилизованной, не так ли?
Лора думала, что «цивилизованный» – это, должно быть, нечто очень хорошее, пока не спросила маму, что означает это слово, и та ответила: «Цивилизованное место – это место, где люди ходят в одежде, а не бегают голышом, как дикари». Так что ничего оно не значило, ведь в этой стране одежду носят все. Одна пожилая жительница Ларк-Райза зимой надевала целых три фланелевые нижние юбки. Лора решила, что если все кэндлфордцы похожи на мистера и миссис Херринг, они ей не очень нравятся. Как невежливо они обошлись с бедняжкой Рэйчел!
Впрочем, Херринги оказались забавными. Когда в тот вечер домой с работы вернулся отец, мама описала ему визит домовладельцев, изобразив сначала голос миссис Херринг, а потом мистера Херринга, придав первому еще больше жеманства, а второй сделав еще более отрывистым и скрипучим, чем в действительности.
Все долго смеялись, а потом отец сказал:
– Совсем забыл: вчера вечером я видел Харриса, и он сообщил, что мы можем одолжить пони и тележку в любое воскресенье, когда захотим.
Дети так обрадовались, что сочинили маленькую песенку:
- Мы все поедем в Кэндлфорд,
- Кэндлфорд, Кэндлфорд,
- Мы все поедем в Кэндлфорд
- С родными повидаться.
И так часто распевали ее в доме, что мама заявила, будто та вгоняет ее в тоску. Выяснилось, что мало одолжить пони и тележку; необходимо было скопить и отдать полугодовую плату за дом, ибо, как ни велик Кэндлфорд, Херринги прознают об их приезде. Этим любопытникам известно все, и если не выплатить им аренду, они решат, что у их жильцов нет денег. Этому никогда не бывать. «Не будь бедным и не выгляди бедным», – гласил семейный принцип. Кроме того, надо было переделать воскресные наряды и приобрести мелкие подарки, чтобы захватить их с собой. В те времена планирование летней воскресной прогулки означало нечто большее, чем нынешнее перелистывание автобусного расписания.
VI
В Кэндлфорд
Одним ранним воскресным утром, когда вся деревня еще спала, небо было розовым, а садовые цветы и смородиновые кусты матово-серебристыми от росы, у калитки послышался стук колес, и дети поняли, что прибыла старая трактирщикова пони с тележкой, которая должна была отвезти их в Кэндлфорд.
Родители ехали на переднем сиденье, отец надел свой лучший черный пиджак и брюки в серую полоску, мама блистала в бледно-сером подвенечном платье с бесчисленными ярусами воланов, окаймленных узкой голубой бархатной тесьмой. Свадебный капор мама давно не носила, поскольку, по ее словам, головные уборы слишком быстро выходили из моды, и в этот раз надела крошечную синюю бархатную шляпку, напоминавшую маленький круглый коврик с широкими бархатными лентами, завязанными бантом под подбородком, – новую вещь, приобретение которой послужило причиной задержки экспедиции. На коленях она держала корзинку с подарками: бутылкой бузинного вина собственного изготовления, специально откормленную курицу и полосу коклюшечного кружева, сплетенного на заказ соседкой, из которого, по маминому мнению, должны были получиться красивые воротнички для воскресных нарядов кузин. Отец, не желая уступать ей в щедрости, в последний момент завалил задок рессорной тележки, где предстояло сидеть Эдмунду и Лоре, отборными овощами со своего огорода, так что Лора всю дорогу ехала с задранными выше сиденья ногами, покоившимися на мешке с весенней капустой, самой ранней в сезоне.
Наконец детей пристегнули ремнями к высокому узкому сиденью, спиной к родителям, и семейство отправилось в путь. Отец уговаривал дряхлую серую лошадку миновать ворота конюшни, к которым та решительно устремлялась.
– Давай же, Полли, старушка. Ты совсем не устала. Мы ведь только выехали.
Позднее он потерял терпение и обзывал ее «убогой кобылкой», а один раз, когда Полли остановилась как вкопанная посреди дороги, выругался:
– Будь проклята эта кляча!
И мама оглянулась через плечо, точно боясь, что хозяин пони его услышит. В промежутках между остановками Полли бежала неровной рысью, и дети подпрыгивали на сиденье, словно резиновые мячики. Для них эта поездка была столь же захватывающей, сколь для современного ребенка полет на самолете.
С высокого сиденья были видны простиравшиеся за живыми изгородями лютиковые луга, на которых лежали коровы, жуя влажную траву; в утреннем тумане смутно вырисовывались большие упряжки, пахавшие землю. В одном месте на изгороди уже распустились первые цветы шиповника, и отец кнутом сорвал цветущую ветку и передал ее через плечо Лоре. Нежные бледно-розовые чашечки цветков были полны росы. Чуть дальше отец остановил Полли, передал поводья матери и спрыгнул на землю.
– А! Я так и думал! – проговорил он, просунув руку в живую изгородь в том месте, откуда на его глазах недавно выпорхнула птица, и вернулся с двумя ярко-синими яйцами на ладони, дал всем пощупать и погладить их, после чего положил обратно в гнездо. Яйца были теплые и гладкие, как атлас.
Копыта Полли цокали по пыльной дороге, сбруя скрипела, колеса с железными ободами дребезжали на каменистых участках. Казалось, большак проложили исключительно для удобства наших путешественников. Никакого движения по нему не было. Фермерские повозки и фургоны пекарей, сновавшие тут по будням, остались во дворах с задранными кверху оглоблями; помещичьи экипажи недвижно стояли в просторных, мощенных каменными плитами каретных сараях, а кучера, возницы и извозчики еще спали, ибо было воскресенье.
Шторы в придорожных коттеджах были опущены, сады пустынны, если не считать притаившейся кошки или дрозда, разбивающего улитку о камень, и дети, трясясь и подпрыгивая на ухабах, ехали по безмятежному утреннему миру, затаив в сердцах счастливое ожидание.
Они переезжали в Кэндлфорд. Поездка в другой город всегда называлась «переездом», ибо сельские жители никогда не говорили просто «поехать куда-то»; ведь по пути надо было совершать подъемы, спуски и объезды, преодолевать препятствия, и этих подъемов и спусков, а также маленьких ручьев, которые приходилось пересекать, дорожных ворот, которые надо было открывать, насчитывалось так много, что слово «переезд», кажется, лучше всего описывало это путешествие.
Ближе к полудню они проехали через какое-то село. Люди в воскресных нарядах стекались к воротам, что вели на церковное кладбище. Сквайр и фермеры, а также старший садовник сквайра, школьный учитель и деревенский плотник были в цилиндрах. Батраки надели котелки, старики – мягкие черные фетровые шляпы. Рядом с мужчинами в цилиндрах шествовали женщины в богатых, темных, тяжелых платьях, державшие мужей под руку, а дети чинно шагали впереди или, уже не столь чинно, позади. Другие селяне, в будничной одежде, очень чистых сорочках и не зашнурованных по случаю выходного ботинках, несли свои обеды в пекарню или стояли группками у ее дверей; а по дороге перед ними медленно переступали взад-вперед две холеные серые лошадки, впряженные в экипаж с кучером и лакеем на запятках, щеголявших в блестящих шляпах с кокардами. Школьники под предводительством учительниц парами направлялись из воскресной школы в церковь.
Село это с его очаровательными коттеджами по обеим сторонам улицы, обсаженной молодыми каштанами, было таким многолюдным и живописным, что Лора сначала приняла его за Кэндлфорд. Но нет, сообщили ей; это вотчина лорда Такого-то. Без сомнения, экипаж и серые лошадки принадлежали именно ему. Это была так называемая образцовая деревня, где в каждом доме было по три спальни и имелись насосы для подачи воды в коттеджи.
Лорин отец заявил, будто там позволяют селиться лишь порядочным людям. Вот почему в церковь явилось так много людей. Казалось, он говорил серьезно, но мама цыкнула языком, и, чтобы задобрить ее, муж заметил, что, по его мнению, пекарня – это отличная идея.
– Ты бы хотела отдавать туда свое воскресное жаркое, чтобы его испекли, и, выходя из церкви, получать его уже готовым? – спросил он маму. Но это, похоже, ей тоже не понравилось; она сказала, что хороший обед состоит не только из жаркого, а кроме того, можно ли быть уверенным, что тебе вернут весь вытопившийся из мяса жир? Забавно, ведь у пекарей частенько бывает в продаже топленый жир. Они уверяют, будто покупают его у поваров из загородных поместий. Но так ли это на самом деле?
Вскоре после того, как образцовое село осталось позади, Полли притомилась, остановилась на дороге, и мама предложила сделать привал, надеть на пони торбу[11], а самим немного перекусить. Итак, все вылезли из повозки и, рассевшись, словно цыгане, на куче камней, стали лакомиться кексами, пить молоко из бутылки, слушать жаворонков над головой и вдыхать запах дикого тимьяна под ногами. К этому времени семейство уже очутилось в чужой местности, среди больших лугов с одиночными деревцами, где паслись или глазели на путешественников сквозь железные ограды по обочинам дороги стада волов. Отец указал на какие-то земляные укрепления, возведенные, по его словам, еще римлянами, и так хорошо описал древних воинов в медных шлемах, что дети воочию представили их себе; но ни ему, ни Лоре с Эдмундом и в голову не пришло бы, что однажды, еще при их жизни, соседний луг окружат строения, называемые «ангарами», и с него будут взмывать в небо другие воины, вооруженные куда более смертоносным оружием, чем то, которое когда-либо было известно римлянам. Нет, пока тот луг, ровный и зеленый, мирно нежился на солнышке в ожидании будущего, о котором никто и помыслить не мог.
Вскоре после привала впереди показался Кэндлфорд. Сначала – придорожные коттеджи, утопавшие в цветниках, затем дома на две семьи с аккуратными палисадничками за чугунными оградами и мощенными плиткой дорожками, ведущими к дверям. Затем газгольдер (ведь Кэндлфорд уже был газифицирован!) и железнодорожная станция, откуда в город можно было добраться из любого района, кроме местности, где находился Ларк-Райз, поскольку туда еще не провели железную дорогу. Потом появились тротуары, фонари и люди – столько людей дети никогда в жизни не видели. Но еще в предместьях брат с сестрой почувствовали, как мама подтолкнула отца локтем, и услышали:
– Вот тебе твоя роскошь! И даже перья!
Затем мама воскликнула:
– Вон Этель и Альма, они идут нам навстречу. Это ваши кузины. Обернитесь и помашите им, ребята!
Все еще пристегнутая к сиденью Лора кое-как оглянулась и увидела, что к ним приближаются две высокие девушки в белом.
Над их мягкими соломенными шляпами развевались длинные белые страусовые перья, шокировавшие маму, вероятно, отчасти по контрасту с простенькой Лориной шляпкой из белой соломки и с розовым бантом в тон платью. Шляпы были совершенно одинаковые, перья на них – также одинаковой, вплоть до последней пушинки, густоты. И белые вышитые муслиновые платья Лориных кузин были копиями друг друга, потому что тогда было модно одевать сестер одинаково, независимо от типа внешности. Девушки заметили родственников и подбежали к тележке, демонстрируя длинные ноги в черных чулках и блестящих лакированных туфельках. После расспросов о здоровье кузин, их родителей и остальных членов семьи девушки подошли к задку повозки.
– Так это Лора? А это милый малыш Эдмунд? Очень приятно. Как поживаете?
Альме было двенадцать лет, а Этель тринадцать, но такими холодными, недетскими манерами могли бы обладать и двадцатипятилетние, и тридцатилетние женщины. Лора уже пожалела, что они не остались дома, когда, застенчиво покраснев, ответила за себя и Эдмунда. Ей с трудом верилось, что эти высокие, нарядные, почти взрослые девушки – ее кузины. Она ожидала чего-то совсем иного.
Однако девочка почувствовала себя непринужденнее, когда повозка двинулась дальше и Этель и Альма пошли рядом, по обе стороны задка, с легкой улыбкой отвечая на вопросы, выкрикиваемые их дядюшкой. Да, дядя, Альма до сих пор учится в кэндлфордской школе; а Этель поступила в пансион мисс Басселл, приезжает домой в пятницу вечером и в понедельник утром уезжает обратно. Она пробудет там, пока не наступит время идти в училище, где готовят школьных учительниц.
– Вот и правильно! – крикнул Лорин отец. – Ежели сейчас напичкаешь себя знаниями, в будущем сможешь пичкать ими других людей. А Альма, она тоже пойдет в учительницы?
О нет, Альма по окончании школы собиралась поступить в ученицы к придворной портнихе в Оксфорде.
– Превосходно, – одобрил дядюшка. – Когда Лору будут представлять ко двору, Альма сможет сшить ей платье.
Девушки неуверенно рассмеялись, словно не были уверены, шутит он или нет, и Эмма сказала мужу, чтобы он «не паясничал», но Лоре стало не по себе. Она решила, что речь идет о скотном дворе, и мысль о том, что ее зачем-то будут там представлять, была не особенно приятна.
Еще раньше было условлено, что ларк-райзское семейство будет обедать в доме Этель и Альмы – не потому, что их родители были самыми состоятельными из кэндлфордской родни, но потому, что их дом находился ближе всего ко въезду в город. После этого гости должны были навестить других родственников. Лоре показалось, что мама предпочла бы отправиться сразу туда, поскольку еще дома, при обсуждении предстоящих планов, она заявила, что терпеть не может шумиху и бахвальство и что деньги – это еще не все, хотя иные люди, у кого их много, могут так думать.
– Впрочем, – заключила мама, – это твои родственники, не мои, и я надеюсь, что ты понимаешь их лучше, чем я. Только, ради бога, не переходи с Джеймсом на политику, как на нашей свадьбе. Когда вы двое спорите до посинения, то никогда не соглашаетесь друг с другом, так какой же смысл спорить.
И ее муж довольно кротко, что было для него нехарактерно, пообещал не поднимать эту тему первым.
Кэндлфорд показался Лоре очень большим и величественным городом: тут было несколько сходившихся к площади улиц со множеством больших, зашторенных по случаю воскресенья витрин, дом врача с красной лампой над дверью, церковь с высоким шпилем, женщины и девушки в легких летних платьях, мужчины в элегантных костюмах и белых канотье.
Но тележка остановилась перед высоким белым домом, стоявшим в глубине небольшой лужайки, на которой рос каштан. Вывеска информировала публику о том, что «Джеймс Доуленд, строитель и подрядчик» производит «строительные, ремонтные и санитарно-гигиенические работы. Смета бесплатно».
Читатели, без сомнения, замечали, сколь редко строители живут в домах, возведенных ими самими. Вы попадаете в город или деревню, разрастающиеся во всех направлениях, с домами и особняками, являющими собой шедевры современности; однако, как правило, обнаруживаете, что их строитель обитает почти в самом центре, с уютом и удобством поселившись в более солидном, хотя и менее комфортабельном здании довольно давней постройки. Дом дяди Джеймса Доуленда, вероятно, относился к георгианской эпохе. Восемь красиво расположенных на фасаде окон обрамляли гирлянды глицинии, по сторонам лестницы, ведшей на крыльцо с козырьком, были врыты низкие белые столбики с цепями, окружавшие маленькую лужайку. Но Лора, успев составить лишь общее впечатление и подумать: «Какой милый дом», очутилась в ласковых объятиях тетушки Эдит, выразившей уверенность, что все семейство устало после долгой поездки под палящим солнцем и будет радо отдохнуть; дядюшка же скоро будет здесь. Теперь он церковный староста и должен присутствовать на утренней службе; и если Роберт отведет повозку к воротам во двор («Ты не забыл дорогу, Роберт?»), то Альма велит мальчику-слуге присмотреть за пони.
– Он приходит по утрам в воскресенье на час-два, чтобы почистить ботинки и ножи, ну, ты понимаешь, Эмми, и я намеренно задержала его сегодня. А вы поднимайтесь со мной в дом, и я найду лосьон против Лориных веснушек; а потом вы все должны выпить по бокалу вина, чтобы освежиться. Оно моего собственного изготовления, так что детям тоже можно, не бойтесь. Джеймс ни за что бы не допустил в доме хмельных напитков.
Интерьер дома после их собственного невзрачного коттеджа показался Лоре дворцом. По сторонам от входа располагались две гостиные, и в одной из них находился стол, уставленный графинами, бокалами для вина и блюдами с кексами, фруктами и печеньем.
– Какой чудесный обед, – прошептала Лора матери, когда они на мгновение остались в комнате одни.
– Это не обед, а легкая закуска, – тихо ответила та, и Лора решила, что «легкая закуска» означает праздничный обед, устраиваемый в подобных случаях. Потом вернулись отец и брат, ходившие мыть руки, и Эдмунд стал возбужденно рассказывать про цепочку, за которую можно потянуть, чтобы спустить воду:
– Воды там больше, чем в ручье у нас дома!
Мама шикнула на него и добавила, что про цепочку объяснит позднее. Лора этого чуда не видела. Они с матерью сняли шляпки и вымыли руки в парадной спальне – великолепной комнате с кроватью под зеленым балдахином и широким умывальником с двумя кувшинами и тазиками.
– Удобства вон в том углу, – сообщила тетушка, и «удобства» оказались неким подобием трона с ковровой обивкой на ступенях и открывающейся крышкой. Но Лора была старше Эдмунда и знала, что упоминать о таких вещах неприлично.
Наконец явился дядя Джеймс Доуленд. Это был крупный, внушительной наружности мужчина, который словно заполнил собой даже эту большую, просторную комнату. После его прихода поток добродушной болтовни тетушки Эдит иссяк, а Альма, порхавшая вокруг стола, накладывая себе понемногу со всех блюд, опустилась на диван и натянула короткую юбку на колени. Лора, которую в знак приветствия тяжело потрепали по голове, спряталась за спиной матери. Дядя Джеймс был так высок, дороден и смугл, у него были такие кустистые брови и густые усы, такой лощеный воскресный костюм и такая увесистая золотая цепочка для часов, что рядом с ним остальные присутствующие, казалось, отошли на второй план. Кроме Лориного отца, почти столь же рослого, хотя и более стройного, который стоял с Джеймсом на каминном коврике и беседовал об их ремесле. Впоследствии выяснилось, что это единственная безопасная тема.
Дядя Джеймс Доуленд был из числа тех ярых общественников, которых в то время можно было встретить в любом провинциальном городе или большом селении. Руководя собственной, отнюдь не маленькой, компанией по строительству новых домов, ремонту старых и поддержанию в исправном состоянии крыш и водостоков, вдобавок он являлся народным церковным старостой[12], певчим, иногда органистом, членом всех местных комитетов и аудитором всех благотворительных счетов. Но главным его увлечением было движение трезвенников, в ту пору – обычная примета приходской жизни. Ненависть Джеймса Доуленда к спиртным напиткам превратилась в фобию, и он частенько говаривал, что тот из его работников, кого он заметит у входа в трактир, перестанет у него трудиться. Однако дядя Джеймс не довольствовался тем, что установил трезвеннические порядки у себя дома и в компании; поле его деятельности распространилось на весь город, и если ему удавалось уговорить или подкупить какого-нибудь несчастного рабочего, чтобы тот отказался от своей вечерней полпинты, он так воодушевлялся, словно получил подряд на строительство особняка.
Дядя Джеймс стремился завербовать в трезвенники даже самых маленьких детей. Он водил их крошечными ручками, когда они подписывали зарок воздержания от алкоголя, и, чтобы удержать их в своих рядах, создал «Ансамбль надежды», который собирался раз в неделю, чтобы угощаться за его счет булочками и лимонадом и исполнять под аккомпанемент школьной фисгармонии такие духоподъемные песенки, как «Прошу, не продавайте выпивку вы моему отцу» или:
- Мой дорогой отец, пойдем домой сейчас,
- Часы на колокольне уж пробили час.
- Ты обещал домой с работы приходить
- И по пути нигде не пить и не кутить.
А в это время их собственные достойные отцы, выпив в любимом трактире свои скромные полпинты, уже сидели по домам, и припозднившимся певцам, вероятно, грозили неприятности.
В то первое воскресенье и Эдмунд, и Лора подписали красивый, с сине-золотыми узорами, лист с текстом зарока, тем самым пообещав впредь не прикасаться к хмельным напиткам, «и да поможет мне Господь». Они в точности не знали, что такое хмельные напитки, но листы им понравились, и они обрадовались, когда дядя предложил вставить их в рамочку и повесить у них дома над кроватями.
Тетушка Эдит приглянулась брату с сестрой куда больше. Она была розовая, пышная, с волнистыми седыми волосами и ласковыми серыми глазами. На ней было серое шелковое платье, и при каждом движении от нее исходил слабый аромат лаванды. Она казалась доброй и действительно была добра; но, как вскоре выяснилось и подтвердилось, о ней больше нечего было сказать. Когда рядом не было мужа и дочерей, тетушка Эдит неумолчно щебетала, перескакивая с темы на тему, словно журчащий ручеек. Она чрезвычайно восхищалась своим мужем, и каждое мгновение, проведенное в обществе Лориной матери, посвящала его восхвалениям. Джеймс говорил то, Джеймс сделал это, а вот история, доказывающая, насколько его ценят и уважают. В присутствии мужа Эдит как будто побаивалась его и, несомненно, боялась своих дочерей. Прежде чем выразить собственное мнение или условиться о чем-нибудь, она непременно осведомлялась у девочек: «Как по-твоему, дорогая?» или: «Что бы ты сделала на моем месте?» Затем хозяйка дома обращалась к невестке: «Ты, конечно же, понимаешь, Эмми, у них, с их-то образованием и знакомствами, совсем другие понятия». Эдит уже успела поведать гостье, что ее дочери иногда играют в теннис у дома священника.
Лора считала кузин самодовольными особами и, хотя не могла выразить это словесно, чувствовала, что они относятся к ней и ее матери покровительственно, как к бедным родственницам; впрочем, возможно, девочка ошибалась. Быть может, причина заключалась лишь в том, что мисс Доуленд были настолько далеки от ларк-райзской родни по обстоятельствам и интересам, что не имели с ними ничего общего. То был единственный раз, когда Лора и ее кузины при встрече общались более-менее на равных. Во время ее следующего визита девушки были в отъезде и стали взрослыми прежде, чем она увидела их снова. Лора успела заметить последний взмах их юбок, когда они начали стремительно взбираться по социальной лестнице, которая увела обеих сестер из ее жизни.
Обед, последовавший сразу за легкой закуской, оказался превосходным. На одном конце стола красовалась ножка ягненка, зажаренная на открытом огне, чтобы сохранить соки, на другом – пара отварных кур, украшенных ломтиками ветчины. А кроме того – желе, творожники и крыжовенный пирог со сливками.
Посуду приносила и убирала «девушка». В те времена в семьях ремесленников служанку, независимо от возраста, всегда называли «девушкой». В данном случае это была девушка лет пятидесяти, которая жила при тетушке Эдит со дня замужества последней и должна была остаться здесь до конца ее жизни. По словам Лориной матери, служанка была перегружена работой, но если и так, ее, по-видимому, это устраивало, ибо она была румяна и кругла, как бочка, а единственная жалоба, которую от нее когда-либо слышали, состояла в том, что «миссис» всегда раскатывает тесто сама, хотя знает, что она, Берта, со скалкой управляется ловчее. Берта убирала, чистила и натирала весь этот огромный дом, по понедельникам помогала прачке, готовила еду, штопала чулки, и все это за двенадцать фунтов в год. Она тоже была добра. Заметив в то первое посещение, что Лоре после «легкой закуски» уже не хочется обедать, Берта, пока остальные беседовали, тихонько убрала со стола тарелку девочки, к которой та едва притронулась.
Обед был роскошный и утонченный, но для ребенка с такими радужными ожиданиями ужасно скучный. Все вернулись в первую гостиную. Закуски исчезли, а на столе осталась лишь зеленая плюшевая скатерть. Этель и Альма ушли в воскресную школу, которую обе посещали, а Лоре дали посмотреть книгу с видами Рамсгита. Шторы опустили, поскольку солнце светило прямо в окна, и в комнате пахло воскресными нарядами, полиролем и ароматическими благовониями. Эдмунд успел прикорнуть на коленях у матери, Лору тоже стало клонить в сон, но тут приглушенный гул беседы, которую взрослые вели у нее над головой, нарушили громкие крики:
– Ирландия! Гомруль! Гладстон говорит… Лорд Хартингтон говорит… Джоуи Чемберлен говорит…
Мужчины все-таки обратились к теме, которой столь страшилась мама.
– Они такие же подданные королевы Виктории, как и мы, не так ли? – настаивал дядюшка Джеймс. – Что ж, пусть тогда ведут себя соответственно и будут признательны за то, что у них достойное правительство. Хорошенькое выйдет дело, если предоставить им самоуправление, они ведь не более чем свора пьяных дикарей.
– Понравилось бы тебе, если бы в Англию вторглись чужаки… – начал отец.
– Я бы посмотрел, как у них это получится, – перебил его Джеймс.
– …Если бы в Англию вторглись чужаки и начали лить кровь, как воду, жечь наши дома и мастерские, насаждать свою религию. Держу пари, ты захотел бы избавиться от них и вернуть себе независимость.
– Ну, мы же их завоевали, не так ли? Так что пусть знают, кто их хозяева, а если не будут ходить по струнке, пускай наши солдаты отправятся туда и заставят их.
– Скольких ирландцев ты за свою жизнь знал лично?
– Знай я всего одного, и этого было бы чересчур; но вообще-то на меня в разное время трудились несколько человек. А еще был полковник Диммок в Брэдли, он прогорел, и я потерял столько денег, сколько ты в жизни не заработаешь.
– Ну Боб! – взмолилась Лорина мама.
– Ну Джеймс! – подхватила тетушка. – Ты сейчас не на собрании, а дома, и сегодня воскресенье. Какое вам обоим дело до Ирландии. Вы никогда там не были и вряд ли когда-нибудь побываете, так что довольно спорить.
Мужчины усмехнулись, как будто устыдившись своей горячности, но дядюшка Джеймс не удержался от последней шпильки.
– Вот что я тебе скажу, – произнес он, вероятно, желая обратить все в шутку. – Как по мне, лучший способ уладить этот вопрос – отправить туда корабль с виски, а на следующий день – с оружием, все они надерутся до остервенения, перестреляют друг друга и тем самым избавят нас от хлопот.
Роберт встал, лицо его побелело от гнева, но он лишь холодно проронил:
– Всего хорошего, – и направился к двери. Его жена и сестра бросились к нему и стали хватать за руки, а зять сказал, чтобы он не дурил.
– Это всего лишь политика. Ты слишком серьезно ко всему относишься. Возвращайся, садись, а Эдит велит служанке принести чашку чая, прежде чем ты пойдешь к Энн.
Но Роберт вышел из дома и зашагал по улице прочь, перед уходом бросив жене через плечо:
– Увидимся позже.
Он был лишен чувства юмора. И все остальные в тот момент тоже его лишились. Мать Лоры рассыпалась в извинениях. Джеймс, все еще сердитый, но несколько пристыженный, признался, что ему неудобно перед Эммой. Тетушка Эдит вытирала глаза красивым носовым платком с кружевной каймой, и Лоре тоже требовался платок, ведь долгожданный день был непоправимо испорчен – вот к чему привела чудесная поездка на тележке, запряженной Полли.
И только мама, которая не притязала на благовоспитанность, однако всегда умела сделать или сказать нечто правильное, разрядила обстановку, заметив:
– Что ж, ему скоро придется вернуться, чтобы запрячь пони, и к тому времени он, сдается мне, уже достаточно раскается. Так что, пожалуй, выпью чашку чаю, если Берта согреет чайник. Только чаю. Я уже сыта, правда. А потом нам надо будет уходить.
VII
Родные и близкие
Выждав подобающее время, в течение которого все старались беседовать так, будто ничего не случилось, мать и двое детей отправились вслед за отцом к тетушке Энн. Лора плелась позади, потому что припекало солнце, она утомилась и уже сомневалась, что Кэндлфорд ей нравится.
Впрочем, вскоре она приободрилась: тут было на что посмотреть. Повсюду дома, дома, дома, но не одинаковые, как горошины в стручке, а большие и маленькие, высокие и низкие, соединенные друг с другом старыми серыми стенами с острыми бутылочными осколками на верхней кромке, за которыми виднелись сады с колышущимися фруктовыми деревьями; а еще причудливые дверные молотки и похожие на маленькие домики крылечки, и люди, шагающие по булыжной мостовой в нарядных тонких туфлях, с букетами цветов, молитвенниками или кувшинами с пивом в руках.
В одном месте они мельком заглянули в узкий проулок с домами бедняков; на веревках, натянутых между окнами, болталось рваное белье, на порогах сидели дети.
– Это трущобы, мама? – спросила Лора, догадавшись об этом по некоторым приметам, описываемым в рассказах из воскресной школы.
– Разумеется, нет, – раздраженно ответила та; а когда они повернули за угол, добавила: – Не говори так громко. Кто-нибудь может тебя услышать и обидеться. Тамошние жители не называют их трущобами. Они привыкли, и их все устраивает. С какой стати ты беспокоишься о подобных вещах? Тебе бы лучше не совать нос не в свое дело.
Не в свое дело? Разве это не ее дело – жалеть обитателей трущоб, у которых нет еды и кроватей, отец пьет, а домовладелец готов выставить их на улицу в снегопад? Ведь мама сама чуть не плакала, когда читала им вслух «Младшего братца Фрогги»! Лора едва не разрыдалась прямо в центре Кэндлфорда, вспомнив, как Фрогги принес домой копченую селедку, а его несчастный младший братишка был слишком болен, чтобы полакомиться ею.
Но тут семья добралась до места, откуда виднелись зеленые поля и извилистая речка с ивами по берегам. Перед ними простиралась окраинная улица с лавками, выходившими задворками на поля, а в витрине лавки, к которой они приблизились, не было ничего, кроме великолепно начищенного дамского сапожка, стоявшего на янтарно-желтой бархатной подушечке на фоне янтарно-желтой бархатной занавеси. Над витриной помещалась вывеска, которую Лора тогда прочесть не сумела, но впоследствии много раз перечитывала: «Дамские сапожки и туфли на заказ. Лучшие материалы. Безупречное качество. Подгонка гарантирована. Фирменный товар: дамские охотничьи сапоги».
Владельцем этого, как тогда выражались, «надежного маленького предприятия» был их дядя Том. В те времена люди всех классов, за исключением самых бедных, обычно шили обувь по меркам. В большом цехе, находившемся в конце двора, в задней части дома и лавки, весь день скоблили кожу, стучали молотками и шили рабочие и подмастерья, мастеря и починяя. В задней комнате дома была устроена личная мастерская дяди Тома с дверью, обращенной во двор, через который он десятки раз на дню ходил в главный цех и обратно. У себя хозяин изготавливал охотничьи сапоги и шил передки из дорогих материалов, а также принимал клиенток для подгонки, за исключением дам-охотниц, которые примеряли сапоги на ковре в парадной гостиной, а дядя Том становился перед ними на колени, словно придворный перед королевой.
Но все это Лора узнала потом. Во время того первого посещения парадная дверь распахнулась прежде, чем они успели до нее дойти, их окружили кузины, стали целовать, обнимать и повели ко входу, где на пороге стояла тетушка Энн.
Лоре еще не доводилось видеть никого, похожего на тетушку Энн. Деревенские соседи были по-своему добры, однако настолько поглощены заботами о себе и своем семействе, что проявляли мало сочувствия к окружающим, разве что в случае болезни или беды. Мама была добра, отзывчива и нежно любила своих детей, но не считала нужным проявлять слишком большую нежность к ним или «отдавать себя» миру вообще. Тетушка же отдавала себя миру с каждым выдохом. Никто из слышавших ее ласковый голос или смотревших в ее прекрасные темные глаза не сомневался в том, что у нее любящая натура. Муж смеялся над ее «мягкотелостью» и уверял, что рассерженные клиентки, явившиеся, чтобы пожаловаться, что им не доставили обувь вовремя, оставались, чтобы рассказать ей всю свою жизнь. Собственным детям тетушка Энн придумала милые, ласкательные прозвища, и вскоре Эдмунд тоже превратился в «дружка», а Лора – в «котиньку». Если не считать прекрасных глаз и темных шелковистых волос, уложенных гладкими волнами, это была невзрачная женщина, бледная, с худым лицом и плоской фигурой; она, с ее прямым пробором и длинными простыми платьями, напоминала Лоре жену Ноя из игрушечного ковчега, подаренного ею Эдмунду на Рождество. Это впечатление, объятия костлявых рук и мягкий, теплый поцелуй – вот и все, что успела получить Лора, прежде чем поток кузин увлек ее через весь дом к садовой беседке, где перед столом со стоящими на нем кувшином и стаканами сидели, покуривая трубки, ее отец и дядя. Мужчины дружелюбно беседовали, хотя только утром отец называл дядю Тома «сапожником», а мама возражала:
– Но он ведь не простой сапожник, Боб. Он мастер-обувщик и больше изготавливает, чем чинит обувь.
Если дядя Том и был сапожником, то никакого снобизма[13] в нем не было, поскольку он оказался одним из самых либерально мыслящих людей, которых Лора когда-либо знала, и одним из самых мудрых. В политике он также придерживался либеральных взглядов; этим, без сомнения, и объяснялись дружелюбие и непринужденность ее отца. Мужчины обсуждали ирландский вопрос, поскольку до слуха девочки донеслись прежние знакомые лозунги, а дядя был довольно рассеян, погладил племянницу по волосам и велел дочерям поиграть с нею в саду, но следить, чтобы малыш не свалился в речку, иначе мама не даст им кексов, которые она испекла.
Во фруктовом саду, на жесткой траве в глубине приусадебного участка, росло около десятка старых яблонь и слив, за которыми протекал маленький неторопливый ручей, наполовину заросший камышом и окаймленный ивами. Лора, которая до этого ощущала себя ужасно утомленной, внезапно сбросила усталость и стала бегать, кричать и играть с остальными девочками в салки вокруг стволов деревьев. Цветение яблонь почти закончилось, лепестки опадали, и дети принялись ловить их, потому что одна кузина сказала, будто каждый пойманный лепесток сулит счастливый месяц. Потом затеяли лопать ногами маленькие зеленые ягоды крыжовника и собирать незабудки. Лора набрала целый букет и не расставалась с ним, пока цветы не поникли, после чего их пришлось выбросить в ручей.
Постепенно она научилась различать новые лица и узнала все имена. Старшая из кузин, Молли, была по-матерински заботливая девочка с полной, рыхлой фигурой, золотисто-рыжими волосами и веснушками на переносице. У Энни волосы тоже были рыжеватые, но она была худее Молли и без веснушек. Смуглая, шустрая Нелли вечно веселила окружающих. «Острая, как иголка», – сказал потом отец Лоры. Самая младшая из сестер, Эми, была Лориной сверстницей.
Джонни являлся самым младшим из детей, но, безусловно, самым важным, ибо он был мальчиком, причем мальчиком, родившимся после длинной вереницы девочек. Джонни должен был получать все, что хотел, независимо от того, кому это принадлежало. Если Джонни падал, его надо было поднять и утешить, а когда он приближался к ручью, к нему тотчас стягивался целый отряд рыжих и темноволосых телохранительниц. Еще совсем малыш, подумала Лора, хотя того же возраста, что Эдмунд, который вообще не нуждался во внимании, однако самостоятельно отправился к берегу, встал там и принялся бросать в воду ветки, воображая, что это кораблики; потом умчался, точно молодой жеребенок, сверкая пятками, и лег на траву, задрав кверху ноги.
У берега была привязана старая облезлая плоскодонка, и когда детям надоело играть, кто-то предложил забраться в нее.
– Разве нам можно? – заволновалась Лора, потому что это была первая лодка, увиденная ею не на странице книжки с картинками, а после ручья в Ларк-Райзе здешняя речка показалась ей глубокой и широкой. Но Эдмунд был куда бойчее сестры; он тут же скользнул с берега в лодку с криком:
– Живее! Поторапливайтесь! Наше судно отходит в Австралию!
Мальчики взялись за весла, делая вид, что гребут, девочки сгрудились на корме, чтобы их ненароком не задело веслом, на фоне голубого неба серебрились листья ивы, в воздухе витали запахи мяты и речных водорослей, и дети отправились в воображаемое путешествие. А крепкий канат все это время надежно удерживал лодку у берега. Все радости приключений – но без малейшей опасности.
Позднее, рассуждая об этом семействе, Лорина мать заметила, что Молли – маленькая женщина, «настоящая вторая мать для младших», и ее мама, должно быть, доверяет ей, ведь дети весь тот день были предоставлены сами себе. А возможно, причина заключалась в том, что отцу и дяде необходимо было высказаться по ирландскому вопросу, в то время как мама и тетя удалились в дом инспектировать гардеробы и толковать о семейных делах.
Детям тоже было что обсудить.
– Ты умеешь читать? Когда ты пойдешь в школу? Какой он, Ларк-Райз? Всего несколько домов – а дальше одни поля? Где вы покупаете вещи, если у вас нет лавок? Тебе нравятся волосы Молли? Большинство людей не любят рыжих, и в школе Молли дразнят «морковкой»; но мистер Коллиер, это наш викарий, говорит, что она прелесть, а одна клиентка сказала маме, что, если Молли захочется отрезать волосы, она сможет получить за них кучу фунтов. Некоторые дамы отдали бы что угодно, чтобы носить их у себя на голове. Да, разве ты не знала, что у некоторых людей фальшивые волосы? Тетушка Эдит надела шиньон? Я видела его утром у нее на туалетном столике; вот почему волосы у нее на затылке такие пышные.
– У тебя тоже красивые волосы, Лора, – великодушно заметила Молли, похвалив лучшее, что было в Лориной внешности. – Мне нравится, как они струятся у тебя по спине, точно вода.
– Моя мама может сидеть на своих волосах, когда они распущены, – похвасталась Лора, произведя большое впечатление на двоюродных сестер, потому что в те дни волосы, как и другие вещи, ценили по их количеству.
Все сестры еще ходили в городскую школу, но Молли и Нелли вскоре должны были на год поступить в пансион мисс Басселл и «выпуститься». Когда позднее Лора спросила у отца, поступит ли к мисс Басселл Джонни, тот рассмеялся и ответил:
– Разумеется, нет. Это школа для девочек. Для дочерей джентльменов, как гласит медная табличка на двери, а значит, для дочерей трубочиста, если он может позволить себе оплатить их обучение.
– Тогда куда пойдет Джонни? – настаивала девочка, и отец сказал:
– Вероятно, в Итон. Однако сомневаюсь, что Итон сочтут вполне подходящим. Придется построить для Джонни специальную школу.
Но больше всего в разговорах кузин в тот день Лору поразило, что они отзывались о школе так, будто она им нравилась. Ларк-райзские дети ее ненавидели. Школа представлялась им тюрьмой, и они с самого начала считали годы, оставшиеся до ее окончания. Но Молли, Нелли и Эми утверждали, что в школе очень весело. Энни учеба нравилась меньше.
– Ха-а! Она ведь последняя ученица в классе! – засмеялась Нелл. Но Молли заявила:
– Не обращай на нее внимания, Энни. Пускай она хорошо учится, зато шить совсем не умеет, а ты непременно получишь награду конкурса рукодельниц за то детское платьице, которым сейчас занимаешься. Спроси у Нелли, что сказала мисс Придэм, когда проверила сделанный ею шов «елочка».
Затем детей позвали на чаепитие. Именно такое, как любила Лора: с хлебом, сливочным маслом, джемом, сладким пирогом и кексами. Стол, чуть более богатый, чем у них дома, был, однако, далек от пышного, ошеломляющего изобилия «легкой закуски» у Доулендов.
Дом кузин Лоре тоже понравился: старинный, с маленькими лестницами, которые сбегали вниз и поднимались наверх в самых неожиданных местах. В гостиной тетушки Энн в углу стояло фортепиано, а на полу лежал мягкий зеленый ковер цвета увядшего мха. Окна были распахнуты настежь, и в воздухе витал чудный аромат желтофиолей, чая, пирога и сапожного вара. В тот день чай пили из серебряного чайника за большим круглым столом в гостиной. Впоследствии чаепитие всегда устраивалось в кухне – самом уютном помещении дома, с подоконными сиденьями, медными кастрюлями, подсвечниками и полосатыми красно-синими дорожками на каменном полу.
В гостиной за столом места для всех не хватило, и Эдмунда с Джонни усадили за маленький приставной столик, спинами к стене, чтобы матери могли за ними присматривать. Но взрослые еще не наговорились, и о мальчиках забыли до тех пор, пока Джонни не попросил еще пирога. Когда мать протянула ему кусок, тот заявил, будто кусок слишком велик, когда его разрезали пополам – будто слишком мал, и в конце концов раскрошил его по тарелке, так и не съев, что шокировало Эдмунда и Лору, которых дома заставляли доедать все, что положено на тарелку, «до единой крошки».
«Ужасно избалованный ребенок» – таков был вердикт мамы, когда позднее они обсуждали Джонни, и, вероятно, в те дни он и впрямь был избалован. Мальчик едва ли мог избежать этой участи, будучи единственным и долгожданным сыном, родившимся после стольких дочерей, а впоследствии оказавшимся самым хрупким в семье. Джонни выглядел младше своего возраста и развивался медленнее, но в нем были заложены прекрасные качества. В молодости он был глубоко религиозен, не курил, не пил, не играл в карты и служил у алтарей, устанавливавшихся на многих полях сражений во время войны 1914–1918 годов, а в атмосфере армейской жизни для всего этого требовался характер.
В тот воскресный день Лора увидела маленького мальчика с бледным, веснушчатым лицом и жидкими светлыми волосами. Избалованного ребенка, за которого было немного стыдно даже его родителям. Но в последующие годы перед ней предстал больной солдат, томившийся в Куте, изнуренный недугом и голодом, измученный жарой и мухами; он же – некогда обожаемый маленький сын, окруженный сестрами-телохранительницами, – был вышвырнут оттуда после обмена больными пленными, получив от тюремщика-земляка прощальный пинок и пренебрежительное «Можете забрать и этого довеском. Он никуда не годится». Тот же Джонни, провалявшийся целое лето на шезлонге в саду, которого, кажется, каждые несколько минут поили из чайных чашек бульоном или яйцами, взбитыми с молоком, пока благодаря домашней обстановке, покою и материнскому уходу он не окреп настолько, что смог пройти медосмотр и отправиться во французские окопы. Ибо, когда мы становимся старше, близкие являются в наших воспоминаниях не только такими, какими они казались нам в детстве, но и какими сделались впоследствии. Первое яркое впечатление остается в памяти как картинка. Последующие – как вереница эпизодов повести, менее выразительных, зато более содержательных.
VIII
Утонуть или выплыть
То путешествие в Кэндлфорд ознаменовало конец детства Лоры. Вскоре после этого начались ее школьные будни, и за один день от тепличного домашнего существования она перешла к жизни, в которой те, кто мог, должны были сражаться за свое место и отстаивать его в борьбе.
Государственная приходская школа была построена в главном селе, в полутора милях от Ларк-Райза. Там жило всего около дюжины детей, в Ларк-Райзе же – в три раза больше; но, поскольку в селе находились церковь, дом священника и помещичья усадьба, оно перевешивало деревню по значимости. По длинной прямой дороге, соединявшей эти два селения, ларк-райзские дети передвигались большой компанией. По одному ходить не дозволялось. Тяга к прогулкам в одиночку, вдвоем или втроем считалась вредным чудачеством.
Большинство детей выходили из дома умытыми и более-менее опрятными, хотя одежда порой бывала слишком велика, слишком мала или вся перештопана. «Лучше заплата на заплате, чем дырки», – гласил один из принципов ларк-райзских матерей. Девочки носили платья длиной до щиколоток и большие белые или разноцветные передники, волосы гладко зачесывали назад и стягивали на макушке в узел или заплетали в тугую косу. В первое утро Лора появилась в школе с гребенкой в волосах и шляпке-пирожке, в прошлом принадлежавшей одной из ее кузин, но этот головной убор вызвал столько насмешек, что в тот вечер девочка упросила маму позволить ей носить «настоящую шляпку», а волосы заплетать в косу.
Ее спутниками были крепкие, рослые ребята в возрасте от четырех до одиннадцати лет. Всю дорогу они бегали, орали и дрались; толкали друг друга на кучи камней или в канавы; забирались в живые изгороди; предпринимали вылазки в поля за репой и ежевикой; гоняли овец, если пастуха не оказывалось рядом.
Кучи камней для починки дорог лежали на травянистых обочинах дороги, и каждая становилась чьей-то крепостью.
– Я король крепости. Убирайся отсюда, грязный негодяй! – кричал первый, кто добирался до кучи и вскарабкивался на нее, обороняясь от захватчиков пинками и ударами. Даже самые мирные игры сопровождались громкими криками:
– Врешь! Сам врешь! Не смей! А вот и посмею! Посмотрим, как у тебя получится!
И никаких «Заметано!» и «О’кей, шеф!» – ведь кино пока не изобрели, а более цивилизованное радио с его «Детским часом» было еще впереди. Даже всеобщее обязательное образование было сравнительно недавним нововведением. Дети являли собой в чистом виде местный продукт.
Бывало, ребята шагали спокойно, старшие беседовали, точно маленькие старички и старушки, а младшие, слушая их, расширяли свои познания о жизни. Так, обсуждалась история о змее толщиной с человеческое бедро и длиной в несколько ярдов, которая переползла дорогу в нескольких футах от пастуха, ранним утром возвращавшегося домой из овчарни, где родились ягнята. Взрослых змея немало озадачила, ведь в сезон ягнения змей под открытым небом не увидишь, так что вряд ли это был английский уж преувеличенных размеров. И все же Дэвид был степенный, трезвый мужчина средних лет и едва ли мог выдумать эту историю. Видимо, что-то он все-таки видел. Или же дети толковали о своих и чужих шансах на сдачу предстоящего школьного экзамена. Его мрачная тень объясняла их чинное поведение. А не то так кто-нибудь повествовал, как такой-то обошелся с мастером, когда тот «попытался его облапошить»; или сплетничали, что мать такого-то «собирается завести еще одного», к большому смущению бедняги такого-то. Ребята высказывались о деторождении с рассудительностью маленьких судей.
