Другое я Серафимы Глухман
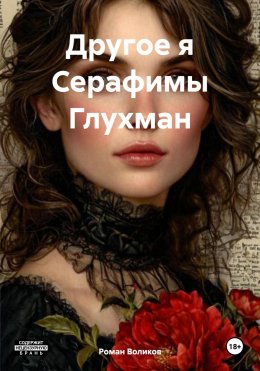
Сегодня Серафиме исполнилось тридцать. Она хотела, как всегда в торжественных случаях, сочинить непотребный стишок, но ничего кроме: сижу я сука на пляжу в одном, блядь, неглижу, на ум не пришло, тем более что Серафима где-то уже это слышала.
Проклятая Джомания. Серафима потянулась и посмотрела на будильник. Семь утра. Ёбанный насос, как говаривал герой великой войны маршал Конев, выходной день, а всё равно в семь утра проснулась. Хуесосия, лярваландия, бисова холера. Конскую золупу им на голову натянуть, вонючим лесбиянам. Эх, вдохнуть, просраться и сдохнуть среди фашистов-онанистов.
Серафима Глухман, единственная дочь папы проктолога и мамы сурдолога, имевших солидную медицинскую практику в Дюссельдорфе, к которым приезжали пациенты не только из Германии, которые с умилением музицировали зимними вечерами и всегда откликались на благотворительные акции общины, Серафима Глухман, педагог по образованию и старший редактор дамского поэтического журнала, материлась как последний сапожник, как ломовой извозчик, как торговка с хохляцкого базара, как портовая шлюха, у которой украли ночной заработок. Слава богу, не на людях.
Иносранщина! Серафима добила свою новую родину и пошла варить кофе. Родина, впрочем, была не такая уж новая. Ровно десять лет назад её родители, благодаря активному содействию еврейской общины, переехали на постоянное место жительства в Германию. Серафиму, пятикурсницу московского педа, выдернули из привычной жизни, погрузили в самолет вместе с самым дорогим домашним скарбом и вот она – земля, расчерченная по линеечке, мудовые парки, где белки скачут по пронумерованным деревьям с биркой на шее.
Первые несколько месяцев было, конечно, классно. Семья поселилась сначала в Мюнцере – не город, а сплошной шопинг-центр. И шмотки не китайское барахло, а исключительно фирма. Община выделила родителям достойную ссуду на то время, пока они пересдавали свои медицинские дипломы, Серафима с утра до вечера шаталась по магазинам, наконец-то упаковав свою несуразную фигуру так, что после пятой бутылки водки она могла показаться вполне симпатичной. Но где же вы в наше время найдёте мужчину, который после пятой бутылки будет в состоянии делать что-нибудь ещё, кроме поиска Ихтиандра?
Увы, Серафима была страшна как атомная смерть. Но ужасно было не это. Ужасно было то, что Серафима не испытывала никаких иллюзий на тот предмет, что строгая диета или услуги дорогих косметологов, брендовая одежда и дорогой парфюм и даже острый природный ум в состоянии исправить это незавидное положение. В человеке всё должно быть красиво: и тело, и душа, и одежда. Ну, спасибо, Вам, Антон Павлович, вы даже не догадываетесь, как удружили этой подсказкой мужичкам всего света. Не вышла рожей и фигурой, пизда настя, иди – гуляй лесом.
Одна пидоросня кругом. Серафима отхлебнула говённого кофе и закурила. Всё за здоровый образ жизни борются – кофе без кофеина, мясо без холестерина, но зато пиво жрут литрами и пердят как швайны, в автобусе не продохнешь. Вконец охуели, пачка паршивого «Житана» четыре евро стоит. Старина Хэм, был бы жив, ёбнул бы сейчас виски и пошел из пулемета бундестаг на части пилить. Серафима с нежностью посмотрела на литографию Хемингуэя, которую привезла из Москвы. Вот это был мужчина!
Институт пришлось заканчивать заочно, да и это, собственно, делалось уже по инерции. Её российский диплом преподавателя русского языка и литературы был в Германии на хер никому не нужен.
Серафима, любопытства ради, поездила на курсы искусствоведов в Ганновере, но, боже, какие же тупые там были лекции. Энди Уорхол главный художник человечества, Паоло Коэльо соответственно главный писатель, всем следует вести себя толерантно и политкорректно, и совсем скоро жиды перестанут пиздошить арабов и дружно запиликают на скрипочках, а все негры, переквалифицировавшиеся в афро-американцев, бодро побегут спасать сибирских слоников.
На этих курсах её однажды достали до печенок. Лекции исправно посещал один американский шибзик, ломано и непонятно для чего говоривший с ней по-русски. Он был немного похож на Вуди Аллена, чем поначалу снискал симпатию у Серафимы. Но как же обманчиво первое впечатление. Этот придурок, оказывается, писал научное сочинение о преемственности традиций Федора Михайловича Достоевского в постижении «загадочной русской души» в современном русском искусстве. «Надо же, – подумала Серафима. – Полгода, наверное, эту фразу заучивал».
– Хорошо, – сказала Серафима. – Преемственность есть. И традиция порой встречается. И некоторые даже помнят, кто такой Достоевский.
Шибзик стоял напротив неё и улыбался до боли знакомой улыбкой Евгения Петросяна. «Да! – подумала Серафима. – Дурак, вне всякого сомнения, явление наднациональное».
На следующий день она дала ему послушать песню «Агаты Кристи» «Четыре слова про любовь». Потом на всякий случай перевела: «Четыре слова о любви и я умру: я не люблю тебя, тебя я не люблю!»
Серафима смотрела в рыбьи глаза шибзика и думала о том, что этому пиплу, не представляющему жизнь без апельсинового сока на завтрак, стопудового гамбургера на обед и искренне верующего, что, в случае чего, команда Билла Гейтса, натянув на жопу звёздно-полосатые трусы, обязательно спасет мир лёгким нажатием компьютерных клавиш, никогда не понять всего трагизма вселенной человека, вместившегося в эти четыре банальных слова о любви: я не люблю тебя, тебя я не люблю!
– Вы знаете, Питер, – мягко сказала Серафима. – Я советую не мучиться с этой темой.
– Почему? – спросил шибзик. – Из-за того, что я плохо знаю русский?
– Дело не в этом, – сказала Серафима. – Просто один ваш соотечественник закрыл этот вопрос раз и навсегда.
– И кто же это? – недоверчиво спросил Питер и приготовил блокнот и ручку. – Подскажите, Серафима.
– Чарльз Буковски, – сказала она. – Своей бессмертной фразой: если бы у меня был новенький авто и клёвые тёлки, ебал я в рот все разговоры о социальной несправедливости.
Больше Серафима на эти курсы не приезжала. Тем не менее, ей уже исполнился двадцать один год, полное совершеннолетие, пора было устраиваться в жизни. Любимая мамочка Роза, легко превратившаяся в Дюссельдорфе из Михайловны в Моисеевну, всё чаще твердила, что их медицинскому кабинету позарез требуется администратор, хозяйственник, бухгалтер, дама на рецепшен, в общем, человек, который будет нести на своих плечах бремя немецкой бюрократии, и всё это, в порядке экономии, в одном лице. А в целях сохранности семейного бюджета лучшего человека, чем родная дочь, и представить невозможно. Фантастические идеи типа замужества не рассматривались.
Но только не это, думала Серафима. Она уже совершила в жизни катастрофическую ошибку, уехав с родителями в тихую, сытую, насквозь провонявшую мещанством Германию, поэтому представить дальнейшую жизнь среди склянок с мочой, клистирных трубок и причитаний несостоявшихся арийцев, было просто невыносимо. Сбежать из семьи позволил, как обычно, случай. Точнее, два события.
Первое лежало в области сексуального вожделения. В Москве свои скромные эротические потребности Серафима удовлетворяла легко и просто, повадившись с семнадцати лет посещать общежитие студентов института имени Патриса Лумумбы. Черномазые, а пуще них, вьетнамцы были прекрасными любовниками, для них обладание белой женщиной было вопросом статуса, а как она выглядит это уже вопрос сто пятьдесят шестой. Серафима же, закрыв глаза, как девушка начитанная, представляла, что её раздирает своим жезлом сам сэр Джон Гордон Байрон, а иногда крепкой красный козак Семён Михайлович Буденный.
В деревенском предместье Дюссельдорфа с байронами и красными козаками был голяк. Фаллоимитатор штука, конечно, любопытная, и насадок много разных, но… Кошечку, что ли, завести, всерьёз подумывала Серафима.
Она делала покупки в овощной лавке, когда намётанный глаз выхватил в пространстве готической архитектуры родные узкоглазые лица. Их было человек семь, они шли по ратушной площади, озираясь, будто их только вчера вывезли из джунглей.
– У нас нашествие Чингис-хана? – спросила она у продавца.
– На строительство нового торгового центра привезли бригаду камбоджийцев, – сказал тот. – Чистые обезьяны.
Наступили две недели блаженства, которое на третью неделю закончилось резкой и неприятной беседой с папой Лазарем, по счастью сохранившим изначальное отчество, Абрамовичем.
– Дочь моя, – сказал Лазарь Абрамович. – Это Германия, здесь чёткие и незыблемые правила, которые мы, как чужаки, обязаны соблюдать даже тщательнее, чем немцы. Достаточно было только слуха, а несколько пациентов отказались у меня лечиться.
Серафима молчала.
– Я понимаю тебя как врач, – сказал отец. – Более того, я понимаю тебя как мужчина. Но в чужой монастырь со своим уставом не лезут, ты помнишь эту поговорку? И, в конце концов, мы же евреи!
Всё-таки в жизни бывают удачные совпадения. Второе событие произошло как раз в тот день, когда происходил неприятный разговор с родителями. Серафима несколько месяцев рассылала по разным фирмам, фондам, музеям, библиотекам, школам и прочим организациям, хоть как-то связанным с культурой, своё предложение о трудоустройстве. И именно в этот день ей ответил некий Самсон Тихой, написавший, что он открыл в Магдебурге русскоязычный поэтический журнал и ищет квалифицированного редактора. Зарплата предлагалась по немецким меркам нищенская, но что может быть дороже свободы.
– Это же восточная Германия, – недовольно сказала мама Роза Моисеевна. – Там ещё столько советских следов…
– Ничего, мне не привыкать, – решительно сказала Серафима. – Я поеду.
– Наверное, ты права, – сказал Лазарь Абрамович. – Пора начинать самостоятельную жизнь. Первое время буду посылать тебе двести евро в месяц, а дальше, я надеюсь, всё наладится.
Cерафима доела овсяные хлопья, допила витаминный коктейль и засела, не взирая на праздник, за работу.
Журнал был завален корреспонденцией. Складывалось впечатление, что графоманы всего постсоветского пространства озадачились великой целью опубликовать свои нетленные творения в их несчастном поэтическом ежемесячнике, в общем-то, рассчитанном на скромную аудиторию постаревших шлюх славянского происхождения, удачно повыходивших замуж за местных аборигенов и расселившихся в немалом количестве на территории объединенной Германии. Каждый божий день на почтовый ящик её компьютера приходило примерно двести сообщений, наполненных поэтическими строчками, и всю эту галиматью Серафима обязана была читать. «Но это же невозможно, – только и цокал языком единственный немец в их редакции, компьютерщик Брего, у которого Серафима однажды в рождественскую вечеринку с превеликим удовольствием отсосала. – В России никто не работает. Все только стишки крапают». Он ставил новую изощренную антивирусную программу взамен прежней, не выдержавшей атаки неизвестных гениев: «Серафима, ты просто образец терпения».
– Да, – хмуро ответила Серафима, подумав о том, что ведь этот козел, хоть и был пьян и минет явно пришёлся ему по душе, в ту рождественскую вечеринку ехать к ней на квартиру отказался наотрез.
Чтобы не свихнуться от этой ежедневно надвигающейся на неё лавины, Серафима быстро придумала развлечение. Она проглядывала тексты, отбирала некоторые, слегка корректировала и присваивала названия, которые, с её точки зрения, придавали виршам глубину и осмысленность, дотоле неведомую автору. Наиболее интересные варианты она помещала в папочку «Избранное».
Итак, кто у нас сегодня… Ага! Девушка из Мордовии пятидесяти семи лет, преподаватель университета, надо же, подумала Серафима, там и университет есть, а я считала, что только тюрьмы, «… во мне недавно открылся поэтический дар…», не переживай, милая, прокомментировала Серафима, это следствие климакса, бывает и хуже, «я, конечно, не смею надеяться, но мне кажется…»
– Сейчас, родная, будет хорошо! – сказала Серафима и ловко обработала стих.
Извольте, Серафима Лазаревна, вашему вниманию предлагается «Песнь о сифилисе»:
С утра капель, потом поземка.
Уж целый месяц моросит.
И срочно надо бы таблеток,
Но денег нету ни шиша.
Эбена мать, и всё былое покрылось мраком в тот же час.
Друзья мои, подкиньте бабок,
А то не встанет крантик мой.
Серафима затянулась «Житаном». А я ведь в журнале работаю почти десять лет…
Графоманы в тираж почти никогда не шли. Хотя среди них попадались неплохие стихотворцы, в жанре стёба, конечно. Господи, как же им не надоело. Живут из века в век в нищете и убогости, и всё хохочут как умалишённые над собой и над миром.
Нашей аудитории это чуждо, уверенно говорил Самсон Тихой, совладелец журнала. Подумайте сами, наши читательницы так в своей жизни настебались и такого могут рассказать про грязную реальность, что поэтам и не снилось. Только зрелая, проверенная десятилетиями лирика, вот наш девиз.
