Пожар в коммуналке, или Обнажённая натура
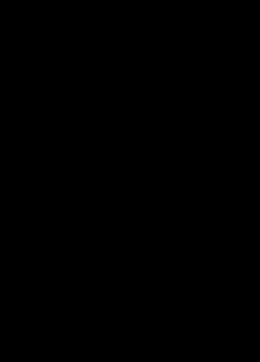
© Артёмов В. В., 2024
© Оформление. ОДО «Издательство “Четыре четверти”», 2024
Роковая встреча
Было двенадцать часов дня.
Борис Кумбарович, скромный сотрудник московского журнала «Литература и жизнь», ехал на службу в самом приятном расположении духа. Дело было в том, что неделю назад появился-таки в апрельском номере его многострадальный материал под названием «Золото партии», где речь шла о сокровищах Патриаршей ризницы, бесследно исчезнувших вскоре после революции, в восемнадцатом году.
На всякий посторонний взгляд материал был так себе, очередная журналистская утка, основанная на домыслах и предположениях, но, вновь и вновь перечитывая его, Кумбарович всякий раз находил в нем бесспорные и несомненные достоинства.
Главный пункт, которым гордился Кумбарович, заключался в том, что он наконец публично поквитался с давним своим врагом и оппонентом, знатоком московских древностей Львом Голодным. Лев Голодный во всех своих работах утверждал, что исчезнувшие сокровища Патриаршей ризницы безвозвратно потеряны и давно уже находятся за пределами России. Кумбаровичу же удалось случайно раскопать кой-какие косвенные факты, говорящие совершенно об обратном.
Журнальчик со своей статьей Кумбарович вот уже целую неделю возил с собой и постоянно перечитывал в метро, стараясь держать его так, чтобы и сидящим рядом с ним людям было удобно разглядывать фотографию автора.
Сегодня в этом смысле день выдался не особенно удачным. Как ни подсовывал им статью Кумбарович, как ни соблазнял, попутчики его в раскрытый журнал так и не заглянули.
В вагоне, несмотря на полуденное время, была пропасть народу. Кумбарович оторвал взгляд от своей статьи и обнаружил над собою женщину со скорбным усталым лицом и с сумками в обеих руках. Он тотчас подхватился, уступая сиденье, с трудом втиснул свои упитанные бока в ряд стоящих пассажиров.
Плотный, крепко сбитый мужчина средних лет решительно пролез между ним и женщиной и с достоинством уселся на освободившееся место. Кумбарович почувствовал себя скверно и, испытывая глухое раздражение, стал критически сверху вниз разглядывать незнакомца. Тот производил самое неприятное впечатление. Чуть свернутый на сторону нос, очевидно, переломанный в пьяной драке, петлистые уши без мочек, стоящие как у рыси, темные очки, угрюмые складки, спускающиеся по бокам рта. Но еще неприятнее было то, что одежда незнакомца выдавала в нем чужака. Люди в такой одежде не ездят в метро, а ездят они в «мерседесах» на желтых кожаных сиденьях, поминутно откликаясь на звонки по мобильному телефону, приказывая и диктуя. Кумбарович, готовивший язвительную реплику о людской невоспитанности, решил все-таки благоразумно прикусить язык и стерпеть обиду.
Приближалась станция «Киевская», вагон зашевелился. Поезд остановился, и толпа подалась к дверям.
Через полминуты вагон с воем несся по тоннелю и был теперь почти пуст. Размышляя об этой странной выходке теории вероятностей, Кумбарович опустился на сидение рядом с незнакомцем и снова открыл журнал на заветной странице.
Обычный человек раздражается, когда обнаруживает вдруг, что чей-то посторонний глаз рыскает по странице книги, которую он читает. Кумбарович же, напротив, почувствовав, что взгляд незнакомца упал на его сочинение, незаметно повернул журнал, чтобы тому было поудобнее. Это заинтересованное читательское внимание отчасти сгладило то первое неприятное впечатление, произведенное незнакомцем на Кумбаровича. «А он вовсе не так глуп, – подумал Кумбарович. – Отнюдь не глуп». Неожиданно незнакомец склонился к его уху и проскандировал громко, силясь перекричать грохот поезда:
– Где можно приобрести этот журнал?
Кумбарович почувствовал себя польщенным.
– К сожалению, журнал элитарный и в свободной продаже его почти не бывает, – прокричал Кумбарович в ответ, постучал ногтем по своей фотографии и повернулся лицом так, чтобы собеседник мог его узнать.
– Продайте! – решительно предложил собеседник, сунул два пальца в нагрудный карман пиджака и протянул Кумбаровичу сложенную пополам зеленую купюру.
«Пятьдесят долларов!» – ужаснулся Кумбарович, машинально принимая предложенные деньги. Следовало бы по всем правилам хорошего тона вежливо отказаться, но беда заключалась в том, что Кумбарович был, во-первых, беден, а во-вторых, жаден. «А в-третьих, я его вижу в первый и последний раз!» – успокоил он себя.
– У меня нет сдачи, – промямлил Кумбарович, ощупывая новенькую банкноту на предмет подлинности и больше всего опасаясь в настоящий миг того, что сумасбродный миллионер вдруг опомнится и передумает.
– Не тревожьтесь об этом, – заявил незнакомец, взял с колен Кумбаровича журнал и, не взглянув на фотографию, перелистнул страницу, затем еще одну, определяя размер статьи. Глаза его хищно прищурились.
«Э-эх, черт подери! – мысленно выругался Кумбарович. – Вернет сейчас…»
– Ах ты, елы-палы! Чуть свою станцию не проехал, – находчиво выкрикнул Кумбарович, подхватил свой потрепанный портфель и выскочил в отворившуюся дверь вагона, унося в потной ладони неожиданную добычу.
Оперативное совещание
Если бы Борис Кумбарович был повнимательнее и сообразил, какую ценность на самом деле представляет его небольшая статейка именно для Ильи Артамоновича Филимонова, он ни за что не стал бы так поспешно ретироваться с жалкими пятьюдесятью долларами, а, пожалуй, задержался бы в вагоне и поторговался с незнакомцем, крепко поторговался. Запросто мог бы выручить долларов эдак двести-триста, а то и больше.
Впрочем, с другой стороны, если бы знал он, с каким страшным человеком свела его судьба, ни за что не вошел бы в этот вагон, а переждал бы два-три поезда, прежде чем продолжить свой путь. А то и вовсе поднялся бы наверх и поехал на троллейбусе, спрятав свой злополучный журнальчик в самом сокровенном отделении портфеля.
Вечером того же дня в неприметном особнячке, обнесенном глухим бетонным забором и расположенном в глубине Измайловского парка, произошло нечто вроде небольшой читательской конференции. Обсуждалась именно статья Бориса Кумбаровича «Золото партии». Нельзя было назвать это обсуждение бурным и оживленным, ибо присутствовало на нем всего только три человека.
Илья Филимонов, еще в метро бегло и жадно ознакомившись со статьей, войдя в рабочий кабинет, приказал охраннику никого к себе не впускать, сел за стол и стал перечитывать, теперь уже более внимательно и критически, кое-что отчеркивая карандашом и ставя на полях галочки и восклицательные знаки. Во время чтения несколько раз в одних и тех же местах удовлетворенно прищелкивал пальцами, потирал руки и качал головой. Затем встал и принялся в задумчивости расхаживать по кабинету. Снова вернулся к столу, склонился над раскрытым журналом и не совсем уверенно сказал вслух:
– Кажется, перспектива есть, – и добавил голосом твердым и решительным: – Да! Есть!
Усмехнулся, вспомнив, какими окольными путями привел его случай на эту встречу в метро. Надо же было судьбе так устроить, чтобы машина сломалась в двух шагах от входа в метро и он, подняв уже руку, чтобы остановить такси, вдруг отчего-то передумал и стал спускаться вниз вместе с обычным народом. Но ведь надо же было еще сесть в нужный вагон и именно в ту минуту, когда там находился этот баран со своей статьей!
Но и это ничего бы не значило, если бы буквально накануне телохранитель Клещ не рассказал ему в сауне историю, над которой в ту минуту Филимонов только добродушно посмеялся. Теперь же эта история и журнальная статья сошлись вдруг, как две половинки магнита, разлом к разлому, и сцепились в единое целое.
– Есть перспектива, – Филимонов выглянул из кабинета, поманил к себе Клеща. – Вот что, – сказал он озабоченно, – тут дело намечается. Связанное с эмвэдэшными архивами. Ты вызвони-ка к вечеру подполковника Гармазу. Часам эдак к шести.
– В шесть у нас с «чехами» стрелка, – напомнил Клещ. – По поводу авторынка.
– С «чехами» отбой, – равнодушно сказал Филимонов. – Перенеси на другой день.
Тень удивления промелькнула на лице Клеща, он открыл было рот, чтобы возразить, но, взглянув на Филимонова, покорно кивнул головой и вышел из кабинета.
Ровно в шесть часов вечера в дверь осторожно и вежливо поскреблись, и вслед за тем в кабинет заглянула озабоченная красная рожа Гармазы:
– Можно, Илья Артамонович?
– А, Семеныч! – откликнулся Филимонов. – Входи, входи. Как всегда, точен по-военному.
– Честь имею, – весело отозвался коренастый, плотный Гармаза. – Милицейская, так сказать, привычка, Илья Артамонович. Протокол. «Прибыл-убыл, заступил-сдал».
– Молодец, – похвалил Филимонов. – Входи, не торчи в проходе.
– Что за срочные дела, Илья Артамонович? – продолжал Гармаза, задом протискиваясь в кабинет и затворяя за собою дверь. – Я уж в баньку собрался, веничек, можно сказать, распарил. А тут мне этот ваш тип звонит и, как всегда, толком ничего… Э-эк… – осекся он, заметив наконец сидящего в углу этого самого «типа».
Клещ сидел в кабинете Филимонова, уйдя с плечами в мягкое глубокое кресло, и не мигая с ненавистью глядел на паясничающего Гармазу. Был Клещ худ и жилист, высушен вялотекущим туберкулезом да тюремным чифирем, лицом темен и неприветлив. Много хлебнул он обид от органов, а потому, хоть и понимал необходимость сотрудничества с ними на современном историческом этапе, все-таки скрыть свои эмоции никак не мог. Тем же отвечал ему и Гармаза, а потому, войдя в кабинет и увидев там своего недруга, после этого больше ни разу на него не взглянул и обращался исключительно к Филимонову.
– Куда мне сесть, Илья Артамонович? – оглядываясь, спросил Гармаза.
– Под нарами твое место, – мрачно отозвался Клещ.
– Ты помолчал бы хотя бы в присутствии… – огрызнулся Гармаза. – Вы бы, Илья Артамонович, приказали ему помолчать.
– Сам молчи, Барсук! – вскинулся Клещ.
– Оставь, – приказал Филимонов, и Клещ, скрипнув зубами, отвалился к спинке кресла.
Гармаза, обиженно сопя, сел в такое же кресло у противоположной стены. Повисло короткое молчание.
– Друзья мои, – переводя взгляд с одного на другого, начал Филимонов. – Дело, ради которого я свел вас здесь, дело особого рода. Оно сильно отличается от наших обыденных дел и поначалу может вызвать с вашей стороны недоверие. Впрочем, мы не сразу приступим к обсуждению. Я хочу, Клещ, чтобы ты повторил нам свою ленинградскую историю. Про старуху, которую вы замучили с Тхорем.
– Я ж рассказывал уже, – проворчал Клещ.
– А ты повтори, – приказал Филимонов. – В общих чертах. Я хочу, чтобы и Семен Семенович внимательно послушал.
– Да история-то больно стремная, – вздохнул Клещ, которому страсть не хотелось унижать себя рассказом в присутствии Гармазы. – Ну вы же помните все, что тут лишние базары… Короче, полоса у меня была. Мотался по чердакам и вокзалам, сдаваться уже хотел. Встал как-то утром, пошел в отделение. Возьмите, мол, сил моих нет. В тюрьму хочу!
– Грех уныния, – заметил Филимонов, усаживаясь за стол.
– Грех не грех, а пришел я в ментовку. Так и так, говорю, сдаюсь. Мусор дежурный глянул на меня. А я в телогрейке, с похмелюги, тот еще видок. Ты, говорит, посиди во дворике и заходи через два часа, когда рабочий день начнется. Ну вышел я на улицу, а у них там парикмахерская через дорогу, как раз напротив отделения, окна в окна. Свет такой уютный из парикмахерской. Походил я этак минут пять, а потом думаю: да что мне терять теперь? Все равно же сдаваться.
По мере повествования Клещ все более вдохновлялся. Забыл уже о присутствии Гармазы, речь его приобрела живые оттенки.
– Перешел я улицу, глянул в витрину. А там кресла эти, столики… И, братцы мои, одеколон на одном столике, тройной, почти полный флакон. Обернулся я на отделение, прикинул расстояние. Пока, думаю, добегут, успею выжрать. Поднял шкворень с земли и по витрине – дзынь!.. Кто из прохожих шел по улице, все врассыпную. Я, значит, сквозь витрину эту вхожу и прямо к пузырю. А ящик у столика выдвинут, там мелочь рассыпана. Много мелочи. Сгреб я ее, оглянулся – ментовка не реагирует. Сгреб в простынку машинки ихние, парфюмерию и с узелком этим обратно в витрину вышел. И пошел себе спокойным шагом и с чистой совестью…
– Это питерские раздолбаи, – хмуро отреагировал Гармаза. – У нас бы живо его.
– Хорошо, Клещ, – сказал Филимонов. – Это все хорошо и живописно, но давай ближе к делу. Про старуху, которую вы безжалостно загубили.
– Да мы ее бережно пытали, кто ж мог подумать… Короче, на вокзале встретил я Тхоря. Выпили с ним культурно, побазарили. Он мне и рассказал про старуху. Муж ее, говорит, в блокаду продовольствием заведовал, снабженец. Неужели, говорит, не прилипло к рукам? Сам, мол, рассуди – мужа загребли после войны, в лагерях сгинул. Но ведь прикопал же где-то добришко. Тогда, в блокаду, за кусок хлеба люди бриллианты фамильные готовы были отдать. А все снабженцы – они ведь по жизни всегда барыги. И старуха эта что-то уж слишком нищая, всю жизнь в своей коммуналке на овсянке да на сухарях просидела. Очень, мол, подозрительная психология. Жадная и бережливая, стало быть, старуха. Короче, вышли мы на эту старуху. Из коммуналки этой все съехали как раз, одна она там оставалась. Удобно. Часа три мы ее пытали. Тхорь в основном, у него это профессионально было поставлено. Рожа у Тхоря подходящая, страшная рожа, царство ему небесное.
Клещ вздохнул, зажег сигарету и глубоко затянулся.
– М-да. Ничего, короче, старуха эта нам не выдала. И проводом придушивали, и утюжком жгли, и ножницами портняжными перед носом щелкали. Кремень. «Не знаю ничего! Пенсия тридцать рублей…» – и точка. Я Тхорю мигаю, дескать, в самом деле пустая старуха. Он мне кивает: да, мол, сам понимаю. Дело-то в том, что мужа ее в сорок девятом среди ночи взяли чекисты. Вполне возможно, что ничего он ей не успел шепнуть. Да и шлепнули его, видать, сразу. Отвязали мы старуху от стула, воды дали. Она сидит, глазами лупает, мычит. Мы попрощались вежливо, извинились – и к дверям. Но тут Тхорь призадумался и говорит, мол, давай-ка все-таки поищем. Половицы вскроем. Все равно, мол, дом под снос. Нашли топорик, гвоздодер, ломанули доски. И вот тут-то пришла старухина смерть. Как вытащили мы из-под пола мешок да высыпали перед ней груду денег! Она рот разевает, пальцами горло себе дерет, хрипит: «А я всю жизнь свою… Загубил!.. Сухари. Нищая, нищая!.. Подлец!..» Одним словом, повалилась на пол, прямо на эту груду денег, и затихла. Пена изо рта. Труп, короче. Ну мы с Тхорем еще пошарили в квартире и ушли ни с чем.
– А деньги? – спросил Гармаза, напряженно слушавший рассказ.
– А деньги – фуфло, – устало сказал Клещ. – Сталинские еще деньги.
На некоторое время в кабинете воцарилось молчание.
Гармаза вытирал платком выступивший на лбу пот, Клещ закурил новую сигарету, Филимонов лениво перелистывал журнал.
– Хорошая история, – сказал он наконец, поднимая глаза. – Какое же у нее продолжение?
– Какое там продолжение, – угрюмо отозвался Клещ. – Тхоря прирезали в Тамбове через год, вот и все продолжение.
– Ну что же, – голос Филимонова звучал бодро и энергично. – Перейдем теперь ко второму пункту повестки дня. Обсуждение статьи некоего Кумбаровича в журнале «Литература и жизнь». Журнал элитный, малотиражный. Между прочим, один из самых дорогих журналов – пятьдесят баксов экземпляр.
– Да ну? – не поверил Гармаза.
– Истинно так, уважаемый Семен Семеныч, – подтвердил Филимонов. – Но журнал стоит этих денег, поверьте мне на слово. Позвольте, я кое-что процитирую: «…из компетентных источников нам стало известно, что среди членов комиссии по реквизиции пропавших бесследно сокровищ Патриаршей палаты находился и некий Рой Яков – единственный, кто дожил до послевоенного времени. Все же остальные были расстреляны еще до войны. Этот самый Рой, между прочим, отвечал за продовольственное снабжение блокадного Ленинграда…» Так, так, далее… «Нам удалось раскопать в архивах некоторые любопытные факты, проливающие некоторый свет…» Два раза в одной строке «некоторые», – заметил Филимонов. – Стилистическая небрежность. Далее: «Мы разговаривали с сестрой покойного – старой большевичкой Кларой Карловной Рой. Ничего нового, к сожалению, выяснить не удалось». Но, друзья мои, здесь приводится список драгоценностей, весьма неполный список, но самое главное заключается в том, что ни один знаменитый камешек из всего этого списка ни разу не появился ни на одном из международных аукционов. Что, по справедливому предположению господина Кумбаровича, косвенно свидетельствует о том, что весь этот бесценный клад до сих пор находится на территории России и, скорее всего, в компактном состоянии, то есть в одном месте. Что это вы так побледнели, Семен Семеныч?
– Да так. Давление, – сипло проговорил Гармаза. – Возраст сказывается.
– Ледяной душ по утрам, – посоветовал Филимонов. – Вам нужно быть в форме, ибо в этом деле именно вам предстоит основательно покопаться. Клещ займется Кумбаровичем. И вызнает, где живет эта старая большевичка. Ну а вы, уважаемый Семен Семенович, займитесь архивами, – сказал Филимонов. – Вам как представителю силовых структур это сподручнее.
Он встал, попрощался за руку с Гармазой и при этом еще раз озабоченно взглянул ему в глаза.
– Да, – сказал он. – Холодный душ, пробежка. Вы нам очень нужны, Семен Семеныч.
Спустя десять минут Гармаза на своей «Волге» выруливал на главную аллею парка. Он был потен, взволнован и часто дышал. Конечно, никакой холодный душ и никакая пробежка Семену Семеновичу были не нужны, ибо здоровьем он обладал поистине бычьим. Перемена же в лице его, которую заметил проницательный Филимонов, произошла вовсе не из-за подскочившего давления, причина была в другом. Причина была в том, что Гармаза прекрасно знал человека, побывавшего не так давно в тех самых архивах, о которых только что поведал ему Филимонов.
Родионов Павел Петрович – вот как звали этого человека.
Но, во-первых, Гармаза, хотя и обладал от природы умом быстрым, практическим и цепким, никогда и ни при каких обстоятельствах не спешил сразу выкладывать то, что знает. Во-вторых, этот Родионов, которому Семен Семенович Гармаза по просьбе своей дочери устроил пропуск в закрытый архив, был его будущим зятем.
Жених об этом еще не подозревал, никаких предложений дочери еще не делал и даже самого Гармазу в глаза не видел, но Семен Семенович уже принял решение.
Павел Родионов
Ранним солнечным утром тринадцатого мая в нижнем этаже деревянного двухэтажного дома, расположенного в самом сердце Москвы неподалеку от Яузы и состоящего из пятнадцати коммунальных комнат, проснулся на своем диване молодой человек и, не открывая еще глаз, счастливо улыбнулся.
Бывают даже и в молодости трудные и безотрадные пробуждения, когда человек не сразу может сообразить, где он находится и который теперь час – два первые вопроса, что сами собой приходят всякому в голову, едва только он просыпается. Почти всегда у людей случается эта безотчетная судорога сознания, ощупывание реальности на грани сна и яви. После этого, определив свое место в пространстве и времени, мысль успокаивается и обретает способность заниматься обыденными предметами и заботами.
Молодого человека звали Родионовым Павлом, и никаких особенных поводов для счастливой улыбки у него не было – наоборот, именно этой весной обстоятельства складывались таким образом, что кого угодно привели бы в отчаяние.
Много месяцев спустя, снова и снова с пристрастием роясь в подробностях этих дней, перевернувших всю его жизнь, Павел Родионов будет удивляться глупой своей улыбке, вздыхая о том, как нечувствительны мы к своему собственному будущему. И еще поразит его то обстоятельство, какими отвлекающими и второстепенными событиями обставила судьба эти дни, как бы играя с ним, притупляя его бдительность.
Конечно, то, что произошло потом, наполнило эти пустяки и мелочи особым смыслом, но наступившее будущее всегда искажает на свой лад беззащитное и безответное прошлое. Переставляет акценты, меняет местами события главные и малозначительные, а случайно произнесенное в этом прошлом пустое слово, оказывается, заключало в себе не услышанное и не угаданное грозное пророчество.
Павел Родионов проснулся сразу, без вялых позевываний и потягиваний, полный веселой свежей энергии. Спрыгнул с постели, прошелся босиком по холодным доскам пола, пересек нагретую солнцем полосу, и тут взгляд его упал на красное кресло, стоящее у стены возле письменного стола. Уголки губ его дрогнули и опустились, и улыбка как-то сама собою превратилась в болезненную гримасу.
Родионов заметался по комнате, отшвырнул подвернувшегося под ногу рыжего кота Лиса, бросился к окну. За стеклом тихо пошевеливались ледяные кисти сирени, вздрагивала под легким ветерком молодая, не успевшая запылиться листва. Было видно, что на улице, несмотря на обилие солнца, холодно.
– И в такой день! – вырвался из груди его вздох досады. – В такой денечек, елки-палки!
И снова, как и накануне, накатила на него волна сомнений. Не следовало бы идти на дело в пятницу, да еще тринадцатого числа. «Но! – в который раз успокоил он себя. – Во-первых, начато оно не сегодня, а во-вторых, решено-то все давно и окончательно, осталось только выполнить кое-какие формальности. Хотя, если хорошенько подумать – можно, конечно, отложить и до понедельника».
Павел Родионов остановился на секунду посередине комнаты и снова покосился на свой письменный стол. Черная цифра «13» зловеще глядела на него с перекидного календаря. Тринадцатого числа, мая месяца. Пятница.
– Некстати, некстати… – пробормотал он, с некоторой театральностью заламывая руки и взъерошивая пальцами свои довольно длинные светлые волосы. – Ах, как все это некстати!
И снова заметался по комнате, время от времени поглядывая на себя в большое овальное зеркало, висящее на стене.
«Мне сейчас на подлость идти, а я глупостями занимаюсь, малодушествую, и мысль моя трусливо прячется от реальности. На подлость идти, тем более на такую, не так-то просто. Тоже мужеством нужно обладать».
Павел Родионов сдвинул брови и, прихватив широкое полотенце, направился к выходу.
Оказавшись в коридоре, прислушался. Дверь, ведущая в комнату соседки, была чуть приоткрыта, и оттуда доносились редкие тяжкие всхрапы.
«Опять моей старухе кошмары снятся!» – определил Родионов, и легкая злорадная усмешка тронула его губы. Он прищелкнул пальцами и на цыпочках пошел в ту сторону, где находились гигантских размеров кухня и ванная комната. Взявшись за ручку, глянул за левое плечо, хотя по опыту знал, что делать этого не следует.
Здесь коридор поворачивал налево, и в дальнем конце его над входом в кладовку слабо светилась одинокая голая лампочка. Там было тихо и пыльно, казалось, само время остановилось навеки и дремлет в этом грустном и безлюдном сумраке, а между тем по обеим сторонам коридора были расположены еще двери, кое-где даже с ковриками у порога, и там жили люди. Всякий раз Родионов долго не мог избавиться от щемящего чувства печали и утраты, которое мигом овладевало его душой, стоило ему взглянуть в этот унылый закоулок квартиры.
Мало подобных жилых домов осталось в Москве, может быть, уже ни одного и не осталось. Обычно здесь размещаются какие-нибудь ремконторы и стройуправления или, к примеру, районный архив, но люди уже не живут в таких домах.
Когда три года назад Павел Родионов переехал сюда из общежития, ему сразу пришелся по сердцу этот милый задворок цивилизации – палисадник в громадных лопухах, две яблони, растущие под окнами, деревенская скамейка с пригревшимся на солнышке сытым котом. «Уж не в Зарайск ли я попал?» – подумал он в первую минуту, но, пройдя до конца переулка, убедился, что нет, не в Зарайск: белые девятиэтажные башни, гром вылетевшего из-за поворота трамвая, внезапно открывшаяся площадь у метро, утыканная коммерческими палатками, страшная сутолока народа на этой площади – все кричало о том, что вокруг все та же Москва. Вернулся, вошел во двор и снова ощутил странное чувство отрезанности от всего мира. Даже ветер сюда не залетал, и казалось, что сейчас из-за угла дома с гоготом выйдут гуси и выглянет вслед за ними любознательная морда козы.
Родионов встряхнул головой, сбрасывая с себя околдовавшее его настроение.
«Ерунда, – бодрил себя, стоя под душем и прополаскивая зубы. – Наплевать, – он фонтаном выплюнул воду изо рта. – Бабьи слезы – вода. Или отложить все-таки до понедельника? Нет», – сказал сам себе, снова нахмурил брови и, строго глядя в зеркало, шепотом произнес вслух:
– Уважаемая Ирина… м-м… К сожалению, вынужден сообщить вам… Принужден… Одним словом, прощайте!
Поклонился зеркалу, накинул на шею полотенце и двинулся вон из ванной. Однако не успел сделать и двух шагов, как хлопнула входная дверь, проскрипели ступеньки и со двора вошла в коридор соседка баба Вера с пустым мусорным ведром в руках.
Родионов молча кивнул ей и попытался поскорее проскользнуть мимо. Но баба Вера загородила дорогу и, широко улыбаясь, ласково и радостно сказала:
– Ну, Пашенька, наконец-то! Женишься, значит. Ну и славно, дело доброе, дело хорошее.
– Да кто ж вам сказал! – с досадой перебил Родионов. – Слухи все это, Вера Егоровна! Вовсе я и не собираюсь!
«Какая-то сволочь выследила и распустила слухи. Предупреждал – не лезь в коридор, не высовывайся, не светись! Нарочно ведь и лезла, и светилась. Как же они умеют облепить человека, обложить со всех сторон. Положим, пусть неосознанно, но что это меняет? Сущность-то все равно прилипчивая. Женишься – и сиди потом с ней до гроба».
Все это кипело в его голове, пока шел к своей двери. Войдя, покосился на красное кресло. Там было сложено еще накануне вечером все, принадлежащее Ирине.
Вчера он долго стоял, с тоскою глядя на горку вещей, удивляясь тому, как много их успело неприметным образом просочиться в его жизнь и смешаться с предметами, населяющими комнату. Они уже успели разбрестись по всем углам, зацепиться и повиснуть на вешалке, проникнуть в шкаф, спрятаться за занавеской на подоконнике, и Родионов потратил целый час, отыскивая их по закоулкам и выдворяя из своего быта. Всего-то три раза побывала у него в гостях, а они уже захватили полкомнаты, прижились и обогрелись. Да, вещи любят быть вместе, кучей, в изобилии.
«Неохотнее всего при семейных разводах разлучаются именно вещи, – подумал Родионов, – слишком они привыкают и прилепляются друг к дружке.
Но нет, Ирочка, нет».
Этот случайный, сложившийся из ничего роман давно уже, почти с самого начала, наскучил Павлу, и он только ждал удобного случая, чтобы так же легко и небрежно его закончить.
Павел Родионов стоял в нерешительности посреди залитой солнцем комнаты. Мысль о том, что нужно причинить боль невинному человеку, изнуряла душу и обессиливала волю. Как было бы хорошо, если бы ничего этого не было!
– А между прочим, любопытное замечание! – он прищелкнул пальцами, и болезненная гримаса как-то враз преобразилась в довольную ухмылку. – Это, пожалуй, надо сформулировать и записать.
Родионов подсел к столу и быстро-быстро застрочил, мало заботясь о выборе слов: «Многие, вероятно, даже большинство людей, неверно полагают, что счастье заключается в приумножении, приобретении и т. п. Освободиться от лишнего и ненужного – вот в чем, может быть, и заключается настоящее счастье».
Снова покосился на кресло и заскрипел зубами – там по-прежнему сиротской кучкой лежали ее вещи. Серый, домашней вязки свитер, в котором однажды уехал из ее дома, потому что ночью неожиданно закончилась оттепель и с утра ударил крепкий мороз. До сих пор от свитера слабо веяло дамскими духами. «Вещь двуполая, – думал Павел, с отвращением глядя на него, – одежда-гермафродит. Между прочим, дьявольский признак. Да еще и серый».
А вот это плащ ее отца, ответственного чиновника какого-то министерства. Изделие богатырских размеров, но пришлось и его одолжить на время, чтобы дойти до электрички, поскольку тогда хлынул проливной дождь.
Термос с давно остывшим, недопитым чаем. В тот серенький денек они по ее фантазии жгли костер в пустом сыром саду. Это было в углу дачного участка, где стояли три сосны, за которыми она кокетливо пряталась, вызывая его на ответные действия. По-видимому, он должен был гоняться за ней, как влюбленный пастушок. Сцена некоторое время разыгрывалась ею в одиночку. Потом, пожалев ее, а может быть, просто от желания поскорее покончить с безвкусицею положения, двинулся было за нею, но, сделав несколько ленивых шагов, остановился, парализованный нелепостью происходящего. Стоял, прислонившись плечом к сырой коре, как пресыщенный хлыщ на балу и, все больше раздражаясь, глядел на ее ужимки, а она делала вид, что праздник удается на славу.
Грустный пикник. Он все вскидывался и огрызался на всякое ее движение, нестерпимо хотелось куда-нибудь на люди, в гомон, гвалт, только бы не оставаться наедине. Было холодно и неуютно, как в осеннем поле на уборке картошки, а на втором этаже тепло светилось окошко в сумерках, и тянуло туда, к оставленной в кресле книжке.
Он физически чувствовал, как по мере его охлаждения в ней, наоборот, растет привязанность к нему, растет и пухнет, словно тесто в квашне. «Нет, это болезнь, – думал Родионов, – нельзя же вот так ненавидеть любящего человека, ненавидеть до мелочей и, главное, – ни за что».
Вот ее халатик, тапочки с беличьей опушкой, полотенце. Забытые варежки. Заколка. Щетка для волос. Кстати, не забыть принести из ванной ее зубную щетку. Пасту, к сожалению, он легкомысленно потратил, а для чистоты задуманного следовало бы возвратить все до последней мелочи. Милые мелочи. Мелочи-то больше всего и досаждают, когда не любишь.
Нет, рвать нужно резко и быстро.
Сложив в хозяйственную сумку всю эту дребедень, завернув термос в свитер и обмотав для верности плащом, Родионов двинулся к выходу.
Уже на подступах к метро, в глубокой задумчивости обходя стоящий на остановке трамвай, едва не угодил под встречный, который неожиданно перед самым носом с громом вылетел невесть откуда и чиркнул отскочившего Родионова скользким боком. А ведь хорошо известно, что перед всяким решающим событием в жизни человека судьба непременно устроит для него несколько предварительных проб и репетиций, намекнет, проведет бескровные учебные маневры.
Смерть старухи
Не успел Павел Родионов завернуть за угол, как в противоположном конце пустынного переулка показалась приземистая фигура бегущего человека, одетого по-спортивному, – в синие просторные трусы военного образца и в серую футболку с неясной, застиранной эмблемой на груди. Человек бежал медленно и сосредоточенно, время от времени поглядывая на секундомер, который держал в левой руке. Сверившись с секундомером, прибавлял ходу, но ускорения хватало шагов на пять, после чего бегун снова переходил на задыхающуюся тяжкую рысь.
Добежав до двух железных рельсов, вбитых в землю и обозначающих границу дворика, повернулся на месте всем корпусом и снова побежал по узкой асфальтовой дорожке, ведущей к крыльцу двух-этажного деревянного дома, из которого минуту назад вышел Павел Родионов. Здесь человек остановился и опять сверился с секундомером. По-видимому, результат его устраивал, потому что он удовлетворенно улыбнулся и с шумом продышался.
– Раз-два, взяли! – сказал бегун и взошел на крыльцо по трем ступеням. Возле двери ненадолго замешкался, глубоко и жадно втянул ноздрями воздух и прижмурился.
– Эх, хороша жизнь! – воскликнул с чувством, оглядывая двор, залитый солнцем. Его суровое лицо, изрезанное крупными морщинами, просветлело, он с удовольствием потопал по крыльцу крепкими ногами, обутыми в старые кеды. Что-то военное проступало во всей его плотной фигуре, в посадке головы, в развороте плеч. Седина светилась тусклой платиной в его коротком бобрике, из-под кустистых бровей весело смотрели на мир умные, думающие глаза. Словом, это был отменный старик, прекрасно сохранившийся, готовый к самой суровой борьбе за существование.
Пока он по-хозяйски оглядывал окружающее пространство, не торопясь вступить в дом, дверь внезапно с легким стоном распахнулась, показав сумрачную внутренность сеней, и оттуда высунулась сперва аккуратная дворницкая метла, а затем, пятясь по-рачьи, на крыльцо выступил маленький человек. Что-то удерживало его в дверях, он завозился, высвободил наконец колесо детской коляски и выкатил эту коляску вслед за собою. Вместо люльки для младенца к раме был прикреплен вместительный картонный ящик для мусора, украшенный надписью «Самсунг».
– А-а, Касымушка! – обрадовался физкультурник и хлопнул дворника по худой серой спине, отчего тот выронил метлу и едва не свалился в ящик. – Молодец!
Человек, названный Касымушкой и молодцом, повернул страдальчески сморщившееся маленькое лицо, косо взглянул на кеды спортсмена и, ни слова не говоря, с великими предосторожностями слез с крыльца, погромыхивая дворницким инструментом. Спустившись на землю, сейчас же преобразился – широко расставил кривые тонкие ножки, оттопырил локти и принялся ловко и умело орудовать метлой. Бегун одобрительно крякнул, кивнул головой и скрылся в глубине дома.
Спустя полчаса он, отмахав в своей комнате положенное число раз гантелями, поприседав, попрыгав со скакалкой и приняв в конце холодный душ, переоделся в старого образца галифе и заштопанную военную же бледно-зеленую рубаху и отправился на кухню заваривать утренний чай.
На кухне уже находился еще один житель квартиры – меланхолического вида малый лет сорока, который сидел на табурете у стола и с неодобрением наблюдал за бодрыми хлопотами соседа.
Человек, сидевший на табурете, был худ, большенос и нечесан. Глаза его глядели уныло, тонкие нервные губы задумчиво сжимали дымящуюся сигарету, пальцы механически отбивали какую-то печальную дробь на столе. Это был сосед физкультурника и всегдашний собеседник – Георгий Батраков, попросту – Юрка Батрак.
– Завидую я тебе, Кузьма Захарович, – начал он неожиданно, обращаясь к бледно-зеленой сосредоточенной спине. – Россия гибнет, а тебе хоть бы хны. Бьют вас, бьют и в хвост и в гриву, а вы хоть бы вякнули.
– Захарьевич, – отозвался тот от плиты, подхватил заварной чайник и, развернувшись через левое плечо, шагнул к столу. – Захарьевич, дурья твоя башка! – подчеркнул беззлобно. – Ты бы лучше вон кран починил.
– Спивается Русь, вот что. – Батраков раздавил окурок в консервной банке. – Бардак кругом, воровство.
– Ну, по-моему, это ты спиваешься, а никакая не Русь, – заметил Кузьма Захарьевич. – А насчет воровства тоже тебе скажу… Кто у меня колбасу вчера с полки утащил?
– Это на закуску, а я вообще имею в виду. Нефть, газ, прочее… Алмазы. – Батраков опустил голову и тяжело вздохнул. – Эх, полковник, не удалась жизнь.
– Ты странный сегодня, Юрок. Угрюмый. С чего бы? – полковник Кузьма Захарьевич, сощурившись, внимательно поглядел на Батракова. – Опять запой?
– Тэ-э, – кисло отозвался Юра. – Разве тут запьешь по-настоящему? Просто коньяк пил, «Наполеон». Отрава. Главное, сам привез, вот в чем штука. Фуру пригнал шефу, дай, думаю, возьму на пробу пару бутылок. В счет боя. Знаю ведь, что дрянь, не первый раз уже, а все-таки надежда. Вдруг по ошибке нормальный попадется.
– Как же, надейся. Поляки, небось, гонят. Сколько еще людей коньяком этим отравится! Поди, с каждой фуры десяток трупов, – полковник замолчал, оглянулся на дверь, а затем, придвинувшись к Батракову, сказал серьезно и негромко: – А ведь это все не так просто, если вдуматься. Против нас, Юрок, ведется глобальная экономическая война.
– Какая там война! Именно, что все очень просто. Большие деньги, Кузьма Захарович, – объяснил Батраков. – Рассказать тебе, что там творится, – сон потеряешь. В самой тине бултыхаюсь. Я еще на поверхности, а там такие караси водятся в глубине, в гуще.
– Зачем лезешь в эту гущу?
– Большие деньги, Кузьма Захарович, – повторил Батраков.
– Что-то не заметно по тебе этих больших денег. Довел ты себя, Юрка. Руки-то вон ходуном ходят, – разливая чай, говорил полковник. – Запустил тело, оттого и дух в тебе нездоровый.
Собеседник скептически усмехнулся, взял обеими кистями горячую кружку и, осторожно вытянув губы, подул на кипяток. Кружка мелко дрожала в его пальцах, два из которых были замотаны грязным бинтом, а поверху еще изолентой.
– Кость у тебя прочная, крестьянская кость, – похвалил полковник, потрогав его мосластые запястья. – А мышцы – тьфу! Я тебя ведь по-стариковски воспитываю, а вот попадись, положим, ты мне в армии… Гирю подарил, а ты что? Пропил через два дня!
– Украли, Кузьма Захарович. Скорняк, скорее всего. Он давно гнет искал.
– Пропил и сам не помнишь. Мне же и предлагал, между прочим, мою же гирю, – насупившись, перебил полковник. – Да еще на невинного человека наговариваешь.
– Шкура он, Кузьма Захарович. Сроду у него рубля не выпросишь в трудную минуту. Хоть помирай, бывало.
– Положим, Василий Фомич действительно шкура, я сам готов подтвердить. Но другими, конечно, фактами. Э-э, – махнул он рукой, – что за народишко у нас скопился! Заваль. Нет бы это собраться, сорганизоваться, приобрести инвентарь. По утрам пробежка, турник во дворе соорудить. Сухой закон.
Юра саркастически, искоса взглянул на полковника. Тот заметил этот взгляд и замолчал, запнувшись на полуслове.
– Представляю себе эту секцию, – Юра снова ухмыльнулся. – Баба Вера со скакалкой, Степаныч со штангой, Касым с метлой. А посередке Ундер долговязый на турнике мельницу вертит.
Он мелко засмеялся и закашлялся, поперхнувшись чаем.
– Старую Рой забыл, – угрюмо напомнил Кузьма Захарьевич, сам понимая, что загнул. – В одном ты прав: немощь в народе. На Пашку только надежда, – добавил он. – Я уж понемногу вовлекаю его. Не без сопротивления, конечно, но раз уже пробежку совершили. С ним можно работать.
– Чудной он какой-то, Родионов твой. Пишет чего-то, пишет. Со старухой связался, кашкой ее кормит. О чем они только толкуют с этой ведьмой?
– С чего это она ведьма?
– Жаба у нее живет в аквариуме. Белая, толстая. Я даже подозреваю, что это вещая жаба.
– Ты, Юра, пей-ка лучше чаек, чем глупости говорить, – проворчал полковник. – Да о своей жизни подумай. Россия ему, вишь, спивается.
– Все равно, Захарыч, разъедемся, – серьезно сказал Юра. – Вчера опять приходили эти, осматривали, стены простукивали. Обещали ускорить снос нашего барака.
– Уедем-то, скорее всего, в один дом. Или по соседству расселимся. Будем, брат, и там кучно жить.
– Кучно – не скучно! – Юра улыбнулся внезапно сложившемуся стишку и взглянул на полковника.
Но Кузьма Захарьевич никак не отреагировал на это, молча хмурился и покачивал головой, думая какую-то тревожную думу.
– Честно говоря, Юрий, не особо понравились мне эти жуки, что приходили. Более того, совсем не понравились. И знаешь, Юра, почему? Потому, Юра, что не похожи они на жэковских, хоть и документы у них, и удостоверения. Не похожи, брат, меня не проведешь в этих вопросах. Выправка у них военная, вот что.
– Мне и самому, честно говоря… – начал было Юра, но осекся и, лязгнув зубами, уставился на дверь. Видавший виды полковник глянул туда же и подхватился с места, отступая к шкафу, слепо нашаривая что-то ладонями за спиной.
На пороге кухни высилась страшная иссохшая фигура старухи в белом балахоне до пят. Рот ее был разинут, сухие коричневые руки раздирали воздух, неподвижные черные зрачки полны были тоски и ненависти.
С резким звоном обрушилась на кафельный пол выроненная Юрой железная кружка и, повизгивая, поскакала под стол.
– Родионов! – ржавым голосом раздельно и внятно каркнула старуха. – Он мой. Ему!.. Все.
И умерла.
Это была Клара Карловна Рой.
Клара Карловна Рой
Как быстро меняется окружающий мир!
Человеческий глаз не успевает уже замечать подробностей этих перемен, человеческий ум отказывается удивляться ежедневным, ежечасным перестановкам, передвижениям, что происходят вокруг. Кажется, само время, которое по всем законам должно двигаться с неторопливой размеренностью, заспешило вдруг, рванулось наверстывать упущенное, и замелькали часы, как минуты, дни, как часы, и недели, как дни.
Одна только Клара Карловна Рой не менялась нисколько. По крайней мере, на памяти жильцов дома она оставалась всегда одинаковой. И даже диссидент Груздев, прозванный за страсть к собиранию книг чернокнижником, отсидев свой срок в мордовских лагерях, вернувшись, обнаружил только две вещи во всем доме, оставшиеся на прежних местах – фарфоровую статуэтку «Охотник с собакой» на этажерке у профессорши Подомаревой и Клару Карловну Рой в угловой комнате первого этажа.
А между тем при взгляде на старуху всякий мог бы смело биться об заклад, что она не жилец на белом свете, настолько высохла и износилась ее скудная плоть. От силы еще день-два продержится дыхание в этих пергаментных устах, до первого дуновения, до легкого толчка. Трамвай проедет, продребезжит на повороте – и поминай как звали бедную старуху, рассыплется, как невесомая пыль.
Годах еще в шестидесятых Клара Карловна, уже тогда ходившая при помощи клюки, перенесла три инфаркта кряду, и опытнейший врач, выписывая ее из клиники, так и сказал после ее ухода своей любовнице-медсестре:
– Удивляюсь, как ее земля носит. В сущности, жизни в ней не за что уцепиться. Парадокс.
Однако прошла неделя, и другая, и год, и еще один год, и врач этот пережил скандал развода с супругой, испытал все унижения повторного брака с охомутавшей его той самой молодой медсестрой и в конце концов сам был ею сведен в могилу и выписан из трехкомнатной квартиры на Сивцевом Вражке, и, в свою очередь, постаревшая и увядшая медсестра последовала за ним, оставив квартиру молодому проходимцу из Костромы, а Рой Клара Карловна жила и жила.
Была она одинока и скупа, и, кто знает, может быть, именно феноменальная ее скупость распространялась на само время, отведенное ей для земной жизни, и там, где всякий другой беспорядочно и лихо транжирил годы, она экономно использовала каждое драгоценное мгновение бытия. Ближайшие соседи с ней почти не общались, впрочем, она сама не сказала никому из них двух добрых слов и, кажется, даже не отвечала на приветствия.
Павел Родионов был единственным человеком, сумевшим завести с нею некоторые отношения. Как-то случайно вызвался он, движимый чувством сострадания, принести ей хлеба из булочной, в другой раз принес пакет молока, а потом уже само собою повелось так, что он стал регулярно оказывать ей необременительные для себя мелкие услуги. Постепенно и нечувствительно необременительные услуги стали отчасти и обременительными, но отступиться от старухи он уже не смог, исключительно по слабости своего характера. Проклиная докучную старуху, плелся по слякоти в специальную аптеку для старых большевиков или варил ей гречневую кашу, в то время как по телевизору показывали финал чемпионата мира по футболу и назревал гол.
Кое-какая духовная корысть все-таки была у Павла Родионова, но, конечно, не та, которую имел в виду скорняк Василий Фомич, с неприятным подмигом намекнувший как-то Павлу:
– Кашка, говоришь. М-нэ-э… Навряд она тебе что-нибудь отпишет, зря ты надеешься, Пашка. Зря стараешься, говорю.
Родионов по беглым взглядам, по многозначительным покашливаниям и намекам давно догадывался о подозрениях соседей в части его материальной заинтересованности, но не придавал им значения. Теперь же, в силу одного только духа противоречия, вынужден был продолжать опостылевшие ухаживания за старухой. Единственную выгоду имел он – выгоду общения. Рой интересовала его исключительно как тип, как материал для умственных исследований, как редкий характер. Все, что знал он из случайных разговоров о ее непростой судьбе, чрезвычайно его занимало. Он хотел добиться от старухи ее собственных признаний. Но Рой, особенно в первое время, была слишком немногословна и почти не отвечала ему на осторожные наводящие вопросы. Потом вдруг, когда Родионов стал уже совсем охладевать к старухе, она неожиданно произнесла несколько коротких отрывистых фраз, в которых прозвучала человеческая интонация, проглянуло живое чувство:
– Она мне, хе-хе, в глаза перед смертью плюнула. Ну а я в морду ей из нагана. Хорошенькая такая была. А я вот живу себе.
Павел Родионов, крошивший в тот момент хлеб в аквариум, уронил от неожиданности в воду целый ломоть и дико оглянулся на Клару Карловну, но лицо ее ровным счетом ничего не выражало. И все-таки было в этом каменном неподвижном лице нечто такое, что примораживало к себе взгляд, приколдовывало, притягивало.
Как-то, разглядывая старые фотографии, случайно обнаруженные им в ее тумбочке, был поражен тем, что, оказывается, в далекой молодости была Клара Карловна отменной красавицей, достойной, может быть, кисти самого Врубеля. С тоской подумал тогда о беспощадности времени, так исказившего прекрасные черты. Более того, именно те черты, которые были особенно привлекательны в молодости – глаза и губы, к старости стали особенно отталкивающими.
Из разговоров с ней получил невнятные сведения, что совсем юной девушкой она приехала в Россию откуда-то из Европы, едва ли не на том самом поезде, где был знаменитый пломбированный вагон. На одной из фотографий она сидела на венском стуле, а рядом стоял курчавый человечек, положив ей руку на плечо, и задумчиво глядел вдаль немного выпученными бараньими глазами.
– Брат мой двоюродный, – произнесла Клара Карловна, отвечая на вопрос Родионова. – Рой Яков Борисович. Великий богоборец был. Собственноручно семерых попов истребил и оружие именное получил из рук Урицкого. Умучил его тиран усатый. Не знаю, где и погребен.
– Тридцать седьмой? Незаконные репрессии? – спросил Павел Родионов, радуясь тому, что старуха, кажется, готова наконец разговориться.
– Позднее, – сказала старуха. – Он еще в войну блокадный Ленинград спасал от голода, складами заведовал. Недоедал, недосыпал. Пришли в сорок девятом среди ночи и увели. Не знаю, где и погребен. Эх, Яша, Яша.
– Клара Карловна! – воскликнул Родионов, озаренный внезапной шальной мыслью. – Что же вы бездействуете? Сейчас же все дела пересматриваются прошлые. Вы ведь как родственница незаконно репрессированного большие деньги можете получить от государства! Нужно только документы поднять.
– Деньги? – лицо старухи чуть заметно оживилось. – Вы шутите.
– Гигантские деньги! – горячился Павел. – Какие могут быть шутки? Да и кто же шутит такими вещами? Многие уже получают. Вы мне единственно выдайте поручительство письменное, а я уж сам в их архивах покопаюсь. У меня и ходы есть кое-какие.
Никаких реальных и продуманных ходов у Родионова в ту минуту, разумеется, не было, но ведь был же тесть, Гармаза Семен Семеныч, с его «подвалами» и связями. Главное, как-нибудь официально получить разрешение на доступ к материалам, а там такого можно накопать!..
– Большие деньги! – повторил Родионов, с удовлетворением отмечая оживление старухи.
Через полчаса уходил из ее комнаты, унося в кармане нужную бумагу.
«Эдем-сервис»
Нельзя сказать, чтобы физическая смерть Клары Карловны Рой произвела слишком большое впечатление на жильцов, населяющих дом. Но некоторое общее смущение чувствовалось в атмосфере квартиры, потому что очень многие связывали с этой ожидаемой смертью кое-какие личные планы, до поры до времени тщательно скрываемые. Планы были просты и основаны на утилитарной логике жизни: когда человек умирает – жилплощадь освобождается. А поскольку никаких родственников у старухи быть не могло, то жилплощадь эта по справедливости должна была отойти самому нуждающемуся или, на худой конец, самому ближнему к старухе человеку.
Может быть, именно по этой причине не было отбоя от желающих принять самое близкое участие в хлопотах по устройству похорон Клары Карловны. Каждый стремился перехватить в этом деле инициативу, так что уже к вечеру лежала она обмытая и принаряженная в пожертвованные соседями вещи.
Врут, что всякий покойник тяжел как свинец. Когда Юра Батраков бросился к падающей старухе, то едва не упал вместе с нею, не рассчитав своих сил, – она повалилась на его руки невесомая, как высохший кокон. Кое-как удержав равновесие, так и понес ее по коридору, перекладывая с руки на руку, а потом и вовсе поместив чуть ли не под мышку.
Все это сопровождалось отрывистыми восклицаниями смешавшегося в первую минуту Кузьмы Захарьевича, который, впрочем, довольно скоро опомнился, забежал вперед и держал открытой дверь в старухину комнату.
– Ты бы, Юра, поаккуратней с ней, – не выдержал полковник, видя, как Батраков несет тело, словно какой-нибудь манекен из папье-маше. – Углы-то не задевай, твою раз так! Экий ты, брат, неловкий!
– Так-то я ловкий, Кузьма Захарович, – оправдывался Юра, боком протискиваясь в дверь. – Да дело такое, толком не ухватишь как следует. Локти с непривычки друг за дружку цепляются. Баба Вера, подсоби, что ли! – крикнул он, завидев выскочившую в коридор и поспешающую на помощь к ним соседку.
– Ай, бяда-бяда-бяда!.. – запричитала та, по-хозяйски распоряжаясь в комнате, отодвигая от кровати стул и тумбочку, раскидывая на постели выхваченную из шкафа простыню, запахивая попутно тяжелые сырые шторы на окне, поправляя ногой сбившийся коврик у кровати старухи. Все это делалось ею с привычной профессиональной сноровкой, ладно и споро, недаром Вера Егоровна всю свою жизнь проработала санитаркой в местном травмопункте.
Все это время Юра стоял посередине обширной комнаты Рой, держа бедную старуху на вытянутых руках и оглядывая помещение быстрыми цепкими глазами. Кузьма Захарьевич топтался бестолково, то и дело выбегал в коридор и возвращался обратно, охал, не зная, что предпринять и чем помочь.
– Ты бы, Захарьевич, позвонил пока куда следует, – приказала баба Вера, укладывая Рой поверх расстеленной свежей простыни. – Неотложку не тревожь зря, а так, в поликлинику сообщи, пусть освидетельствуют. В бюро звони сразу. День-то пятничный. Ай, бяда-бяда…
Стукнув пятками, полковник бросился прочь из комнаты.
Скоро вся квартира узнавала о случившемся во всех трагических подробностях.
– Пашку все звала напоследок, – повторял Юра, растерявший в суматохе дел всю свою утреннюю меланхолию. – Руками так вот тычет прямо в меня: «Павел, Па-авел!..» Жутко, честное слово. В рыло мне тычет вот так: «Приведите ко мне его немедленно живого или мертвого!..»
– Вишь, привязчивая какая старушка, – вклинив меж слушателей свой любопытный нос, качал обнаженной лысиной Степаныч, маленький сутулый старичок, большой врун и любитель невероятных историй. – Не зря он с ней все возился.
– Интерес был. Стал бы он с ней просто так возиться. На деньги рассчитывал, – твердо проговорил скорняк Василий Фомич, сидевший в сторонке на табурете. Был он приземист, с покатыми круглыми плечами и походил со спины на куль муки.
– Ты, Фомич, все на деньги переводишь. А Пашка-то наш сирота, вот, может, и потянулся. Хотя, если подумать, кто ж его знает, – засомневалась баба Вера, – куда эта Клара пенсию свою складывала.
– А неплохая, в сущности, старушка была, – объявил Юра, наливая себе еще одну стопочку. – Надо бы поминки отпраздновать.
Кузьма Захарьевич помалкивал, думал свою думу, поглядывая на оживленного и самодовольного Юру, который успел уже, пользуясь минутой, выманить у дворника Касыма еще одну бутылку водки и отпить около трети.
Многое было неясно для полковника, а потому сомнительно. Взявшись за телефон, он, как и было приказано, первым делом набрал номер бюро и вздохнул, запасаясь терпением, ибо знал наверняка, что услышит короткие гудки, что дозвониться будет очень и очень непросто. Но дозвониться оказалось на самом деле проще простого. Полковник не услышал никаких гудков – ни коротких, ни долгих, а услышал сразу отзывчивый и чуткий голос, который прозвучал так близко и отчетливо, что Кузьма Захарьевич принужден был даже оглянуться – не за спиною ли у него стоит собеседник.
– Простите, – начал Кузьма Захарьевич обескураженно, – мне нужно бюро…
Но голос прервал:
– Это именно бюро. «Эдем-сервис». Секция старых большевиков.
Слова эти сразу показались полковнику слишком несерьезными, ерническими. Не так, по крайней мере, должны отвечать на звонки в подобных учреждениях. Правда, Кузьме Захарьевичу не приходилось никогда связываться с похоронными бюро, но он сразу почувствовал недоверие к этому неприятному голосу.
«Что за организация старых большевиков? – думал полковник. – Давно уже никаких большевиков в помине нет. Хотя, может быть, там, рядом со смертью, все это как-то устойчивей держится и никакой перестройки не было».
Поразительно было и то, что едва Кузьма Захарьевич назвал фамилию покойной и, пожевав губами, приготовился медленно и разборчиво произнести трудное имя-отчество, как снова был перебит:
– Мы уже в курсе. Клара Карловна. Деятель первой категории. Не затрудняйтесь, пожалуйста, адрес известен. Всегда готовы!
После этого странного прощания полковник услышал короткие гудки отбоя.
Не прошло и десяти минут после этого разговора, как в квартиру уже входили трое крепких мужчин с бритыми подбородками и с черными повязками на рукавах. Быстро скользнули глазами по лицам хозяев и деловито проследовали в комнату покойной. Причем наблюдательному полковнику показалось, что один из них, приостановившись, сделал правой рукою что-то похожее на козыряющее движение, но, как бы опомнившись, стал пощипывать свои короткие волосы на виске и, не опуская руки, устремился вдогонку за товарищами, которые входили уже в угловую роковую комнату.
«А ведь не спросили, где она!» – отметил насторожившийся Кузьма Захарьевич.
Он отправился вслед за ними и, открывая дверь, приметил торопливое движение, с которым кинулись они из разных углов комнаты и склонились как ни в чем не бывало над усопшей, что-то поправляя и прихорашивая. Отметил полковник и то, что приоткрыта была дверца платяного шкафа и ящик тумбочки выдвинут почти наполовину. В самом положении их, в напряжении широких спин прочитывалось что-то заговорщицкое. Полковник деликатно отступил, тихо притворив за собою дверь. И показалось ему, что не успела еще щель сомкнуться, а те уже отпрянули друг от друга и снова рассыпались по углам. Или это была игра воображения? Как бы то ни было, спустя недолгое время, заговорщики гуськом проследовали мимо кухни, и один из них снова вскинул руку и снова зачесал висок. Доложил:
– Все в порядке. Гроб снарядим. Будьте покойны!
Это вырвавшееся вопиющее «будьте покойны» отметили про себя все присутствующие и переглянулись.
Минут через сорок доставлен был и гроб, уже снаряженный, то есть обитый кумачом.
Один из спецов, длиннолицый и бледный, с тонкой траурной полоской черных усов под носом, прощаясь, объявил:
– В воскресенье будет спецмашина. Ждите.
После этого посетители удалились.
С той самой минуты, как страшная весть разнеслась среди жильцов, в доме воцарилось хмельное, едва ли не праздничное настроение, всеми овладело переменчивое нервное оживление. Особенно взвинчены были дети, они носились с криками по квартире, то и дело пытались заглянуть в жуткую угловую комнату, где стоял на табуретках обитый кумачом казенный гроб, путались под ногами, получали подзатыльники, но с неутихающим истерическим весельем продолжали скакать и бегать, и ничем нельзя было их урезонить.
К слову сказать, и сами взрослые находились во власти странного взыгрывающего настроения – поминутно входили и выходили из кухни, пытались дозвониться в какие-то инстанции, в десятый раз допытывались, когда же, в каком именно часу приедет машина и точно ли она приедет, нет ли каких изменений.
– Любушка! – кричала откуда-то из-под лестницы баба Вера. – Не забудь напомнить замести сор, как вынесут. Не дай Бог забуду!..
– Если не забуду, Вера Егоровна, напомню обязательно! – отзывалась в свою очередь Любка Стрепетова, проносясь мимо. – Когда приедут-то?
– Небось приедут, – неопределенно отвечала баба Вера уже из комнаты Рой, выгоняя оттуда Юру Батракова.
– Клад! – упирался хмельной Батраков, обстукивая стены небольшим топориком. – Нутром чую, должен. Ну сама подумай, баба Вера.
– Иди, иди, нехристь! – ругалась баба Вера, выталкивая его за дверь.
Чужая смерть поневоле сближает очевидцев, они инстинктивно стремятся сойтись потеснее, сбиться в безопасную кучку, отвлечь себя разговорами, хотя бы и пустыми.
К вечеру на кухне собрались почти все обитатели дома. Дети после бурного и нервного дня угомонились, были теперь задумчивы и молчаливы. Они расселись рядком на корточках у стены, поскольку все места были заняты. На одном из табуретов ютились супруги Иван да Марина, обняв друг друга и тесно прижавшись друг к дружке. Они тоже молчали, но заметно было, что молчание у них на этот раз какое-то согласное, семейное. В обычной жизни, несмотря на взаимную привязанность и любовь, они беспрерывно лаялись и поносили друг друга, всегда открывая дверь нараспашку, чтобы слышали соседи. В своих семейных ссорах оба были правы друг перед другом, а потому, вероятно, и держали дверь открытой, чтобы окружающие оценили их правоту и несправедливость противника. Впрочем, окружающие уже мало вслушивались в их взаимные обвинения, поскольку ссоры эти развивались прихотливо и бессюжетно и аргументы сторон не имели никакого решающего значения. Главное заключалось в интонациях и жестах, все остальное было лишь декорацией и сменным реквизитом.
Был здесь и долговязый, скупой на слово Макс Ундер, стоял, сутуло прислонившись к стене и ни на кого не глядя, поскольку всех презирал тем смешным кукольным презрением, с каким относится к русским всякий маленький, но гордый народ. Он давно уже замышлял переехать на историческую родину, но все никак не мог выгодно продать свою комнату, а потому заодно с презрением еще и ненавидел окружающих за то, что они населяют квартиру и снижают своим существованием ее рыночную стоимость.
Чернокнижник Груздев сидел рядом с ним, тоже больше слушал, чем говорил, сосредоточенно роясь пластмассовой вилочкой в консервной банке.
Все остальные жильцы двигались, поминутно куда-то выбегали и возвращались, вклинивались в разговор, спорили – словом, общая атмосфера была живой и суетной.
Разговоры, что велись весь этот долгий сумбурный день и весь долгий майский вечер, были по большей части пустыми и праздными. Все старательно обходили главную тему – кому же владеть угловой комнатой, но скрытое подспудное напряжение чувствовалось в каждом слове и в каждом движении собравшихся. Только один раз напряжение это выплеснулось наружу, все задышали в полную грудь и разговор упростился до нужной степени. Случилось это в тот миг, когда Юра, ненадолго куда-то отлучавшийся, появился снова на пороге кухни и, победоносно оглядев всех, заявил без всяких обиняков с пьяною торжествующей улыбкой:
– Можете поздравить! В ЖЭКе был. Расширяюсь.
Все замерли, уставившись на Юру.
– Ты протрезвись сперва, голубчик! – дрогнувшим от возмущения голосом перебила его Любка Стрепетова, и фраза ее прозвучала в напряженной тишине как начало романса. – Поезжай в свою деревню и расширяйся там.
– Мою деревню затопили, и ты это прекрасно знаешь, змеюка! – со злым спокойствием ответил Юра, не удостаивая противницу взглядом. – Такие, как ты, и затопляли, между прочим. Учат их в институтах. Я бы тебя лично гаечным ключом поучил.
– А такие, как ты, всю Москву уже водкой затопили! – огрызнулась Любка. – Алкаши проклятые. В подъезд не войдешь.
– Что-о? – поперхнулся от негодования Юра и двинулся к ней, пошевеливая пальцами правой руки. – Сама из Краматорска, корчит тут, в натуре.
– Ну ударь, ударь, – быстро схватив со стола железную вилку и прячась за спиной полковника, проговорила Любка. – Уда-арь, свидетелей много.
– Стоп-стоп-стоп! – опомнился Кузьма Захарьевич и широко расставил руки. – Отставить спор. Не по существу. Тебе, Юра, сразу трудно вникнуть, дело, видишь ли, не так просто…
– Незачем мне вникать, Кузьма Захарович, – отозвался Юра, глотнув из-под крана воды. – С понедельника в ЖЭК устраиваюсь. А потому мне как работнику ЖЭКа…
Дворник Касым привстал и молча ткнул себя пальцем в грудь.
– На общих основаниях! – выкрикнул из угла Степаныч, живший на втором этаже как раз над комнатой Клары Карловны.
– Истинно так, – подтвердил и Василий Фомич. – Я, к слову, отец троих детей.
Это напоминание было всем неприятно. Тем более что за скорняком стояла еще и его жена. Все помнили, как отбила она у армян место на рынке у метро. Как отстояла она у рэкета право торговать беспошлинно и свободно.
– У Касыма вон тоже трое детей! – едко вставила молчавшая до сих пор вдовая профессорша Подомарева, не имеющая никаких, даже теоретических шансов, а потому ставшая вдруг вредной и объективной. – К тому же он нацменьшинство.
– При чем тут какие-то дети?! – заволновался Степаныч. – Неизвестно еще, что из них вырастет при таком воспитании. Наплодили бандюг. В тюрьме их жилплощадь.
– Я, между прочим, замуж собираюсь, – перебила Любка Стрепетова. – Давно хотела сказать, да все откладывала.
– Муж с женой вполне могут в одной комнате жить. А вот мы с Ванюшей разводимся! – тихо и значительно сказала Марина. – Где ему прикажете жить?
– Работникам ЖЭКа в первую очередь, – не очень уверенно возразил Батраков.
– Друзья мои! Не будем торопить события, – разумно закрыл тему полковник, но не удержался и добавил: – Есть еще такие понятия, как выслуга лет. Но, повторяю, не стоит торопить события. Тем более что площадь пока еще занята законным владельцем.
Все оглянулись на дверь, наступила долгая пауза. В глубине квартиры что-то зашуршало, глухо стукнуло, скрипнуло. Эти обычные домашние шумы звучали теперь жутковато, казались исполненными загробного смысла и потусторонней глубины. Полковник поглядел в окно, и все как по команде обернулись туда же. Долгие и светлые сумерки уже успели смениться незаметно подступившей ночью. Обозначился вдруг темный прямоугольник окна, и в этой темноте пошевеливалось что-то пугающе белесоватое. То ночной ветерок раскачивал цветущие ветви старой яблони.
– Это что, – не выдержал тишины Степаныч. – Я знал человека, которому лебедкой полголовы оторвало, а ему хоть бы хны, жив до сих пор. Четыре часа пришивали.
Он сидел на табурете у окна, склонив набок острую лысину, поросшую младенческим пушком, и испытующе глядел на вздрогнувших слушателей.
– Тьфу ты! – выругался скорняк Василий Фомич, всегда недолюбливавший говорливого соседа.
– С места не сойти! – поклялся Степаныч и чиркнул себя пальцем чуть пониже уха. – Вот до сих пор.
– Врешь, гад, как всегда, – равнодушно возразил Василий Фомич.
– При чем тут врешь? Я хочу сказать, что смерть не всегда властна… – продолжал Степаныч.
– А я вообще читал, что теперь куры с четырьмя ногами бывают. После Чернобыля-то… – поддержал Степаныча Юра Батраков.
– С хвостами и лают! – съязвила Любка.
– Лаять не лают, – осипшим от злости голосом отозвался Юра, – а вот хвосты у них точно есть. Что за курица без хвоста? Это, может, в Краматорске где-нибудь…
– Осел! – сорвалась Любка и снова спряталась за Кузьму Захарьевича.
– Ага! – зловеще произнес Батраков. – Ну за осла ты мне ответишь.
Неизвестно, чем завершилась бы их вновь закипающая ссора, но тут сама собою вдруг заскрипела половица у порога кухни, хотя там было совершенно пусто, а вслед за тем отчетливо и страшно три раза постучала в окно белая яблоневая ветвь. Все снова затихли прислушиваясь.
– Говорят, опять маньяк объявился, – робко заметил кто-то из жильцов.
Из дальней глубины коридора донесся размеренный бой часов. То ожили стенные часы полковника, десять лет до сих пор молчавшие. Многие привстали со стульев, точно исполнялся гимн, и стояли так, пока не затих рыдающий двенадцатый удар.
Журчала струйка воды в железной раковине у плиты.
– Кровь прольется, – кратко и внятно сказал вдруг всегда молчаливый и хмурый Макс Ундер, точно отвечая своим неведомым мыслям.
Все вздрогнули, разом зашевелились, задвигали стульями. Баба Вера перекрестилась и первая шагнула в темный коридор, вслед за ней гуськом потянулись и остальные.
Дубль два
«Итак. Не входя в дом, выложить вещи на крыльце или еще лучше – на стол в беседке у калитки, позвонить в дверь, кратко объясниться и уйти, не выслушивая никаких вопросов.
Будет наверняка минутка растерянного молчания с ее стороны, в этот именно момент и надо как можно быстрее выскользнуть, иначе петля затянется. Жалко, что переулок длинный и прямой, лучше бы сразу скрыться за угол, юркнуть шустренько – и поминай как звали. Подло, конечно, и гадко, но что поделаешь…» – так думал Павел Родионов, приближаясь к мирной двухэтажной даче, выглядывающей из глубины разросшегося старого сада.
На самом деле произошло все гораздо гаже.
Он шел уже вдоль глухого зеленого забора, то ускоряя шаг, то задумчиво и нерешительно приостанавливаясь, малодушно колеблясь. Был еще шанс отложить это дело и выбрать вариант, который теперь казался ему самым приемлемым и безболезненным, – отделаться сухим бесстрастным письмом. Как ни рассуждай, а ведь действительно так было бы лучше. Но в то же время письмо – юридический документ.
Стоя уже у калитки и нерешительно протягивая скрюченный палец к звонку, Павел Родионов почувствовал вдруг, как чьи-то холодные влажноватые ладошки налетели сзади и игриво облепили его глаза. Услышал радостное прерывистое дыхание за спиной, сдавленный торжествующий клекот и крепко сжал зубы. Все это было ему слишком знакомо. Это были ее повадки.
– А вот и я, Пашуля! Вот и я! – озорным ликующим голосом пропела Ирина, выступая вперед и отпирая ключиком калитку. – Что ж ты, милый, без предупреждения? А я все-таки чуяла, чуяла! Настроение такое чудесное с утра, как на крыльях летала, – с легкой картавинкой лепетала она, роясь в сумке. – Я тебе… Между прочим, вот гляди-ка, что… Прелесть какая! Хотела потом тебе сюрприз сделать, да не могу вытерпеть. Ну-ка…
С этими словами она извлекла из сумочки цветастый галстук. Хрустнул срываемый целлофан, и на шею Павлу Родионову скользнула ледяная шелковая змея.
Он резко отшатнулся, и, должно быть, такая зверская гримаса исказила его лицо, что Ирина, взглянув на него, звонко расхохоталась и, продолжая смеяться, несколько раз клюнула его губами в подергивающуюся щеку. Она подтолкнула его легонечко в спину, загоняя в ограду, и он покорно вступил туда, покидая нейтральную территорию улицы. Вот сейчас вещи на стол и прочь!.. Как только отсмеется… Нет, нельзя так. Жестоко получится. Семь раз отмерь…
– Пашук, ты что грустный такой? Что с тобой? – заметив, наконец, его состояние, встревожилась Ирина. – Да ты голодный, наверно? Так?
Он угрюмо и неопределенно мотнул головой.
– Ну вот видишь! – обрадовалась она. – Что ж ты стесняешься признаться? Папашка тоже всегда сердитый, пока не сядет за стол. Все вы, мужики, одной породы, все вы одинаковые, – с ласковой укоризной приговаривала Ирина, проталкивая Родионова в дом. – Ступай в гостиную, я мигом.
«Что ж, выпью эту чашу до дна», – сокрушенно думал Павел, вступая в знакомую полукруглую комнату и садясь на стул у дверей, подальше от стола. Сел с прямой напряженной спиной, установив сумку на коленях, по-дорожному, по-вокзальному.
Донимало какое-то неудобство, покрутил головой и обнаружил на шее галстук. Рванул его с себя, отчего узел резко затянулся и больно сжал горло. Он поперхнулся, злые слезы выступили на глазах. Сумка свалилась с колен, и по глухому звяку он понял, что термос разбился.
Застучали каблучки Ирины, и с небольшим подносиком в руках, уставленным чашками и блюдцами, розеточками и ложечками, она направилась к столу. Проворно расставляя еду, она взглянула на него, заметила:
– Ты покрасневший какой-то, Пашук. И глаза слезятся.
– Простыл, – сдавленным голосом ответил он и покрутил головой, стараясь ослабить узел.
– Папашка всегда коньяк пьет. Лучше всего от простуды, – откликнулась она и простучала каблучками к притаившемуся в углу бару. Дверцы его сами собой распахнулись, и оттуда с тихим звоном выдвинулась початая бутылка коньяка.
Павел, успевший незаметно скинуть галстук, сидел насупившись, молча следил за ее ловкими руками.
– Я и себе чуточку, – хлопотала Ирина, наполняя довольно объемистую хрустальную рюмку. – Рюмки, между прочим, настоящие. Богемское стекло. Папашке подарили на службе, пей осторожно.
«У нее еще и шея короткая, – обнаружил вдруг Родионов. – Или теперь, или…»
– Знаешь, Ирочка… Знаешь, милый друг… – начал он, но Ирина ласково приложила палец к его губам, и Родионов откинулся на спинку кресла. Молча хватил содержимое рюмки одним духом и тотчас налил вторую. Это и было его ошибкой.
Захмелевшего и потерявшего бдительность, она проводила его на второй этаж, потом спустилась вниз и долго куда-то названивала по телефону, а его даже не насторожили эти странные звонки.
Но самое позорное произошло через два часа, когда они снова сидели в гостиной и тоскливая щемящая нотка все мучительнее звучала в сердце Родионова. Предательский хмель уходил от него, уступая место запоздалому раскаянию.
Ирина напряженно и сосредоточенно молчала, косясь на дверь и к чему-то прислушиваясь.
Родионов глядел на пустую бутылку и тоже молчал, подыскивая хоть какие-то слова, годные для нейтрального разговора. Неожиданно со двора послышались посторонние шумы, за окном пролетело что-то темное и большое, он не успел разглядеть что, и уже через секунду с громом распахнулась входная дверь, голоса ворвались в гостиную.
На пороге стоял, растопырив руки, тучный кряжистый мужик, из-за спины которого выглядывало любопытное вострое лицо женщины с бегающими глазами, в которых горел хищный охотничий огонек.
– Вот как! Не ждали! – всплеснув руками, радостно прокричала Ирина, и Павел отметил что-то деланное, театральное в этом вскрике и в этом движении, не вполне, может быть, отрепетированное. Волна жаркого стыда окатила его, заныло под ложечкой.
Особенная деликатность положения Павла Родионова состояла в том, что в тот самый момент, когда законные хозяева дачи с шумом и гнусными прибаутками хлынули в комнату, он был запеленат в просторный банный халат своего будущего тестя.
Все кругом наполнилось движением, радостными восклицаниями. Посыпались и расползлись по столу принесенные незваными хозяевами пакеты и свертки. Тесть, не умолкая ни на секунду, сыпал поговорками, распечатывал извлеченную из портфеля бутылку шампанского, тяжко хлопал Павла по плечу, подмигивал, гоготал, а Родионов криво усмехался, ежился в халате и пытался спрятать под креслом голые свои ноги.
Окружающие с вызывающей демонстративностью не обращали внимания на его наряд даже и тогда, когда он, теряя громадные шлепанцы, выскользнул из гостиной – что ж тут, мол, такого, не чужие теперь все-таки люди.
И весь этот вечер Павел кивал, мычал, поддакивал, пил душившее его шампанское, не смея отказаться от доставшейся ему роли. В довершение всех бед из застольного разговора очень скоро выяснилось, что учреждение, где служил его тесть и которое Ирина скромно определила в самом начале их знакомства как «одно министерство», оказалось министерством внутренних дел.
– Скажи мне, кто твои враги, и я их из-под асфальта вырою! – припечатывая Родионова к креслу, обещал захмелевший тесть Семен Семенович Гармаза. – Я, брат, покажу тебе как-нибудь наши подвалы. Там, Пашук, такие приспособления есть…
Голос тестя был неприятен, сдавлен, как будто тот держал на спине какую-то неимоверную тяжесть, и тем не менее, все больше пьянея, он то и дело запевал этим сдавленным и неприятным голосом одну и ту же песню – «То мое сердечко стонет» – и все никак не мог довести ее до конца. Старательно морщил вспотевший лоб, подмигивал Павлу и тыкал себя пальцем в левую половину груди, показывая, где у него «стонет сердечко».
Но весь вечер звонил телефон, звонил громко и требовательно, тесть вскидывался с места, бежал к трубке и все тем же сдавленным голосом кричал:
– Слушаю! Кто на проводе?
В две минуты разделавшись с собеседником, возвращался, взмахивал рукой, поднимал одну бровь, и все начиналось сначала.
Так закончился печальный день тринадцатого мая. Это была предварительная помолвка, в узком семейном кругу. Настоящее же торжество намечалась на воскресенье, пятнадцатого.
Бывает у человека, с виду самого податливого и мягкотелого, предел, до которого его можно гнуть, но потом человек упирается и, к удивлению противников, не поддается уже никакому воздействию. Разумеется, с самого начала Родионов в глубине души знал, что никакой свадьбы не будет. А человек, имеющий крепкий тыл, не так отчаянно сопротивляется в момент первого нападения и легко отступает…
Весь следующий день и все воскресное утро ушли на хозяйственные хлопоты и приготовления. Родионов покорно ездил с тестем в казенной машине, закупая на близлежащих рынках невероятное количество припасов.
Гостей приглашено было без счета.
«А может, жениться, – думал Родионов, – да поколотить ее хорошенько! Мужу позволительно, никто не осудит. За все рассчитаться».
– Ты, Пашук, неси картошку в дом, – приказал тесть озабоченно, – а я еще в одно место дуну.
И Родионов с тяжкой ношей побрел к пустому дому, долго бренчал доверенными ему ключами, путаясь и забыв, какой от чего, а когда, наконец, справился с замком и вступил в комнату, она полна была уже требовательным телефонным звоном. Звонил телефон, что висел на лестничной площадке между первым и вторым этажом. Черный телефон, служебный.
С мешком картошки, позабыв скинуть его с плеча, бросился Павел к надрывающемуся аппарату, схватил черную трубку.
– Слушаю! Кто на проводе? – покачиваясь от тяжести мешка, сдавленным голосом крикнул Родионов.
– Ты еще там, Барсук?! – удивилась трубка. – Мигом к Филину! Дубль два. Рой вчера померла. И проверь по своим каналам… сейчас точно скажу, тут неразборчиво. Ага! Проверь – Родионов Павел Петрович. Все.
Родионов выронил трубку из рук и покатился по крутой дубовой лестнице. Следом за ним скакал, как привязчивый вампир из кошмарного сновидения, свалившийся с плеч мешок картошки. Оказавшись внизу, Павел подхватился с четверенек и, подвывая, ворвался в гостиную. Слава Богу, в доме не было ни души. Павел устремился к своей так и не разгруженной сумке, по пути слепо шаря глазами по сторонам, выискивая куртку. Увидел ее на крючке в углу, метнулся туда, рванул на себя. Треснул пластмассовый крючок, а он уже бежал к сумке, прикидывая, куда бы разом вывалить содержимое. Да вот хотя бы на это кресло, похожее на разжиревшую отъевшуюся жабу. «Про жабу – это я хорошо, – отрывисто одобрил себя, – значит, работает сознание… Сознание работает…» Дернул замок молнии на сумке, заранее предполагая, что в такую паническую минуту замок наверняка заклинит. И точно, застежка напрочь застряла, и, дернув ее несколько раз, Павел отбросил сумку прочь. Но тотчас подхватил ее снова, соображая, что следов оставлять не следует, а нужно действовать разумно, осторожно и быстро. Поскорее уйти отсюда, покинуть это место, незаметно, точно его здесь и не было.
Торопливым шагом покинул территорию участка. Прижимаясь к чужим заборам, преодолел пустой переулок и, только отойдя на порядочное расстояние, с которого трудно уже узнать человека в спину, чуть убавил прыти.
«Дубль два!» – стукнуло в голове.
Но так не бывает в жизни! Они как-то по-другому действуют, эти службы. Не по телефону же!
Недоброжелательное внимание какой-то посторонней чужой силы, силы тайной, но внимательной и неусыпной, встревожило его до глубины существа.
Возвращение Родионова
В воскресенье с утра все ждали обещанной машины, которая должна была увезти тело Рой в морг для окончательного освидетельствования, но машина эта пришла только после обеда.
Пожилая медсестра со странным именем Ия Иолантовна и два безымянных студента-практиканта быстро уложили старуху на носилки, прикрыли простынкой и вынесли из дома. Заметно было, что студенты, в отличие от властной Ии Иолантовны, очень волнуются и робеют.
Поскрипывая рессорами и суставами, переваливаясь на выбоинах асфальта, грузовичок медленно двинулся со двора по узкой и тесной дорожке, цепляясь бортами за кусты сирени. Женщины, как только машина тронулась с места, сбежали с крыльца и теперь стояли посередине двора, сбившись в тесную кучку. Баба Вера перекрестилась и промокнула уголки глаз кухонным полотенцем.
Мужчины толпились на крылечке, перебрасываясь короткими репликами и поглядывая в открытую дверь, – им не терпелось поскорее вернуться к только что покинутому столу, который с утра совместными усилиями всех жильцов был составлен и накрыт на кухне.
Судя по наружному виду собравшихся, настроение у всех было отнюдь не похоронное. Тем более что погода стояла на диво славная и веселая, вовсю светило майское солнце.
– Скорбная минута, друзья мои! – щурясь на солнышке, объявил с крыльца Кузьма Захарьевич.
– Это верно! – с готовностью подтвердил стоящий рядом с ним Юра Батраков.
– Что верно, то верно! – согласился с ними и Степаныч, с удовольствием похрустывая зеленым лучком, пучок которого прихватил с поминального стола.
– Жила себе старушка – и на тебе! – в который раз уже за эти дни повторил Юра Батраков. – Вот я чего понять не могу, Кузьма Захарович. Как же это так выходит, зачем же тогда все? Душа, мысли…
– Физиологический закон, – сухо ответил полковник.
– Это со школы всем известно, – не унимался Юра. – Но человек же все-таки не скот бессловесный.
– Иной человек хуже барана, – заметил Василий Фомич. – С барана хоть шкуры клок.
Когда все вернулись в дом и продолжили церемониал поминок, сдержанный и знающий чувство меры полковник Кузьма Захарьевич Сухорук выпил несколько совершенно лишних рюмок. К вечеру уже с трудом выговаривал самые простые слова, а взявшись произнести речь, так и не сумел выговорить имени-отчества покойной.
Впрочем, никто его и не слушал.
Все давно уже распределились по кучкам и группкам, как это всегда бывает при больших застольях, стоял ровный гомон, каждая такая кучка вела свой отдельный громкий разговор, мало обращая внимания на всех остальных и вяло реагируя на произносимые общие тосты.
Словом, поминки вылились в самую обыкновенную пьянку, составившуюся стихийно и неожиданно, правда, с большим количеством еды и спиртного.
В третьем часу ночи в дом осторожно проник Павел Родионов, все это время бродивший в соседних дворах. Вернувшись уже в сумерках, разглядел издалека ярко освещенные окна дома, темные мертвые стекла угловой комнаты.
Хотя и не совсем мертвые: показалось ему, когда он подошел поближе, что вспыхнул там слабый блуждающий огонек, и погас, и еще раз вспыхнул, выхватив чье-то размытое лицо, овал щеки, а затем опять погас.
Заглянув с улицы в кухню и увидев там облепленный народом стол, Родионов понял все. Слабая надежда его на то, что телефонный звонок, так его взбудораживший, был чьей-то злой и неумной шуткой, рассыпалась в прах. Сомнений не оставалось – Клары Карловны уже не было на белом свете, и Павел решил переждать пьянку на улице. Когда все угомонилось и разбрелось, на цыпочках прошел по темному коридору, отомкнул дверь своей комнаты. Заливисто залаял чуткий пуделек из комнаты Стрепетовой, и Павел поспешил укрыться за дверью.
Первым делом кинулся к письменному столу и, засветив лампу, принялся лихорадочно рыться в бумагах. Того, что хотел найти, среди бумаг не обнаружилось, и, посидев некоторое время в бездеятельной задумчивости, Родионов погасил лампу.
Судорожно зевнул и завалился спать.
Утром полковник отправился на пробежку и бегал гораздо дольше обычного, мучимый бесполезным и никому не нужным раскаянием. Вернувшись в дом часа через полтора, Кузьма Захарьевич застал там картину стихийного разграбления комнаты покойной Рой. Собственно говоря, грабить там было нечего, нельзя же всерьез считать имуществом старую, давно оглохшую радиолу, платяной шкаф с кучкой истертых и траченных молью платьев, тумбочку, круглый шаткий стол, лысый половичок и прочую отжившую свой срок ветошь. Все это было вынесено и свалено как попало у мусорных баков на выезде со двора.
Кузьма Захарьевич молча посторонился, пропуская Юру Батракова и Василия Фомича, которые как раз выносили во двор железный остов рыдающей всеми пружинами кровати.
Полковник прошел в дом, заглянул в угловую комнату, постоял на пороге. Щемящее чувство печали тронуло его сердце, так пустынно и разгромленно выглядела комната. Сухой пучок серой пыльной травы одиноко висел на гвоздике в углу, по всему полу разбросаны были фотографии, клочки бумаг, несколько старинных почетных грамот с портретами вождей на фоне красных знамен. Криво торчала сорванная с крепления палка карниза, зацепившаяся концом за край мутного аквариума – странной прихоти выжившей из ума старухи. Все в доме знали, что держит она там вовсе не рыбок, а выращивает уже много лет отвратительную белую жабу.
Между тем снова послышалась ругань, топот ног.
– Ты, Ундер, вообще помалкивай, – услышал полковник голос Юры. – Ты с самого начала не участвовал, так что заткнись, пожалуйста. Аквариум мы и сами сообразим. И вообще, ехал бы ты в свою Прибалтику.
– Да! – поддержал Василий Фомич, входя в комнату. – Пусть едет в свою Прибалтику.
Они долго топтались около аквариума, примеривались так и эдак, приподнимали его, взвешивали.
– Воду бы кастрюлей отчерпать, а то навернуться можем, – сказал скорняк, покачивая головой. – Хотя тину растревожишь – вонь пойдет.
– Скорняк, а вони боишься, – заметил Юра.
– Сравнил. То козел. От козла дух жилой, – ласково возразил Василий Фомич.
– Ладно, – оборвал разговор Юра. – Берись с того конца. В шаг ступай. К Пашкиной двери понесем в нишу, как раз туда встанет. Жабу после выкинем, рыб разведем.
Ухватившись и надув щеки, они вынесли аквариум в коридор, и комната опустела окончательно. Кузьма Захарьевич еще раз огляделся, подобрал с пола почетные грамоты, сложил их аккуратной стопочкой на подоконнике и тоже вышел вон.
«Бабилон»
Было уже довольно поздно. Солнце светило Пашке в лицо. Некоторое время лежал без движения, стараясь не впускать в себя никаких мыслей и воспоминаний о событиях, которые случились накануне, но сдержать их напор было невозможно. Родионов вздохнул, поднялся с постели и отправился в ванную. Возвращаясь, заметил в нише у своей двери аквариум Рой, наклонился и заглянул в мутную глубину. Оттуда смотрела прямо ему в глаза ухмыляющаяся лягушачья морда.
– Ну что ж, царевна, – грустно сказал Павел, подавляя в себе легкую дрожь отвращения. – Будем жить вместе.
Осторожный стук послышался из комнаты старухи. Пашка приоткрыл дверь. У дальней стены стоял Юрка Батрак с топориком в руке. Вид у него был озабоченный.
– Привет, Паша! Ты уже в курсе событий? Я тут пока прозондировал кое-что. Ни фига тут нет, ни намека даже. Что-то в подполье шебаршит. Чихает вроде. Чох я точно расслышал. А она ведь все тебе завещала. Все, говорит, ему, Родионову… Отмаялась старушка.
– Что все?
– Да вот, что ли, грамоты ее. Люстра еще. Больше никаких ценностей. Я уж досконально тут все облазил, пока другие не расчухались.
– Ну-ну, – только и сказал Родионов, закрывая дверь.
Надев куртку и потертые свои джинсы, отправился на службу.
Небо было, как и вчера, чистым и ясным, стояли в нем редкие белые облака. Родионов вышел на дорогу, огляделся, подолгу задерживая взгляд на каждом предмете, словно пытаясь навсегда запечатлеть в сердце этот хрупкий, беззащитный мир, посередине которого стоял старый дом, омытый свежей пеной сирени, – и на душе его посветлело от одного только вида этой живой и недолговечной красоты, от которой веяло тихой отрадой и покоем.
Двадцатиэтажный редакционный корпус располагался на промышленного вида пустыре за железнодорожными путями, в стороне от жилых домов и людных улиц. Здесь, среди десятков вывесок с названиями газет и журналов, на стене у стеклянного входа помещалась и табличка со скучной надписью «Литература и жизнь». Это было место службы Павла Родионова.
В последние месяцы тревожные и разноречивые слухи будоражили редакцию, бродили по коридорам, переходя из отдела в отдел, клубились в углах, выплескиваясь даже на лестничную площадку, где вечно торчали, сменяя другу друга, взволнованные курильщики, что-то глухо и возбужденно обсуждая. Особенно усиливалась смута в те дни, когда в очередной раз к руководству наведывались молчаливые и сосредоточенные люди в малиновых пиджаках, с лицами неприветливыми и высокомерными, с подбородками волевыми, решительными, иссеченными тонкими бледными шрамами.
Секретарше Леночке при появлении этих людей давалось строжайшее указание никого в кабинет не впускать, а грозная заведующая редакцией – Генриетта Сергеевна Змий – сама заваривала в приемной крепкий кофе, наклоняясь над кипящим варевом, что-то подсыпала туда, помешивала и приборматывала, а затем потчевала таинственных гостей, запершись с ними в кабинете главного редактора.
Была смута среди людей, разделение их на партии, фракции, группы. Словом, дух в редакции установился нездоровый, нервный.
Коллега и приятель Родионова очеркист Боря Кумбарович, человек кипучий и деятельный, внимательно следил за событиями, но даже и он не мог сказать ничего определенного, а потому был тревожен и мнителен.
– Странный ты человек, Борис, – удивлялся Родионов. – Расстраиваешься из-за пустяков. Тебе-то что за дело до всего этого? То политика тебя гнетет, то склоки эти…
– Э-э, Паша, не скажи, – возражал Кумбарович. – Тут, брат, нельзя проморгать, никак нельзя. Тебе-то что, а у меня семейство, поневоле задергаешься…
Семейство, о котором пекся Кумбарович, состояло из одной лишь жены его, которая лет на десять была старше и которой он побаивался, а в отместку старался изменять ей при всяком удобном случае. Впрочем, случаи такие выпадали на долю его нечасто. Серьезные женщины не интересовались им, хотя он был остроумен и находчив в разговоре, мастер рассказывать анекдоты. Легко овладевал вниманием – и женщины во всякой компании хохотали до слез, но дальше смеха дело обыкновенно не шло.
Как всегда, лучшую барышню, шепнув ей на ухо два-три заветных слова, уводил импозантный обаятельный Синицын, а погрустневший и разочарованный Кумбарович, честно отработавший весь вечер, жаловался, оставшись вдвоем с Родионовым у разоренного стола:
– Мне сорок пять лет, Пашка, а спроси, что я в жизни видел, что я испытал хорошего? Взять тех же женщин. Ну и что мне выпадало? Так, обсевки одни, поскребыши. Хотя нет, Пашка, вру! Была у меня одна. Была, Паша, у меня, когда я ездил в Юрмалу…
Тут следовал не раз слышанный Родионовым рассказ об одной удивительной женщине необыкновенной красоты и обаяния, которая сама, первая предложила Кумбаровичу свою любовь, и это действительно была любовь – яркая, жаркая и короткая, как всякое настоящее счастье.
– Я плакал, Паша. Первый раз в жизни. Красива, как роза! Да. Так-то вот, – заканчивал Кумбарович свой рассказ, и на глазах его блестели слезы.
Кумбарович вытаскивал носовой платок, сморкался.
– Такая женщина была! Поверишь ли, мы с ней четырнадцать раз за ночь…
– Врешь, – сомневался Родионов.
– Какой же мне смысл врать? – горестно вздыхал Кумбарович. – И потом, я ведь только из армии пришел.
– В прошлые разы ты врал, что это было в командировке.
– Это другие истории, – оправдывался Кумбарович.
Определенно в редакции вызревали какие-то беспокойные события. На сегодня назначено было общее собрание.
Машинистки Лидина и Зверева, прежде самые яростные и непримиримые соперницы, теперь, обнявшись, прохаживались взад-вперед по этажу, а при встрече с коллегами разом замолкали, но глаза их были туманны и нездорово мечтательны, как у двух верных подружек, гуляющих весенним вечером вдоль берега реки.
– Любопытно, о чем они все время шепчутся? – бессильно злился Кумбарович. – А им ведь наверняка что-то известно! Машинисткам всегда многое известно наперед.
– А Шпрух-то наш очки сменил, – замечал Родионов, переводя разговор на редакционную тему. – К чему бы это, как думаешь?
– Да, темные стекла – это неспроста, Паша. Это в высшей степени подозрительно.
Семен Михайлович Шпрух, бывший парторг редакции, а ныне коммерческий директор, как-то особенно оживившийся в последнее время и даже помолодевший, то и дело вылетал из кабинета главного редактора с ворохами бумаг, и отнюдь, как было замечено внимательными наблюдателями, бумаги эти были не рукописи. Нет, не рукописи, а цифры были на этих бумагах! Бланки это были, вот что…
Семен Михайлович рылся в своем личном сейфе. Прятал туда заполненные бланки, вытаскивал оттуда бланки чистые и, побренчав ключами, снова пропадал надолго за редакторской дубовой дверью. Ни слова нельзя было разобрать из-за этой проклятой двери, только слышались оттуда невнятные взволнованные восклицания, недовольный рокот редакторского баритона и тонкий убеждающий тенорок.
Генриетта Сергеевна Змий внимательно и неусыпно следила за перемещениями Семена Михайловича, специально держа дверь своего кабинета нараспашку, несмотря на свою природную скрытность и боязнь сквозняков.
После ухода Шпруха вставал из-за стола Загайдачный, покусывая ус, пододвигался как-то боком к сейфу и задумчиво барабанил по нему пальцами.
Нынешним утром в редакции было особенно неспокойно. Родионов все пытался углубиться в давнюю рукопись пьесы под названием «Сталь бурлит», которая лежала уже почти месяц у него на столе и на которой редакторским карандашом было выведено категоричное «Читать срочно!!!» Но никак не удавалось ему нырнуть в плотные воды пьесы, выталкивала его оттуда на поверхность сопротивляющаяся сила текста, не впускала в глубину. Вероятно, так же трудно вникнуть дилетанту в какой-нибудь учебник по сопромату.
Дверь распахнулась, и секретарша Леночка, приложив палец к губам, сказала торжественным громким шепотом:
– Зовут!
Сотрудники подтягивались в приемную, у дверей создалась легкая толчея.
Главный редактор Виктор Петрович Пшеничный, о чем-то переговаривавшийся со Шпрухом, кивнул новоприбывшим и снова придвинул внимательное ухо к шепчущим губам собеседника.
Родионов и Кумбарович уселись в дальнем углу у пассивной стены. Активный же центр группировался вокруг широкого редакционного стола, там все сидели с блокнотами, заготовив карандаши и перья, кое-кто уже нервно черкал в листочках, ставил восклицательные знаки и птички. Несколько особняком разместились люди в красных пиджаках, рылись в дорогих кейсах, щелкали золотыми замками.
Кабинет постепенно заполнялся опаздывающим народом. Пока все размещались, двигали стулья, перемигивались и перешептывались, Виктор Петрович Пшеничный сидел, наклонив седую тяжелую голову и упершись лбом в подставленные пальцы левой руки, правой штриховал квадратики. Кожа на лбу его сдвинулась вверх, отчего брови, как у грустного мима, расположились печальным домиком. У журнала оставалось только пять сотен тех самых вымирающих читателей, и Виктор Петрович мысленно собирал их на площади перед издательским корпусом, видел этот недееспособный батальон обманутых и униженных филологов, учителей, библиотекарей, печально вздыхал и думал: надо что-то делать, но что?
В одну из таких печальных минут и подъехал к нему Шпрух Семен Михайлович с заманчивым и лукавым предложением от некой организации под названием «Бабилон», связанной косвенно с ломбардами и игорным бизнесом. «Бабилон» протягивал руку помощи, но было боязно хвататься за эту хищную руку.
– Друзья мои! – оглядев сослуживцев, начал Виктор Петрович. – Все здесь?
– Аблеев в запое, – сообщил Шпрух. – Остальные в сборе.
– Друзья мои! – снова возвысил голос Виктор Петрович. – Положение наше известно. Хуже, как говорится, не бывает. Мы катастрофически теряем подписку. Но у Семена Михайловича есть по этому поводу конкретное сообщение, выслушаем его.
Шпрух, все это время нервно перекладывавший бумажки, встал и откашлялся в кулачок. Собрание настороженно притихло. Лидина многозначительно переглянулась со Зверевой.
– Итак, – уверенно, с нажимом произнес Шпрух, – в общих и драматических чертах дело всем известно, буду говорить по сути. Мы обязаны подписать вот этот небольшой документ, – Шпрух помахал исписанной страницей. – Мы отныне товарищество с ограниченной ответственностью. Доля каждого во вступительном капитале строго дифференцирована. Итак, читаю: Пшеничный Виктор Петрович – пять процентов, Аблеев – пять процентов, Генриетта Сергеевна Змий – пять процентов, Шпрух Семен Михайлович – семь процентов. Загайдачный Николай Тарасович – один процент…
Загайдачный молча встал и шагнул к Шпруху.
– Я, кажется, оговорился, – Шпрух снял с носа темные очки и, близоруко вчитываясь в бумагу, поправился: – Тут пятерка не пропечатана.
Он подрисовал недостающий хвостик. Загайдачный так же молча отступил и сел на место.
– А почему у Шпруха семь процентов? – заволновался Подлепенец, моргая белесыми ресницами. – Это опечатка?
– Нет, это не опечатка. Тут есть негласные соображения. Тут мы с Виктором Петровичем уже все это обсуждали, – увильнул Шпрух. – Цифры не столь важны. Хотя, впрочем, для ясности, я, пожалуй, зачту сперва устав, – он рылся в бумагах, отыскивая нужную. – А потом мы вернемся к цифрам. Ага, вот. Итак…
– Не «зачту», а «зачитаю», Семен Михайлович! – строго заметила Змий.
– Что? – рассеянно откликнулся Шпрух, напряженно вглядываясь в свои бумаги.
– Говорят – не «зачту», а «зачитаю».
– Ах, оставьте, Генриетта Сергеевна, эти штучки, честное слово! – плачущим голосом взмолился Шпрух. – И так голова кругом идет.
Семен Михайлович быстро и невнятно зачитал устав, но никакой ясности не наступило – наоборот, прибавилось туману.
Одно все поняли точно и определенно: ломбард гребет себе пятьдесят один процент, то есть контрольный пакет.
Подлепенец встал и громким голосом объявил, что больше тридцати процентов лично он ломбарду не даст. Никак нельзя давать. Нерезонно.
– Позвольте, ну как же нерезонно, если очень даже резонно! – попробовал возразить ему Шпрух. – И потом, юридически, строго говоря…
Встала со своего места Зверева и, подойдя к столу, шмякнула на него пустую хозяйственную сумку с темными застарелыми потеками от мяса на дне.
– Вот моя жизнь собачья! – сварливо начала она. – Вот моя, Виктор Петрович, жизнь, – Зверева снова подняла сумку и снова шмякнула ее на стол. – Двое иждивенцев. Я согласна на три процента, но приплюсуйте еще по два на каждого иждивенца – выходит ровно семь. Это математика.
Все внимательно и с отвращением глядели на сумку.
– А я вот что предлагаю, – предложил Подлепенец. – Пусть каждый из нас на отдельной бумажечке напишет причитающийся ему процент. Но только объективно и по-честному.
– Валяйте, пишите, – вяло махнул рукою Шпрух. – Пишите по-честному.
Бумажки были розданы, заскрипели перья. Представители ломбарда сидели не шевелясь с окаменелыми лицами.
Наконец, после долгих подсчетов и препирательств была определена общая сумма. Всего процентов оказалось триста семьдесят два.
– Вот и прекрасно! – обрадовалась Зверева. – Теперь все по справедливости.
– Но столько процентов в природе не бывает! – взорвался Шпрух. – Я вам для наглядности подсчитал, но столько ведь не бывает!
– А Стаханов! – выкрикнул кто-то от дверей.
– В природе не бывает таких процентов. Если взять целое за сто, то отсюда следует… – стал растолковывать Шпрух, но его тотчас оборвали.
– В природе не бывает, а у нас будет! – выкрикнула Зверева.
Семен Михайлович Шпрух развел руками и, криво усмехаясь, оглянулся на красные пиджаки. Те молча склонили головы.
– Зинаида Сергеевна, прошу вас, уберите эту сумку со стола, – болезненно морщась, попросил главный.
– Всем доли разделить поровну! – грянул из угла баритон корректора.
– А ломбарду шиш! – поддержали от окна.
– Сами меж собой разделим, зачем нам какой-то ломбард вшивый, – предложили от двери.
– Что вы собираетесь делить? – озлился Шпрух. – Что делить?
– Неважно что! Главное, чтобы – честно!
Представители ломбарда встали и строем двинулись вон из кабинета. Лица их по-прежнему были непроницаемы.
Шпрух насупился, засуетился и, роняя и подхватывая на лету бумажки, побежал вслед за ними.
– Ну и ладно, – облегченно вздохнул Виктор Петрович, вытер носовым платком пот со лба и поднялся. – Я сам, честно говоря, сомневался. Затея не для нас, работаем по-прежнему. Авось жизнь сама наладится. Все остается как есть.
Задвигались стулья, все устремились к выходу. Понемногу пробка у дверей рассосалась, Кумбарович тащил Пашку прочь.
Они поднялись на двадцатый этаж, в буфет, взяли по чашке кофе и присели за дальний пустой стол.
Кумбарович осторожно отпил глоток и, глядя в сторону, неожиданно сказал:
– Помнишь, Паша, ты говорил насчет подвала?
– Не помню, – признался Родионов.
– Ну когда пили у Аблеева. Он еще про хвостатых женщин рассказывал.
– Вранье, – подумав секунду, сказал Родионов. – Хвостатых женщин не бывает. Миф.
– Ну тут, положим, ты не прав, – возразил Кумбарович и горько усмехнулся. – Но не в этом суть. Я точно помню про подвал.
– А-а! – вспомнил Родионов. – Это когда про тестя моего… Да, Боря, действительно, есть в Москве такие подвалы.
– Короче говоря, Паша, нужен подвал и как можно срочнее. Сулят большие деньги, Паша, очень большие. Подумай, взвесь.
– Сколько? – поинтересовался Родионов.
– Паш, дело стоящее. – Кумбарович постучал ногтем по столу. – Люди вернейшие. Серьезное и солидное дело. Мы находим сто метров в центре и разбегаемся. Вернее, получаем по пятьсот баксов, а потом уже разбегаемся. С деньгами, разумеется.
Пальцы Кумбаровича, стуча ногтями, стремительно побежали к краю стола.
– Где ты найдешь тысячу баксов за просто так?
«Небось две предложили, – догадался Родионов, глядя на Кумбаровича, – что-то суетен больно».
– Может быть, удастся сорвать с них по семьсот, – накинул Кумбарович, заметив Пашкин взгляд. – Но придется, конечно, поклацать зубами, так просто с них не сдерешь.
– Пожалуй, подсуетиться стоит, – согласился Родионов, не имея, впрочем, ни малейшего плана. – Надо спросить кое-кого, что-то такое мелькало на днях.
– Поговори, Паша, но посрочнее, иначе клиент уплывет.
Теперь ладонь Кумбаровича выразительно вильнула рыбой и уплыла снова на край стола.
– Попытайся раскрутить их тысячи на две, – попросил Родионов. – Понимаешь ведь, что такое площадь в центре.
Сам Пашка только понаслышке представлял, что такое нынче площадь в центре, никакого помещения на примете у него не было и ничего такого на днях не мелькало. Но две тысячи долларов были солидной суммой, и хотелось если и не заработать, то хотя бы потолковать об этих деньгах, поучаствовать, пусть и мысленно, в солидном предприятии.
– Если метров сто пятьдесят будет, предлагать? – после небольшого раздумья спросил он.
– О чем разговор? – разведя руки, Кумбарович откинулся на спинку стула и дрыгнул короткими толстыми ляжками. – Чем больше метранпаж, тем лучше! Может, и по тысчонке отхватим. Я сам с ними говорить буду, а ты знаешь, что я своего не упущу. Я насчет денег, Паша, человек очень жесткий.
Кумбарович посуровел лицом и сжал челюсти, показывая таким образом свою жесткость. Однако, несмотря на эти ухищрения, как раз жесткости и недоставало его бритому упитанному лицу. Была там плутоватость, хитреца, но никак не жесткость.
– Тогда я сегодня же наведу нужные справки, – пообещал Родионов. – Есть один очень-очень глубокий подвал. Бомбоубежище с вентиляцией и прочим, но метров там несчитано. Так, говоришь, солидный клиент? – переспросил он, словно берег этот несуществующий подвал именно для такого случая, для клиента серьезного и богатого.
– Паша, я никогда не имею дела с мелочевкой! – придвинулся Кумбарович и снова застучал крепким ногтем по столу. – Где этот подвал?
– Есть один очень-очень большой дом, – стал объяснять Родионов, вспоминая одиннадцатиэтажную сталинскую махину, расположенную неподалеку от его двухэтажного барака. – Дом на Яузе, строился для командного состава. То, что нужно!
– Паша, срочно! – всплеснул руками Кумбарович. – Сегодня же наведи справки, только… Видишь ли, с клиентом я должен общаться лично, ты не должен его видеть, можно спугнуть и так далее. Я сам все обтяпаю, сам принесу тебе наличные. А тебе светиться ни к чему.
«Две! – твердо определил Родионов. – Недаром у него ноги кренделем сцеплены. Скрытничает, гад».
– Слушай, Боря, фиг с ним, с этим подвалом, – сменил тему Родионов. – Тут у меня любопытный сценарий намечается. Помнишь старуху мою, соседку? Ну про которую ты писал в статье своей по моей наводке.
– Рой, что ли?
– Ну да.
– Еще бы! – Кумбарович передернул плечами. – Страшенная старуха, не хотел бы я такого соседства.
– Померла старушка, – вздохнул Павел. – Но, видишь ли, у старушки этой дача заброшенная в Барыбино. Я там был пару раз еще при жизни ее. Ключи выпросил. Там пишется хорошо, тишина. Так ключи-то у меня остались.
– Эге! – прищурился Кумбарович. – Смекаю.
– Вот именно! Наследников-то нет никаких! Я вот и размыслил: а не занять ли эту дачу, так сказать, явочным порядком. Пока там в конторах расчухаются, да и время нынче смутное – может, вообще забудут про старуху. А я уже как бы примелькался, соседи меня видели. Я решил завтра вечерком последней электричкой рвануть туда на пару дней. Помелькать. Одежонку заодно зимнюю туда свезу, по стенам развешу. Надо обживать пространство. Ночь переночую, чтобы видели – свет горит. Одно только меня смущает – душа ее может туда среди ночи заявиться. Страховито одному там будет, я человек нервный, впечатлительный. Половица заскрипит…
– А во сколько электричка?
– В половине двенадцатого.
– Опасно. Не, – решительно отверг предложение Кумбарович. – Я никак не смогу. Жена упрется. Ревнивая. Чем старее становится, тем цепче держит.
– Вина бы взяли, шашлыки…
– Нет, не могу. Потом как-нибудь. Да ты для смелости возьми бутылку, махни перед сном. Покойники, они пьяного духа не выносят, обходят. Я раз нарезался, забрел по пьянке на Немецкое кладбище и прямо на могиле проспал до утра. Хорошо, лето было…
«Убить старуху!»
Когда Родионов вышел из метро, рынок уже затихал. Торговцы укладывали нераспроданные за день товары в полосатые сумки, дежурные бомжи сгребали оставшийся мусор: картонные коробки, рваные газеты, кожуру от бананов, огрызки, смятый целлофан, доски, щепки – и все это жгли тут же, посередине площади. Черный густой дым клубами поднимался в потемневшее небо. Закат уже отполыхал. Пахло кочевьем и дикой волей, пришедшей извне, из разбойничьих степей, где дымится сухой ковыль и воют на багровую луну темные волки.
Тревожащий сердце весенний сумрак овладевал городом, и чем дальше от метро отходил Павел, тем тише и загадочней становилось вокруг. Улица была пустынна.
Прогремел и свернул в переулок трамвай, уютно и празднично освещенный изнутри. Он тоже был почти пуст, и Родионову захотелось сесть в него и поехать куда глаза глядят, без всякой цели. Просто ехать и ехать, ни о чем не думая.
Вообще захотелось вдруг резкой перемены в жизни и новизны. Жаль было тратить такую чудесную весну понапрасну, терять время в редакционных склоках, в пустых разговорах с соседями и сослуживцами, возиться с тусклыми чужими рукописями.
Весеннее томление духа.
В такую пору какая-нибудь обгорелая плешь за слесарной мастерской, куда всю зиму сливали отработанные масла, высыпали ржавую железную стружку, и та покрывается внезапно робкой и нежной порослью, обреченной на скорую гибель. Одинокое сухое дерево, торчащее на опушке трухлявым обломком и десять лет копившее силы, выпускает в одну ночь тонкий побег с двумя изумрудными листочками. Оказывается, и оно жило и дышало все эти долгие десять лет.
Что же тогда сказать о чувствах человека, которому только-только исполнилось двадцать семь.
Замечтавшись, входил он в свой двор и внезапно очнулся, услышав запах сирени, который к ночи стал особенно густ, ибо воздух стоял неподвижно и ветерок не расхищал, не разносил этот провинциальный дух по окрестным улицам. В соседнем дворе зазвенела гитара, запели собачьими тенорами подростки. Всюду и у всех томление духа.
Родионов взялся уже за дверную ручку, но передумал входить. Спустился с крыльца и присел на скамейку. Над кустом сирени поднималась близкая желтая луна.
Покачиваясь и невнятно что-то бормоча, прошел к дому Батрак, не заметив Родионова. Громко хлопнул дверью. А через минуту дверь снова скрипнула, и на крыльцо вышла фигурка в белом. Постояла неподвижно и стала спускаться по ступенькам. Подошла, присела рядом, глубоко вздохнула. Павел узнал Наденьку, старшую дочку скорняка. «Что бы такое спросить у нее? – подумал Родионов. – В какой же она класс ходит? В восьмой? Или в седьмой…»
Было тихо, если только можно назвать тишиной далекие глухие шумы города – автомобильные сигналы, звонки, невнятный рокот, гул моторов.
– Дядя Паша, – неожиданно начала она. – А вы знаете, кто все это придумал?
– Что именно, Надюша? – не понял Родионов.
– Все! Луну, небо, землю… Меня, вас, других всех…
– Ну кто же такой умник? – усмехнулся Павел в темноте.
– Вы не смейтесь, – сказала девочка серьезным голосом. – Все это создал Бог.
– Вот как? – удивился Родионов. – Предположим, я до этого сам дошел. Но ты-то откуда знаешь? Неужели теперь в школе…
– Нет, – сказала Надя. – Я сама знаю. Ну а как ваша повесть, движется?
– Движется, Надя. Слушай! – осенила его вдруг внезапная догадка. – Ты, пока меня не было, заходила в мою комнату?
– Да. Надо же было Лиса кормить. Вы же сами велели.
– Я не о том, Надя! Ты не брала у меня со стола бумажонку одну, листок такой сверху лежал? Я перерыл все.
– Там, где вы написали: «Убить старуху Рой»?
– Да, да! Эту! – обрадовался Павел. – Только ты понимаешь, что это же не буквально. Она просто у меня в повести – как идея. Не идея моя, в смысле – я решил ее укокошить, а она сама идея. Э-э… – замычал он. – Как бы тебе проще объяснить, Надюша… Идея коммунизма. А она подходит по всем статьям, эта старуха, и срок ее жизни…
– Вы написали: «Убить старуху» – а на другой день старуха умерла.
– Но не я же ее убил! – с досадой произнес Родионов. – Ты ведь понимаешь, что это так, умозрительно. И, кстати, если хочешь знать, у меня полнейшее алиби. И свидетели есть, – зачем-то прибавил он.
– Я эту записку вашу выбросила в помойное ведро, не волнуйтесь, – сказала Надя. – Тут приходили разные, шнырили везде. Я подумала, вдруг улика.
– Порвала? – успокаиваясь, спросил Родионов.
– Зачем рвать? Я в нее кошачье дерьмо завернула. Лис-то нагадил, пока вас не было.
– Ну хорошо, Надюша, правильно сделала. Мало ли чего. Да и, честно тебе признаться – свидетели у меня ненадежные. Думаю, они бы с удовольствием законопатили меня в тюрьму, лет эдак на… Может, и пожизненно.
– Что, с невестой поругались? – спросила Надя.
– Да тебе-то кто натрубил про эту невесту? – вскочил со скамейки Родионов. – Не было никакой невесты! Не было! Сплетни все бабы Веры.
– Жениться-то все равно придется! – сказала Надя.
– Что, неужели приезжали? – спросил Родионов упавшим голосом.
– Я не буквально. В смысле как идея, – рассмеялась Надя. – В смысле когда-нибудь…
– Ну, в смысле когда-нибудь, это я с превеликим удовольствием! – воскликнул Павел с облегчением.
В доме даже и в это вечернее романтическое время кипела обычная коммунальная жизнь, как будто в мире не существовало никакой бесконечности и вечности, как будто не висело над Москвой никакой луны. Впрочем, войдя в дом, Павел Родионов и сам тотчас позабыл о томлении духа, словно разом нырнул в иную реальность, словно вышел из-за укромных кулис на людную ярко освещенную сцену, да еще в самую напряженную и драматическую минуту.
Едва только открыл входную дверь, как был подхвачен под руку полковником, который с радостным криком:
– Да вот Родионов, пусть свое слово скажет! – поставил его посреди кухни.
Павел стоял и, поеживаясь от всеобщего внимания, близоруко щурил глаза, привыкая к электрическому свету. Скорняк подавал ему какие-то знаки, шевелил пальцами, будто что-то перетирал, мял. Степаныч улыбался, как всегда, хитро и лукаво, пьяный Юра Батраков пытался установить локоть на краю стола, но тот все время соскальзывал…
– Скажи, Паша, что это не дело! – приказал Кузьма Захарьевич.
– Это не дело, – согласился Павел. – И вообще я как большинство.
Степаныч облегченно ударил ладонью по колену и победоносно оглянулся на скорняка. Василий Фомич крякнул яростно и бросился вон из кухни. Павел Родионов двинулся вслед, не желая вникать в тонкости коммунальной разборки.
– Большинство всегда неправо, – проворчал из угла чернокнижник Груздев, отрываясь на секунду от банки с консервами.
Павел Родионов, шагнувший уже к выходу, вздрогнул от неожиданности, потому что из коридорной тьмы высунулись вдруг и недружелюбно боднули его растопыренные рога.
Вслед за тем на свет явился Василий Фомич, неся эти громадные кривые рога, торчащие из обломка волосатого черепа. Его круглое лицо было багрово и страшно.
– Вот! – взмахнул тяжелыми рогами, отчего завизжала и шарахнулась в угол пугливая Любка Стрепетова.
Павел, защищаясь, поднял ладони. Скорняк сунул ему в ладони рога и, взмахнув освободившимися руками, пожаловался:
– Для общего блага ведь. Пустует же площадь, Паша! Прохладно, тихо, никому не помеха. Чую беду, Паша, а эти все выжидают, раздумывают! Что тут думать? Пожарные приходили, раз! – Василий Фомич загибал пальцы. – Тараканомор приперся, два. Кто его звал? В плаще, упрямый, подлец, я его еле вытолкал. Кто его звал? – повторил Василий Фомич и оглядел присутствующих. – Ясно дело. Все туда рвутся, к Рой. Потеряем площадь, если не объединимся. У меня лицензия, я имею право на подсобное помещение. При общем согласии…
– Смрад! – возразил полковник.
– Ага, выгонишь тебя потом из этой общей площади! – крикнул Степаныч.
– Но не чужим же с улицы отдавать! Не чужим, – волновался Василий Фомич. – А эти, как их? Баптисты нахлынули. С бубнами. У вас, мол, помещение… Сперва один сунулся, маленький из себя, плюгавый. Я его в шею, в шею… До калитки гнал. Прибрал тут немного в комнате, только сел на кухне передохнуть, чай поставил… Слышу, толкотня какая-то у Рой, шум, гомон. Я туда, а их там семеро уже! Здоровенные. В окна поналезли. Вон Касым подтвердит, как мы с ними бились: он метлой, я лопатой. А вы говорите… Занимать надо помещение, осваивать, иначе захватят.
– Ни нам, ни вам, – вмешалась Любка Стрепетова.
– А я бы всех обшил. Бесплатно, – сулил Василий Фомич.
– Как же, выгонишь тебя, – проворчал снова Степаныч.
– Да и дело-то выгодное, коммерческое, – настаивал Василий Фомич.
– Смрад! – упрямо повторил полковник.
– Коммерческие дела, а в особенности выгодные, всегда с душком, – заметил из своего угла чернокнижник, доканчивая банку тушенки.
Василий Фомич молча повернулся и, сутулясь, вышел вон.
– Рога! – крикнул вдогонку Родионов, но скорняк, не оглядываясь и ничего не отвечая, махнул рукой и пропал за своею дверью.
– Ни нам, ни вам! – подытожил Степаныч. – А там как будет, так и будет.
Родионов, косясь на омерзительный трофей, попытался сунуть его под раковину.
– Пашенька, унеси его с глаз, пожалуйста, – жалобно попросила Любка, и Родионов покорно поплелся с ношей из кухни. Кинул эти рога в своей комнате в дальний угол, прошелся, потянулся, задернул занавески и присел на минуту к столу без всякой определенной цели.
Лисопес
Очнулся уже глубокой ночью. Очнулся и поразился количеству исписанных им стремительным летящим почерком страниц, сложил их стопкой, радуясь материальной тяжести бесплотных слов. Благословенная ночь стояла за окном, это была одна из тех редчайших ночей, когда к рассвету как бы сами собой выстраиваются сказочные дворцы, без пота и усилий, по одному только слову царевны-лягушки. С радостной дрожью волнения поглаживал сложенные листы, боясь сейчас только одного – того, что наступит трезвый и рассудительный день и разрушит все, что кажется теперь таким совершенным, ладным, законченным. Ясно, до галлюцинаций, звучали в нем голоса придуманных им героев, они все еще топтались рядом, не решаясь заступить за круг света, очерченный настольной лампой. «Вот тебе и закат, – думал Павел, – не зря все-таки горел. Вот тебе и лягушка в аквариуме».
Он встал, прихватил с подоконника заварной чайник и отправился на кухню добывать кипяток.
Открыв дверь в коридор, испуганно отпрянул, увидев, как сонм растревоженных призраков отхлынул от дверей, прошелестел по коридору, скрылся за углом. Его неоконченные, не вполне еще материализованные образы торопливо попрятались в укромных местах, чтобы снова собраться под дверью и заинтересованно подглядывать за его работой, едва только он вернется к столу. Подавляя в себе легкий испуг от этого мгновенного движения теней и сгущений, Родионов самодовольно усмехнулся – это были его личные творения, а не пришлые неизвестные духи, злые и враждебные. Уж за своих он мог поручиться – это были вполне безвредные, робкие и ласковые существа, не способные ни на какую оккультную пакость.
Подходя к кухне, оглянулся в ту сторону, где находилась комната покойной Рой, и почудилось ему в коридорных сумерках, как толстое горбатое существо (не вполне еще оформившееся в человека, в героя) неловко пролезло в дверной проем и скрылось в глубине, поспешно прихлопнув за собою дверь. И снова с потрясающей ясностью галлюцинации, знакомой лишь истинным творцам да сумасшедшим, услышал и скрип этой двери, и стук ее, и даже взволнованный раздраженный шепот, глухой укоризненный говорок. Деликатно опустив глаза, чтоб не смущать своих собственных творений, Родионов скользнул в кухню, установил чайник на плите, а затем подошел к окну.
Все видимое пространство в свете фонарей, которые, казалось, сияли прямо из космоса, было торжественно и недвижимо, только в двух-трех окнах соседних домов горел бессонный творческий огонь.
Заварив чай, Родионов направился в свою комнату. Как ни удивительно, призраки, порожденные его воображением, не унимались. Теперь что-то глухо шмякнулось за дверью на лестнице, словно там уронили тяжелый мягкий куль.
Родионов удивленно прислушался, но опять сомкнулась вокруг него мертвая тишина. Проходя мимо аквариума, погладил холодное стекло, испытывая странную симпатию к затаившейся там земноводной твари. Как благожелателен ко всему миру человек в минуты творческого подъема!
И снова, едва прикоснувшись к авторучке, Родионов выпал из мира. Когда вспомнил про чай, тот был уже безнадежно остывшим. Выпил теплой заварки, не прерывая скорого письма, отмечая обрывками слов, пиктограммами, стрелками и кружочками сразу несколько параллельно всплывающих мыслей и образов, чтобы после, когда наступят бесплодные обыкновенные дни, не спеша расшифровать эти обрывки, развить и продолжить. Бывали такие черные дни, когда ни единой стоящей мысли не приходило в голову, ни одного живого образа. Поле было пустынно и голо, как весенняя пашня, и приходилось долгие скучные часы просиживать за столом в унынии, водя бессмысленным пером по бессмысленной бумаге, рисуя листочки, веточки, закорючки, петли…
Внезапно наступило светлое утро, словно незримая рука повернула выключатель. Солнце, как и накануне, хлестало в окно. Все еще не остыв, полный азартной дрожи, откинулся Родионов на спинку стула, сладко потянулся, захрустев затекшими позвонками. Можно было и еще продолжать, еще оставались кое-какие мелочи, но главное было выстроено – все части его повести наконец-то соединились в единое целое. И, самое главное, – явлен был ему прекрасный чудный образ, образ женщины, выписанный пока еще с пошловатой вычурностью, как «девушка в белом сияющем платье со счастливыми насмешливыми глазами» – литературная банальность, но образ уже для него внутренне цельный и живой.
Что-то снова творилось в коридоре, оттуда доносились крики и ругань. Павел вышел на шум. Оказывается, ночью, пользуясь темнотой, скорняк Василий Фомич с помощью своих подельников-якутов тайно захватил комнату Рой, натащив туда браконьерских шкур. Приделан был к двери уже и висячий крепкий замок.
– Да при чем тут козел! – горячился скорняк, размахивая перед всеми куском бурой шкуры. – Это же лисопес, да будет вам известно! Отныне тут будет пушной склад. Собственность. Наше общее достояние. Теперь никто не имеет права, иначе – суд!
«Так вот какие, стало быть, призраки», – с огорчением подумал Родионов и уныло направился во двор, чтобы посидеть в тишине на вчерашней скамейке и перебороть душевную обиду. Открыл входную дверь.
На крыльце перед ним стояла девушка в белом сияющем платье и счастливыми насмешливыми глазами глядела на него.
– Ну здравствуйте, – сказала она. – Меня зовут Ольга.
Глупый дурак
Ровно через час Павел Родионов, в разорванных на колене брюках, с ладонями, содранными об асфальт, дыша часто и взволнованно, возвратился к себе. В комнате все было по-прежнему, все вещи стояли на своих местах, рыжий кот Лис мирно дремал на подушке. Только косая солнечная дорожка переместилась с дивана на пол, и Павлу на миг показалось, что именно в этом невинном смещении солнечного света кроется главная причина резкой и трагической перемены, которая произошла в его жизни.
То, что с ним произойдет нечто именно «трагическое», понял сразу, едва взглянул на странную посетительницу. Девушка усмехалась, и он покорно улыбнулся ей в ответ, хоть и почувствовал болезненный укол – предупреждение мудрого и здравого еще в ту минуту сердца.
