Традиции & Авангард. №3 (22) 2024
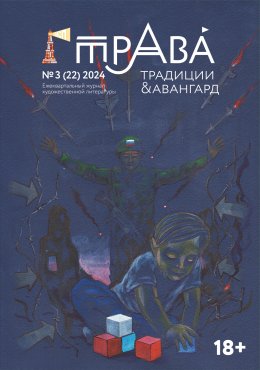
© Интернациональный Союз писателей, 2024
© Галина Березина, 2024
© Даниэль Орлов, 2024
© Арсений Ли, дизайн, 2024
© Дизайн-бюро «Револьверарт», 2024
От редактора
Идеология или, если хотите, национальные идеи не берутся с потолка. Они годами, иногда десятилетиями вызревают в обществе. В любой момент времени они уже там находятся. Важно разглядеть на стадии, когда коллективное бессознательное ещё не придало идее слишком округлую форму. Основание для общественного развития должно иметь грани и углы, иметь скрытое и явное. Однако так же важно правильно сформулировать существующее, как опасно пытаться индоктринировать в сознание народа чужое, чем не только враги балуются, но и всякая интеллектуальная шпана из модных телеграм-каналов. Это, кстати, возможно, но для народа, который становится носителем такой идеи, непродуктивно. Подобный механизм схож с механизмом работы вируса. И да, этот идейный вирус будет мутировать, а общество, если сразу не помрёт, растеряв все атрибуты государства, рано или поздно к нему приспособится, возникнет толерантность. Идея или доктрина станут вызывать смех. Так уже было. Потому надо очень внимательно присматриваться к тому, что народ считает справедливым, а что – нет. Это те тропиночки, которые прямиком ведут туда, где эта национальная идея произрастает, в самую глубину.
По сути, литература чем-то таким и должна заниматься, а развлекать читателя станет искусственный интеллект. У него это уже задорно получается.
Ну а Слово – основа сотворения вселенной прямо сейчас. Слово первично, мыслеслово впереди всякого изменения что в нашем личном, ничтожном, что в огромном, общем. Сколько бы ни лезло в уши заклинательное повторение: «новые территории», «присоединённые территории», это делу не поможет. Что за пошлятина времён Первой мировой? С таким заходом нас не ждёт ничего, кроме позорного мира. Народное ухо чуткое. Народ же замечает все эти недостойные великой истории эвфемизмы. Не, ребята в дорогих костюмах, это освобождённые земли. И конечно же, это русская освободительная Война. А у такой Войны мир – только после Победы, а не после «достижения целей». Нам нужна Победа. Победа должна быть убедительной и однозначной, такой, чтобы не приходилось объяснять, что «это мы на самом деле победили, а не то, что вы все там у себя электорально думаете». Слова. Начинайте говорить правильные слова. Не бойтесь. Бояться уже поздно, раньше надо было.
Наши авторы здесь и сейчас пишут правильные слова. Это честные слова. Литератор лишь тогда чего-то стоит, когда отказывается от лжи самому себе. Мало владеть мастерством, мало иметь талант, нужна ещё ответственность и отвага её на себя брать. В отчаянные времена русская литература или выберется из кризиса и засияет, или окончательно перестанет существовать как значимая часть культуры. Я оптимист. А вы?
Практически всегда ваш Даниэль Орлов, главный редактор журнала «Традиции & Авангард»
Проза, поэзия
Алексей Ахматов
Алексей Дмитриевич – заместитель председателя поэтической секции Санкт-Петербургской писательской организации Союза писателей России, член СПР с 1994 года, руководитель общества «Молодой Петербург», главный редактор одноимённого ежегодника и куратор премии «Молодой Петербург».
Лауреат премий: им. Бориса Корнилова в номинации «На встречу дня» (2010); журнала «Зинзивер» (2014 и 2015); им. Н.В. Гоголя в номинации «Портрет» (2016); Международного конкурса лирико-патриотической поэзии им. Игоря Григорьева «На всех одна земная ось» (2017); «Русский Гофман» (2018).
Переводился на сербский, болгарский, немецкий и английский языки.
Автор нескольких поэтических сборников, книг критики, публицистики и прозы.
«А ты возьми и сделай утро добрым!»
Стихи
«Пусть хмурая в окне архитектура…»
- Пусть хмурая в окне архитектура,
- Глаза не открываются без рези,
- Пусть ночь стоит, которая под утро
- Длинней, чем товарняк на переезде,
- А ты возьми и сделай утро добрым!
- Трюк непростой, но ты попробуй всё же
- И не сочти призыв мой агитпропом,
- Ведь это можно сделать даже лёжа.
- Ты утро запусти, почти не целясь,
- Роскошной авиамоделью в небо.
- То будет лишь твоя теодицея,
- Тобой самим содеянная треба.
«К Пятидесятнице вышла природа из комы…»
…Внезапно сделался шум с неба…
И исполнились все Духа Святаго,
и начали говорить на иных языках…
Деян. 2:1–18
- К Пятидесятнице вышла природа из комы,
- Кажется мне, в поднебесную глядя финифть:
- «На языке насекомых знакомых
- Скоро начну говорить».
- Тощая муха, танцуя оконную польку,
- Бьётся башки башмаком о стекло всё быстрей
- С форточкой рядом открытой, поскольку
- Лёгких не ищет путей.
- Первая бабочка воздух апрельский листает,
- Дятел стучит, словно сердце вживили в сосну.
- Грузный сугроб под хвоёю не тает,
- Всласть ковыряя в носу.
- Юная травка гарцует вдоль грязных кюветов.
- Веточке каждой и даже засохшим сучкам
- Солнышко шлёт телеграммы с приветом:
- «Срочно ожить! Тчк».
- Плотники пилят и рубят на всё Комарово,
- Крепят победу сознания над бытием.
- Храм в честь сошествия Духа Святого
- Скоро достроят совсем.
«Человек заходит в лодку…»
- Человек заходит в лодку
- Со снастями по утрам,
- Взяв с собой червей щепотку,
- Хлеб и фигу докторам.
- Он садится на скамейку
- К солнцу сгорбленной спиной,
- По воде узкоколейку
- Пролагая за кормой.
- Он в туманной дымке тает,
- Еле видимый уже.
- Вёсла, взад-вперёд летая,
- Образуют букву Ж.
- С удочкою без заботы
- Он часами напролёт
- Глубины своей высоты,
- Как спортсмен с шестом, берёт.
- Слушает он рыбьи речи,
- Пересуды судака,
- А когда заварит вечер
- В озере, как чай, закат,
- Снова сядет он за вёсла
- К солнцу сгорбленной спиной
- И вернётся словно после
- Терапии лучевой.
«Отчалил катер, что доставил нас…»
А. К.
- Отчалил катер, что доставил нас
- На каменистый остров в поздний час.
- И мы раздули костерок вполсилы,
- Поставили палатку на бегу
- В полночной тьме почти на берегу
- И спальники на ощупь расстелили.
- Потом пошли удить, но на червя
- Клевали только звёзды, нос кривя.
- А на безрыбье и тушёнка рыба,
- Разлили чай с хвоёй и комаром,
- Потом был ром, проблемы с фонарём,
- И связь была нелучшего пошиба.
- Во сне дыханья твоего прибой
- Настолько с набегающей волной
- Стал схож своею мерностью спокойной,
- Что показалось, разбуди тебя —
- И швейная машинка сентября,
- Справляющаяся с шитьём и кройкой
- Воды с камнями, ветерка с костром
- И звёздного брезента с кромкой крон,
- Заглохнув, не создаст назавтра утра.
- Мне целый мир такого не простит.
- Что ж, с лёгкостью возьму у сна кредит
- На время добровольного дежурства.
- А утро, что прельстит любых сильфид,
- Уж на сосновых плечиках висит,
- В палатку солнце светит бутоньеркой.
- И бронзовки вплетаются в шитьё.
- Стесняться нечего, оно твоё —
- Надень, я отвернусь перед примеркой.
«В лес погружаюсь, как в покой…»
- В лес погружаюсь, как в покой,
- С корзинкою ещё неполной,
- Меж прутьев вставлен нож тупой —
- Грибам не больно.
- С утра их дождики клюют,
- Но им не занимать терпенья,
- Они на влажную тулью
- Цепляют листья, словно перья.
- Бреду по мху сквозь деревца,
- Пустяк, что замочил ботинки.
- И между делом без конца
- С лица снимаю паутинки.
- Вокруг такая тишина,
- А мне уже того довольно,
- Что лес не злится на меня:
- Грибам не больно.
Поезд «Арктика»
- Семечками в скорлупе
- Под колёсное стаккато
- В жёлтых капсулах купе
- Люди движутся куда-то.
- Рыжий лес дожди секут,
- Темь сгущается снаружи,
- А внутри царит уют
- И дымятся с чаем кружки.
- За окном гудит простор,
- Дали от ветров простыли,
- А в вагонах разговор
- И расстелены простынки.
- Там ковры холодных мхов,
- Здесь же мхи ковров напольных.
- Между этих двух миров
- Мысли сладко-беспокойны.
- Как дорога ни длинна,
- Но к утру замрут вагоны,
- Рассыпая семена
- На озябшие перроны.
«Деревья поздней осенью без листьев…»
- Деревья поздней осенью без листьев,
- Почти как люди без одежды в бане,
- Уравнены в правах: кто здесь министр,
- А кто лишь состоит в его охране.
- Нет разницы, кто выше был, кто круче.
- Страдает сколиозом тощий ясень,
- Залечивает клён увечья сучьев,
- И варикоз ветвей однообразен.
- Здесь каждый дуб с рябиною повязан,
- Чубушник за уши притянут к месту,
- Ольха взята с поличным, вяз наказан,
- Орешник подвергается аресту.
- Но кем-то им дарована надежда,
- Что торжествуют высшие законы,
- Что возвратят весною их одежды
- И певчих птиц добавят на погоны.
«Где воды струил Оккервиль…»
Природа любит прятаться.
Гераклит
- Где воды струил Оккервиль,
- Где крысы паслись водяные
- И селезень ил теребил —
- Там лёд и безмолвие ныне.
- Природа под вечер темнит,
- Скрывает, похоже, чего-то.
- И день, как на снимке, зернист —
- Почти чёрно-белое фото.
- Трещит на берёзах кора,
- Крепчает мороз, и сослепу
- Звёзд малосолёных икра
- Не мажется ровно по небу.
- Столпились над чахлой рекой
- Громады девятиэтажек.
- Зачем это всё нам с тобой,
- Кто скажет?
«Сморозить тоже можно складно…»
Вот так же отцветём и мы
И отшумим, как гости сада…
Коль нет цветов среди зимы,
Так и грустить о них не надо.
Сергей Есенин
- Сморозить тоже можно складно:
- «Коль нет цветов среди зимы,
- То и грустить о них не надо»,
- Но ведь на самом деле мы
- Грустим как раз о том, что было,
- А вовсе не о том, что есть.
- Гляди: в окне с нездешней силой
- Вдруг иней начинает цвесть.
- И если так стекло замёрзло,
- Явив на радужке стекла
- Всё, что нам видится как роза,
- Как перья птичьего крыла,
- Как аметисты Монтесумы…
- Тут вариантов до фига,
- Короче, что живописует
- Вода, иное агрега
- тное меняя состоянье
- И подменяя мир собой,
- Но только красочней, то я не
- Дам и гроша за вид другой.
- Коль по цветам зимой прикажет
- Нам классик не грустить – пусть так,
- Ведь заоконные пейзажи
- В сравнении с окном – пустяк!
«На острове Елагиным…»
- На острове Елагиным
- В ночи не тишь да гладь —
- Метёт над бедолагами,
- Рискнувшими гулять.
- Как будто в чёрной комнате
- Сокрытый кот в мешке,
- Метель в садовом комплексе
- От света вдалеке.
- В упор почти невидима,
- Но есть такой эффект —
- Там, где фонарь, как мидия,
- Меж створок держит свет,
- Как сквозь ячейки в сеточке,
- Найдя во тьме проём,
- Снег сеется сквозь веточки,
- Подсвечен фонарём.
- А у прудов чернеющих
- Снежок опять в мешок,
- Незрим в полёте бреющем,
- Едва касаясь щёк.
- И люди так проходят путь,
- Ведь их как будто нет,
- Пока над ними кто-нибудь
- Не включит горний свет.
«Снега так много, что лапы у елей по швам…»
- Снега так много, что лапы у елей по швам,
- Много настолько, что вровень с садовой скамейкой.
- Он придаёт на дворе позабытым вещам
- Лоск и объём, каждый столбик стоит в тюбетейке.
- Каждый росток в нарукавник торжественно вдет,
- Каждый невзрачный малюсенький куст криворукий.
- Снежная взвесь, затмевая собой белый свет,
- Перестилает пространство четвёртые сутки.
- Так заметает, что медленно на провода
- Сосны усталые локти кладут вдоль забора.
- Знает ли кто, как стихи из снежинок и льда,
- Стыд потеряв, вырастают здесь, словно из сора?
- Это не манна небесная, просто пурга.
- Не различить в этой вкусной рассыпчатой каше,
- Как окунается в снежные ванны ирга
- И не справляются клёны с небесной поклажей.
- Нет ни души, как однажды заметил поэт:
- Будто на свете одни сторожа и собаки…
- Впрочем, в округе ни тех, ни других тоже нет,
- Вечно не к месту фантомные эти цитатки.
- Вот и калитку совсем завалило уже.
- Надо отрыть, чтоб открыть, а тебе и не надо.
- В доме печурка гудит, как в глухом блиндаже.
- Есть на неделю крупа да консервы – и ладно!
- Если случится, что за ночь колодец замёрз,
- Это не горе, в кастрюльке растопишь снежок, но
- Главное – только чернил чтоб хватило и слёз,
- Всё остальное купить или выменять можно.
«Снег кружится и вьётся…»
- Снег кружится и вьётся,
- Планирует, метёт,
- Вокруг меня пасётся
- И горизонт жуёт.
- Громада снегопада
- Слизала все углы,
- Я словно в центре стада —
- Весь в матовой пыли.
- Но присмотреться если
- К мельканию кругом —
- Безмолвно пишет песни
- Снег пухом и пером.
- Заверченную фразу
- Почище, чем Хафиз,
- Плетёт арабской вязью,
- Но только сверху вниз.
- А я, тех слов читатель,
- Ловлю их впопыхах,
- Лишь приводя цитаты
- Неточные в стихах.
Елена Сафронова
Елена Валентиновна родилась 2 мая 1973 года в Ростове-на-Дону, сейчас живёт в Рязани. Прозаик, литературный критик-публицист. Постоянный автор «толстых» литературных журналов: «Знамя», «Октябрь», «Урал», «Вопросы литературы» и др.
Лауреат ряда литературных премий в критических и прозаических номинациях. Автор романов «Жители ноосферы», «Ультра-Бареткин», книг рассказов «Портвейн меланхоличной художницы», «Тяжкий путь избранных», сборников критических статей «Все жанры, кроме скучного», «Диагноз: Поэт», «Улица с фонарями». Член межрегиональной общественной организации писателей «Русский ПЕН-центр», Союза писателей Москвы, Союза российских писателей, Союза журналистов России.
Парадигма Лёши Лещёва.
Рассказ-фельетон
Мужская рука с траурной каёмочкой под ногтями лениво потянулась к системному блоку. Грязноватый палец нажал на кнопку включения.
Минутой позже, когда экран засветился, та же рука вяло кликнула мышкой по иконке электронной почты. Развернулся виртуальный почтовый ящик.
Мужчина скользнул по нему равнодушным, мутным взглядом – и инертность его как рукой сняло! Он привык встречать в своей электронной почте обидную пустоту. Она дразнила хозяина почти ежедневно на протяжении вот уже двух лет. Даже спам сюда не падал. Редко являлись письма, да и те были неприятные. И вот – новое письмо!..
Рука, сжимающая мышку, задрожала. Вторая ходящая ходуном рука рывком подняла валяющийся возле компьютера запылённый стул на колёсиках. Человек плюхнулся на стул и приник к монитору, как умирающий от жажды приникает губами к воде.
Глаза его не обманули. В почте действительно красовалось письмо. Этого письма владелец ящика и ждал, и боялся, но всё-таки больше жаждал.
«Редакция журнала “Прапорец”», – гласил электронный адрес. «На: Алексей Лещёв, “Крещенские рассказы”, версия пятая, переработанная и дополненная».
Смиряя дрожь в пальцах, мужчина кликнул по письму.
Спустя несколько секунд утробный вой и сдавленные ругательства огласили тесную захламлённую комнату. Рука с чёрными ногтями сжалась в кулак. Кулак обрушился на клавиатуру. Клавиатура подпрыгнула и опустилась, но письмо с экрана не пропало.
«Уважаемый Алексей Дормидонтович! – было сказано в нём. – Редакция журнала “Прапорец” в третий раз сообщает Вам, что Ваша повесть “Крещенские рассказы”, которую Вы почему-то называете полной версией, хотя она до мелочей соответствует двум ранее присланным Вами версиям, редколлегией отклонена.
Что же до литературного метода “реального крестьянизма”, основоположником которого Вы себя считаете, о чём в вызывающей форме постоянно напоминаете редакции, по его поводу должны Вам сообщить следующее. Данный литературный метод был личным измышлением критика Рукопашинского, сформулировавшего программные черты оного в статье “Русская деревня в современной прозе: реальность или ирреальность”, опубликованной за три месяца до смерти автора, последовавшей от злоупотребления алкоголем. После безвременной кончины Рукопашинского российское литературоведение, детально рассмотрев постулаты статьи, пришло к выводу, что оснований отделять “реальный крестьянизм” в особый жанр от хорошо известного и изученного жанра деревенской прозы не имеется. Следовательно, и полагать Вас основоположником несуществующего литературного жанра – тоже. В связи с этим редакция не видит причин предоставлять Вам как автору довольно заурядных сельских зарисовок какие-либо преференции по части публикаций.
Примите и проч., секретарь редакции журнала “Прапорец” Высоколобов».
Указанный Алексей Дормидонтович Лещёв от досады не выключил компьютер как положено, а вырвал его вилку из розетки и хорошенько пнул в бок системный блок. В комнате железно загудело. Лещёв бросился плашмя на диван, застеленный серыми простынями, и, кипя от горечи, стал вспоминать, как хорошо всё начиналось, какие дерзкие авансы сулила ему коварная русская литература…
Писателем Лёша Лещёв стал в семнадцать лет – и навеки.
Лёша жил скучной, размеренной жизнью мальчика из приличной семьи, пока не достиг сразу двух важных вех в жизни: семнадцатилетия и Крещения. День рождения Лёши совпадал с двунадесятым праздником, но шестнадцать лет подряд праздновать можно было только Лёшин день.
К семнадцатому дню рождения Лёши демонстрировать собственную религиозность стало не только можно, но и нужно. И дедушка Лёши Кащей решил отпраздновать рубежный возраст парня так, чтобы он по гроб жизни не забыл этот день.
Дедушка Кащей так и сказал:
– Устрою тебе, золоторотцу, праздник – по гроб жизни его не забудешь!.. Как и меня! А забудешь – прокляну! Из могилы!..
Дед решил показать внуку крещенские гулянья в деревне Нахреновке Голохреновского района Хренодёрской области. Из деревни Нахреновки дед Кащей Лещёв был родом. Здесь сохранилось родовое гнездо Лещёвых – старинная изба-пятистенка, поддерживаемая в непадающем состоянии родной сестрой деда, бобылкой после гибели мужа в Потьме, Иегудиной Толстолобиковой.
В областном центре Хренодёре жил дедов сын Дормидонт с семьёй, к которой принадлежал и Лёша. Тот был старшим ребёнком в семье с тремя чадами. Но дед Кащей из троих внуков выделял почему-то Лёшу. Любил его и наставлял на путь истинный, в том числе и костылём по макушке.
В Нахреновку на Крещение Лёша был снаряжён с помощью того же костыля и какой-то (неродной) матери. Ибо ответил деду на его настоятельное предложение, что Бога нет, значит, и Крещения не было, и отмечать нечего, а собственный праздник он лучше сам себе устроит с чуваками на хате у Банана.
Люди порой слепо сопротивляются воле судьбы. Старик обматерил на три круга Банана и всех приятелей внука, хату, день рождения, «шибко грамотных» преподавателей школы и лекторов общества «Знание» и силком запихнул Лёшу в электричку до Нахреновки. След от костыля на макушке быстро зарубцевался: на молодом организме заживает как на собаке.
В деревне Нахреновке Лёше неожиданно понравилось всё! Но больше всего – крещенские купания в речке Хренотечке.
– Нет, пойдёшь! Побежишь! – заявил суровый старец, нащупывая костыль возле табуретки, в ответ на юношеское нытьё про минус двадцать на улице. К счастью, речка Хренотечка струила мутные воды прямо за тёткиным огородом. Это летом. Зимой она стояла белым морозильником. Посреди морозильника была проломана прорубь с неправильными краями, и её окружали весёлые, разгорячённые сельчане. Прорубь не имела формы креста да и вообще никакой формы, и молитвы над нею не звучали, и окунание в купель сводилось к падению раскормленных тел с разбегу в полынью с похабным визгом. Туда и Лёшу запихнули – опять же, костылём. Побарахтавшись в ледяной воде и внезапно ощутив, что ему становится с каждой секундой теплее и приятнее, Лёша ощутил невероятный душевный подъём и чувство, что ему хочется петь – вот только слов песни он ещё не знал!
После крещенской проруби Лёша спал как убитый. А утро продолжило приятные сюрпризы. В новый день ему тоже всё понравилось.
И батюшка Варсонофий, в обычные дни председатель колхоза Федул Иваныч, ходивший по домам с крещенской службой с наперсным крестом поверх пиджака. И ритуал самой службы – батюшка в каждой избе с порога вопрошал: «Ну что, рабы Божие, занюханные, крещаемся или как?» – и взмахивал призывно рукой, будто неся в рот невидимый сосуд. Батюшку-председателя в тот же миг вели под руки к столу, а на столе чего только не было!.. Не было колбасы, даже варёной, не говоря уж о копчёной, не было мандаринов, непременных атрибутов городского Нового года, не было красной икры и копчёной благородной рыбы, не было селёдки под шубой и салатов под майонезом, так как не бывало отродясь в сельпо майонеза… Но вот картоха, варёная или жареная, громоздилась грудами в глиняных прадедовских мисках, солёные огурцы, помидоры и даже редкие в этих широтах, тоже дефицитные, солёные грибы дурманяще пахли, сало разваливалось по деревянным доскам розово-белыми ломтями, как диковинные цветы, а жареная курица занимала почётное место в центре каждого стола – рядом с четвертной бутылью мутного самогона, подлинного царя застолья. А в доме секретаря сельсовета вместо курицы на столе красовался жареный гусь, а приправой к нему шёл венгерский зелёный горошек «Глобус» в хрустальной вазочке – предмет жгучей зависти сельчан.
Батюшку Варсонофия провожали к столу, и он широким жестом благословлял выставленное изобилие, произнося утробным басом: «Чтоб в доме водилось!..» – а расторопный хозяин либо смекалистая хозяйка в этот момент старались уместить главное – наливание батюшке полного стакана самогонки и подношение гостю. При виде священного сосуда глаза у батюшки теплели, он бережно принимал его в огромную рабочую лапу и, поднося к губам, ещё более утробно ворковал: «Дай Бог не последнюю!» – и осушал единым махом. После чего садился на стул либо скамью с чувством выполненного долга. Ему торопливо подставляли тарелку с угощением, и батюшка соизволял откушать первый кусок. Это служило сигналом для хозяев и прочих гостей – все принимались выпивать за Крещение и обильно закусывать. А когда батюшка поднимался из-за стола, дабы нести святые слова другим членам своей паствы, среди гостей происходила рокировка. Кто-то, отяжелевший, оставался за столом, а кто-то срывался следом за Варсонофием. А тот, сколько бы ни принимал на грудь святости, не прерывал вояжа и сил не терял!.. Видно, и вправду был праведник!
Лёша с дедушкой присоединились к процессии, когда святой человек достиг хаты Иегудины и на славу угостился её свекольным перваком. Влились они в свиту председателя вовремя: до, а не после посещения справного дома секретаря сельсовета. Лёша «причастился» жареным гусем и вдоволь налюбовался им, румяным, жирным даже на вид, возлежащим с гордым видом на блюде среди мелких на его фоне тарелочек домашних солений. К столу в этих хоромах батюшку пришлось подводить под руки не фигурально, в знак уважения, а буквально: и ноги, и язык у него уже заплетались от крещенских гуляний, и пил он как-то вяло, и жевал без энтузиазма. Молодой зубастый Лёша сожрал гусиную ножку и попросил добавки, пока батюшка Варсонофий заедал стакан самогона зелёным горошком и собирал себя в кучку – двигаться дальше.
Дед Кащей остался в гостеприимном доме секретаря обсуждать «новое мышление», а Лёша сопроводил председателя на прочие службы, довольно скоро завершившиеся в коровнике. Коровник стоял на пути из деревни на выселки – хутор Хренов на Хреновом бугре. Святой человек, завидев его приоткрытые двери, целеустремлённо направился внутрь. Устроившиеся в углу стоя скотник и доярка теснее сплели объятия, когда самый важный человек в колхозе ввалился в их владения, думая, что пришла им кара за любодеяние на рабочем месте. Но председатель мазнул по обоим мутным, как самогон, взглядом, ещё более тупым взглядом удостоил жалобно мычащих коров и, с размаху бросившись в навозную кучу, сонно засопел – сперва грозно, потом просто громко. Немногочисленная к тому времени свита Варсонофия, оставив владыку почивать в навозе, рассосалась по домам. Лёшу убедили, что батюшке себе дешевле дать выспаться, пусть и в дерьме, и парень вернулся в хату тётки Иегудины, переполненный впечатлениями и сытной крещенской едой.
Ночью он проснулся от смутного зуда внутри. Прислушался к себе и по крещенскому морозу прогулялся до кривого сортира в углу огорода. Улёгся и попробовал заснуть. Однако зуд лишь разгорался по мере того, как Лёша ворочался с боку на бок и считал воображаемых слонов.
Ещё два раза пришлось Лёше вставать и бегать на двор. Когда выжимать из себя стало решительно нечего, он стал подозревать, что дело не в крещенском застолье. Зуд был каким-то странным томлением, ранее незнакомым Лёше, и потому парень не догонял, как от него избавиться.
Лёша сел на кровати и зачесал репу. Внезапно его ногти как будто соскоблили пелену с мозга, и в глуби сознанья родилась фраза: «Гусь возлежал на блюде, огромный, как гаубица». Тут же Лёшу отпустило, и он освобождённо провалился в сон. В сладостный сон человека, осознавшего себя писателем.
Записывать впечатления Лёша начал прямо поутру, в доме тётки Иегудины, найдя у неё в сенях старую амбарную книгу.
Свод первых мемуаров в своей жизни Лёша озаглавил не мудрствуя: «Крещенские рассказы». В хронику вошли истории: «Дед», «Автобус», «Глухомань», «Деревня на горизонте», «Под кривой крышей», «Тётя Гудя», «Здравствуйте вам!», «Нахреновцы», «Толик», «Васька», «Михал Михалыч», «Семья Ботинкиных», «Маша и её медведь», «Церковь без креста», «Завтра праздник», «Ждём службы», «Полынья», «Лёд», «Яйца морозит», «Выскочив из проруби», «Спал как убитый», «Варсонофий», «Крещенская служба», «Вот как, значит», «Лобастый», «Жареная картоха», «Вкусно», «Процессия», «Богатый дом», «Гусь», «В чистое поле», «Коровник», «Сон не идёт». Лёша и рад был бы продолжать тему, да почему-то вдохновение иссякло на описании бессонницы. Должно быть, оно только в бессонницу приходит.
Дома Лёша переписал «Крещенские рассказы» в общую тетрадь. Крупным Лёшиным почерком рукопись заняла все сорок восемь листов. Ну, может быть, половину. Или четверть.
Лёше предстояло сделать выбор: продолжать муки творчества, высасывая из пальца мысли и симулируя неизведанные впечатления, или заняться популяризацией своего детища?
Лёша выбрал второе. Красиво переписал рассказы в пять тетрадок и разослал в редакции самых модных тогда журналов: «Смена», «Огонёк», «Юность», «Крестьянка» – и – не без задней мысли – в «Сельскую молодёжь». Им-то должно быть интересно про деревню!.. Слово «конъюнктура» Лёша узнал много позже.
В ожидании публикаций в журналах Лёша времени даром не тратил. Шестую тетрадку он понёс в литобъединение «ЛиХр» («Литература Хренодёра»), занимающееся от Хренодёрского отделения Союза писателей СССР в комнатёнке в редакции хренодёрской «молодёжки».
Три немолодых мужика, на чьих лицах и одёжках были написаны все тяготы жизни талантливого человека в советской глубинке, сидели за столом, сблизив головы, и, склонившись, шептались, как заговорщики. Триединую спину увидел дерзкий отрок Лёша Лещёв, переступив порог святая святых. Он с пренебрежением отнёсся к стуку в дверь и вопросу «Можно?».
– Здравствуйте! – бодро поздоровался Лёша. Спины вздрогнули и выпрямились. В прогале между ними Лёше привиделся силуэт водочной бутылки, но пропал с нездешней быстротой. В следующее мгновение трое обернулись к Лёше помятыми, но просветлёнными лицами и спросили: «Вы кто?», «Какого рожна?..», «Что вам угодно?» Последний вопрос задал старичок в очочках.
Лёша объяснил, что написал прозу и хочет издать её отдельной книгой.
– Отдельной! – с тоской вырвалось из груди мужика в спортивной куртке. – Эк куда хватил!..
– Почему же нет? – удивился Лёша и находчиво добавил: – Молодым везде у нас дорога!
Последовавшая за цитатой из Лебедева-Кумача дискуссия не разубедила Лёшу в справедливости советского лозунга, но обострила его отношения с троицей. Это было, конечно, зря, ибо в очочках оказался председателем «ЛиХра», в спортивной куртке – ответственным за работу в ЛИТО с молодёжью, а третий, без особых примет, – редактором хренодёрского филиала издательства «Столичный крестьянин». Это издательство с центром в Москве выпускало книги талантов с периферии по строгой разнарядке: от каждой области одно имя раз в десять лет. Лёшу из этой разнарядки сразу вычеркнули на тридцать лет вперёд.
С Лёшей троица поступила иезуитски: попросила оставить тетрадку с «Крещенскими рассказами» им для рецензирования и обещала дать письменный ответ в течение месяца. Лёша поныл, тщетно пытаясь скостить срок, и завязал нетерпелку на узел.
Спустя месяц и один день Лёша круглыми от возмущения глазами читал машинописный ответ на бланке Хренодёрского отделения СП СССР:
«Рассказы десятиклассника Алексея Лещёва не представляют никакой художественной ценности. Более того, с идеологической точки зрения, они вредны советской молодёжи. Десятиклассник Лещёв не жалеет красок, чтобы живописать убожества быта советских колхозников – точнее, приписать им полную гражданскую инертность, следование убогим поповским ритуалам, извращённые формы проведения досуга и уродливый моральный облик. Ни единого слова в этом пасквиле на советскую колхозную действительность не сказано о глобальных процессах, захвативших нашу страну: о перестройке, об ускорении, о переходе на хозрасчётные методы работы, о новых горизонтах отечественного колхозного хозяйства. Зато быт и нравы колхозников обрисованы в самых чёрных тонах. Нет никакого сомнения, что “Крещенские рассказы” от первого до последнего слова являются злобным измышлением юнца, возомнившего себя писателем, не имеющего ни жизненного опыта, ни культурной базы, ни элементарной грамотности (о количестве орфографических и прочих ошибок промолчим – по сравнению с идеологическим “просчётом” Лещёва его ужасающая безграмотность кажется пустяком). Впрочем, можно ли называть сознательное очернение колхозной жизни и беззастенчивое желание обнародовать свой пасквиль всего лишь просчётом? Или за этим кроются куда более страшные процессы? Или десятиклассник Лещёв сознательно хочет лить воду на мельницу Запада, не принимающего полного обновления советского общества? Об этом красноречиво говорит требование Лещёва выпустить его измышления отдельной книгой. Или оно свидетельствует “всего лишь” о плохом воспитании молодого человека, в котором не преуспели семья и школа?
О публикации хотя бы одного “Крещенского рассказа” на страницах молодёжной газеты “Юный Хренодёр” не может быть и речи. Приём Алексея Лещёва в литобъединение “ЛиХр”, введение его в члены литактива и постановка в очередь на издание рассказов отдельной книгой тем более преждевременны.
Рекомендуем средней школе № 6 города Хренодёра, Правохреновскому райкому комсомола и родителям десятиклассника Лещёва обратить серьёзное внимание на его нравственный облик и принять меры к исправлению оного.
Рецензент Хреновский И.П., член Хренодёрского отделения СП СССР, редактор хренодёрского филиала издательства “Столичный крестьянин”».
Неделю Лёша ходил как в воду опущенный и даже от дедова костыля то забывал, а то не успевал уворачиваться. В довершение беды стали приходить отклики из «толстых» журналов. Четыре журнала сухо сообщили, что произведение отклонено редколлегией. Добродушная же «Сельская молодёжь» снисходительно написала на бланке:
«Лёша, не огорчайся, что не увидишь свои рассказы напечатанными в журнале. Главное – что ты растёшь добрым, отзывчивым человеком. Будь всегда таким!»
Это письмо Лёша с особым удовольствием употребил по прямому назначению, хоть оно было жёстким и пачкало руки типографской краской.
Валяясь на постели, не убиравшейся неделями, и глазея в потолок, Лещёв видел не трещины побелки, а свою жизнь, скудную на радости, богатую разочарованиями, – биографию истинного гения… Сейчас перед его мысленным взором заклубилась серая пелена. То было видение нескольких лет за первым разгромом «Крещенских рассказов». Они были заунывными, не окрашенными просветлениями восторженного писательства, и вспоминать их было больно – и вместе с тем приятно. Они воплощали собой пословицу «Через тернии к звёздам!».
Лёша окончил естфак педагогического института, намеренно выбрав факультет подальше от неблагодарной литературы. Он должен был бы в какой-нибудь средней школе преподавать ботанику и географию, но к тому времени советская система распределения молодых специалистов приказала долго жить, и устраивался каждый в новой жизни сообразно своим и родительским возможностям. Возможности старших Лещёвых были ограниченны, вот Лёша и прибивался куда попало: разнорабочим на стройку, электромонтёром в горэлектросеть; а затем, так как был физически крепким парнем, стал выбирать профессии нового времени: швейцар в казино, затем в оном же крупье и даже инкассатор в коммерческом банке. Всё это ему не нравилось. Лёша уже всерьёз подумывал завербоваться в армию на контрактной основе… но тут случилось невероятное.
В той же хренодёрской «молодёжке», преобразившейся в соответствии с запросами обновлённого общества в газету звёздных сплетен и местной «желтизны», он прочитал на последней странице среди частных предложений услуг, в основном интимных, набранное самым мелким петитом объявление. Министерство культуры объявляло всероссийский слёт молодых авторов «Будущие писатели страны». Начинающим писателям финансировали пребывание на слёте, включая и дорогу туда-обратно. Ниже сообщался адрес, куда необходимо было прислать рукописи. Он был по старинке почтовым, с индексом, а не электронным, и Лёша, выросший в семье с крепкими традициями, оценил это положительно.
Ему захотелось попытать счастья на слёте. Ведь он до сих пор не изжил из себя мучительно-радостного зуда желания творить. Не раз прямо в рабочее время Лёша испытывал жгучий позыв записать происходящее: на стройке, на трансформаторной подстанции, в казино, в инкассаторском броневичке. Но он душил в себе прекрасные порывы: копёр и фонарные столбы казались малоинтересными для большой прозы. Интриговали банк и броневик, но Лёша не знал, как на записки посмотрит начальство. Казино было совсем интересным. Но, увидев как-то раз его владельца в малиновом смокинге при охвостье бодигардов с недвусмысленно оттопыренными полами бордовых пиджаков, Лёша спинным мозгом почуял: их шаржировать нельзя. Хоть руки и чешутся.
Писатель в Лёше не умер, но лежал в анабиозе. Вместо наркоза ему послужили грубые отказы в признании таланта и популяризации «Крещенских рассказов». Халявный писательский слёт манил и соблазнял Лёшу рискнуть ещё раз. Ему и хотелось, и кололось… Как бы не украли у него «Крещенские рассказы», как бы не издал их кто-то под своим именем!..
Победило позитивное мышление. Лёша послал «Крещенские рассказы» по указанному адресу. Но негативное мышление тоже было услышано. Лёша принял меры предосторожности против плагиаторов: не стал перепечатывать оригинал, а переписал его в новую тетрадку. Почерк у него с десятого класса лучше не стал, и рукопись походила на вавилонскую клинопись. Лёша счёл это достаточным, чтобы рассказы не украли. Потом выяснилось: он сделал всё, чтобы его прозу не прочли, замучившись разбирать каракули. Но состоящий в оргкомитете слёта пожилой критик Рукопашинский, несмотря на Лёшино сопротивление, всё-таки прочитал его труд – и пришёл в эйфорию.
В Хренодёр полетело восхищённое письмо с приглашением на слёт. И Лёша, получив его, отложил заботы трудоустройства до лучших времён и направился на встречу со своим будущим.
Дни слёта пронеслись перед ним пёстрой лентой московских улиц, торжественных залов, амфитеатров скамеек, густо усаженных зрителями, медийных лиц и лавровых венков. Позже, пытаясь вспомнить подробности, Лёша так и обречён был видеть яркую круговерть. Незабываемым оказалось одно: Лёше Лещёву на упрямый лоб надели лавровый венок. «Крещенские рассказы» назвали литературным открытием слёта. Впоследствии перекрестили в «литературное открытие года». А самого Лёшу с подачи Рукопашинского признали не просто способным литератором, а Писателем с большой буквы.
– «Крещенские рассказы» – это глас маленького человечка, на самом деле являющегося Большим Человечищем! – возгласил на закрытии слёта Рукопашинский. Критик и его креатура впервые увидели друг друга на слёте, но сблизились и сдружились за считаные часы.
Вслед за Рукопашинским и главный инициатор слёта, писатель с именем из детской хрестоматии, которого маленький Лёша с упоением читал, одобрил новое имя в прозе. Они с мэтром стояли рядом на трибуне, и тот жал раскрасневшемуся и потному от волнения Лёше руку.
Не отставали от главного слётовца и остальные организаторы. На Лёшины рассказы лился тугой поток елея и мирры. Кое-кто обращал внимание почтеннейшей публики, что дата в тетрадке стоит семилетней давности. Лёша её скопировал не без умысла: думал в случае упрёков отговориться детским возрастом и юным баловством пера, ничего, мол, серьёзного. Но ретро-датировка сыграла обратную роль. «Такие прекрасные рассказы написал, в сущности, мальчик!» – рефреном звучало вокруг автора.
Критик Рукопашинский забыл всю свою осторожность и с той же трибуны, где держал речь в честь закрытия слёта, провозгласил Лёшу первооткрывателем и образцовым представителем нового, революционного направления современной прозы – «реального крестьянизма». Реальный крестьянизм, вещал критик, отличает от деревенской прозы то, что в фокусе внимания прозаика оказываются не только крестьянский труд, крестьянская мудрость, крестьянское добросердечие и прочие пароксизмы идеализма, но и подлинный крестьянский быт и нравы, неприукрашенные крестьянские мысли, непритязательный крестьянский досуг, а также не искажённые приличиями оценки увиденного писателем. Концептуально выражаясь, в данной идейно-художественной парадигме объективация данного конкретного автора как выразителя эстетической категории, унаследованной пост индустриальным обществом от… Тут все уснули, даже Лёша на стульчике на авансцене.
Когда Лёша проснулся, по актовому залу университета – он принял слёт в заключительный день – рыскали ассистенты и побуждали будущих писателей побыстрее пересесть в автобус. Помещение амфитеатром нужно для другого публичного мероприятия, его участники копытами бьют за правыми дверями. Поэтому будущим писателям надо организованно и тихо выйти через левые.
Лёша вышел через правые двери. Он был готов сразиться с кем угодно. Но сражаться не пришлось. В университетском коридоре цивилизованно ждала, пока запустят в зал, толпа улыбчивых типов азиатского вида. При них колготилась дама с цепким взглядом сопровождающего в штатском.
– Вы что?! – взъярилась она на Лёшу. – Вы куда лезете?! Это делегация японских учёных, вы задерживаете начало научной конференции!..
– Отлично! – заявил Лёша. – А я – великий русский писатель. Айм э грейт рашн врайтер! – доходчиво объяснил он японцам и заулыбался.
Его улыбка тут же отразилась в сорока широких синтетических японских улыбках. Самураи расчехлили диковинные «поляроиды» и полезли щёлкаться с великим русским писателем. Лёша с изумлением следил, как аппараты выплёвывают готовые фотокарточки. Одну из них подарили Лёше. На ней японские учёные облепили долговязого Лещёва, как обезьянки – подъёмный кран. Позднее, во дни сомнений, во дни тягостных раздумий, Лёша рассматривал успевший поблекнуть, но не потерявший магической притягательности квадратик фотобумаги и вновь преисполнялся веры в себя.
«Крещенские рассказы» пришлось-таки набирать на компьютере: ими заинтересовался журнал «Священная хоругвь», в котором работал Рукопашинский, первооткрыватель «реального крестьянизма». Но текст потребовали в печатном виде. Лёша сначала одолжил было у пожилой знакомой пишущую машинку, но, пока он корячился, не попадая по её клавишам крепкими, но неумелыми пальцами, его осенило: экземпляр получится всего один, а что, если ещё какой-то журнал попросит рассказы? А если издательство затребует? А если киностудия «Мосфильм» кино захочет снять?.. Экземпляров должно быть не менее десятка! А лучше – один, который бесконечно можно множить. Поэтому надо набрать текст на компьютере.
Они пока ещё в Хренодёре были диковинкой. Но в том самом банке, где Лёша работал инкассатором, редкая оргтехника, разумеется, водилась. И Лёша записался на приём к директору банка по личному вопросу.
– Так в чём у вас вопрос? – через две недели спросил директор, глядя не на Лёшу, а в декольте секретарши, как раз подававшей ему кофе по-турецки – со стаканом ледяной воды.
– Лавр Петрович, это Алексей Лещёв, он работал у нас инкассатором, – интимно шепнула секретарша на ушко боссу.
– И чего же вы хотите? – безразлично продолжил босс, переводя заинтересованный взгляд из декольте в кофейную чашку. – Восстановиться на работе? Это зря. Кто от нас уходит, обратно не возвращается.
– Какого рожна мне к вам возвращаться? – удивился Лёша. – Я писатель. Великий русский.
– Тогда вам в издательство, а не в банк, – резонно отреагировал кофеман.
– Знаю, – утешил Лёша. – Но в издательство надо рукопись сдавать. Точнее, печатопись. А у меня компьютера и принтера нету. Весь город знает, что эти штуки здесь только у вас есть… вон стоят… – кивнул он себе за спину. – Наберите мне «Крещенские рассказы». И распечатайте. В историю войдёте. Поспособствовали первой публикации основателя жанра «кретинский…», нет, «крестьянский…», «сельский натурализм», короче. Кретинский этот жанр потому, что я вообще к жанрам не отношусь. Это критики придумали, их дело такое – слова всякие, термины, там, сочинять. А я просто пишу хорошую прозу. Отличную просто!
Директор банка аж крякнул от такой наглости, но внезапно заулыбался и велел своей ближайшей подчинённой начать работу с Лёшиными рассказами прямо сейчас. Перенабрать и распечатать. Секретарша удалилась из кабинета с Лёшиной заветной тетрадочкой.
– Слышь, писатель, – заговорщицки сказал директор, подаваясь вперёд, – а давай баш на баш, а? Я – тебе, ты – мне. Ты скажи где надо, чтобы на первой твоей книге напечатали: издано, мол, при содействии инвестиционного банка «Как в сейфе»! А?..
– Там посмотрим, – независимо ответил Лёша, покидая обитель босса.
На следующий день он получил от секретарши пачку листов. Пачка была тощенькая, и это Лёшу неприятно поразило. Он почему-то думал, что главный труд его жизни содержит больше страниц.
Зато он идеально лёг в журнальную книжку.
«Священная хоругвь» был очень даже престижный журнал. Попавшие на его страницы авторы считались надеждой и опорой русской литературы. И Лёша не стал исключением.
О «Крещенских рассказах» стали полемизировать рецензенты. Ну, как полемизировать? Дурного мнения не высказал никто. Разногласия возникали только в поле критических интерпретаций, а равно в подведении под рассказы идейной базы. Рецензии вышли в журналах «Стяг», «Штандарт», «Орифламма» и «Трубадур». Это был воистину звёздный час Лещёва!
«“Крещенские рассказы” – проза ядрёная, как капуста деревенского засола! Сразу видно – наш, родной, отечественный продукт, а не какой-нибудь там заёмный!» – соловьём разливался ура-патриотический «Стяг».
«Обратите внимание, как искренне и горестно Лещёв описывает вырождение русского народа. Он ядовито бичует это положение вещей, оставаясь в рамках приличий, так как сострадает деревенским жителям, обманутым беспросветной российской нищетой и убожеством», – писала глядящая на Запад «Орифламма».
«Написанные на излёте “совка” “Крещенские рассказы” ставят окончательный диагноз советской идеологии – её отрицают простые сельчане, тянущиеся к варварским обрядам вместо набивших оскомину партсобраний, – и без прикрас показывают низкий уровень жизни колхозников. “Крещенские рассказы” – отличный ответ некоторой части нашего общества, мечтающей о реставрации СССР», – утверждал демократически настроенный «Штандарт».
«Искони в русском народе дремала искра Божья, и Алексей Лещёв подметил её неугасимое горение», – сюсюкал в патриархальном «Трубадуре» автор духовных стихов, никогда ранее не писавший рецензий, но не сумевший устоять перед мощью таланта Лещёва.
Все журналы с этими хвалебными словами Лёша бережно собрал в специальную коробку. Туда же отправилось письмо от Хренодёрского союза писателей, который подставился, конечно. Прочитав сперва в «Стяге» рецензию на повесть земляка, вышедшую в «Священной хоругви», а затем и сами «Крещенские рассказы», Хреновский, тот самый топитель юных котят, решил, что пора эдакую знаменитость залучать в местную организацию. В официальном письме на бланке союза Лёше предложили мгновенно, безо всяких рекомендаций принять его в местный СП и просили дать согласие (в котором не сомневались). Ну, Лёша и показал им – в официальном же письменном ответе, – кто здесь прославленный писатель, а кто – местечковые недоумки. Настала очередь членов бегать по строчкам выпученными глазами и тихонько икать от обиды. Ибо нефиг!
Однако дальше… как бы повзрослевшему Лёше Лещёву ни хотелось дальше видеть сладкие сны, но счастье неуклонно шло на убыль, как погожее лето, и сменялось ранней и затяжной осенью. Наверное, осень для Лещёва наступила, когда ушёл из жизни критик Рукопашинский – и вправду через три месяца после Лёшиного триумфа. Но Лёша осознал, что покойный был солнцем его мира, с большим, ах, слишком большим опозданием…
Побывав на похоронах наставника, Лёша искренне пролил по нему слезу, но того не знал, что вскоре придётся оплакивать собственный феномен. Идя за гробом, Лёша мысленно благодарил Рукопашинского за то, что он помог ему занять должное место в российском литпроцессе. И не ведал, что мес то это под угрозой.
Без Рукопашинского не вышло ничего. Во-первых – издать «Крещенские рассказы» вожделенной отдельной книгой. Когда «Крещенские рассказы» вышли в журнале, казалось бы, издательства должны были за них кинуться в драку. Драк Лёша ждал со спокойной уверенностью, как утро после ночи, как головную боль после похмелья. Но – удивительное дело! – литпроцесс нарушал законы миропорядка.
А ведь Рукопашинский называл издательство и человека, который займётся изданием! И познакомил Лёшу с ним. Но Рукопашинского похоронили, а его знакомого с тех пор Лёша даже в телефоне не мог услышать: тот упорно избегал контакта.
Пришлось Лёше перебирать другие варианты рождения книги.
Ещё на слёте к нему, вспомнилось, подваливала некая дама бальзаковского возраста и заводила речь о том, что их издательство ищет хороших авторов. Однако быстро выяснилось, что издательство ищет денежных авторов, способных и готовых оплатить не только свою причуду зваться писателем, но и безбедное существование небольшого сплочённого коллектива. Лёша, желавший, чтобы всё было ровно наоборот – чтобы ему приносили деньги, а он бы их пересчитывал, – показал даме реальный крестьянский шиш, и та умелась искать других простаков.
Затем вышла критическая статья, оскорбившая Лёшу. Её автор, Бронзовский, стал рассусоливать: существует ли «реальный крестьянизм» или покойный Рукопашинский погорячился? И если оное течение существует, то ведь не в одном же Лещёве выражается! Так каких ещё современных писателей можно причислить к полку «реальных крестьянистов»? Бронзовский набрал таковых с десяток и расставил, собака, их фамилии по алфавиту, отчего Лёша оказался в середине списка!
Лёша хотел было написать Бронзовскому ответ и начал вострить топор войны. От этого почтенного занятия отвлекла его поездка в Москву, на вечер журнала «Священная хоругвь» под девизом «Знакомство читающей публики с открытием года!». Ради такого девиза «открытие» даже само вложилось в билеты до столицы плацкартой.
Всё дублировалось, как дежавю, со слётом: опять взмокший от приятного возбуждения Лёша стоял на сцене, опять ему жали руку персоналии из энциклопедий, опять звучали речи, в которых «открытие года» путалось. Отличие состояло разве что в новых пижонских ботинках с острыми носами, купленных с дальним прицелом на нобелевскую лекцию. Лёша надел ботинки разносить – и проклял всё. Щегольские суженные носы немилосердно давили: сначала – на пальцы, потом и на пятки, к середине процедуры – на коленки, а в её разгаре – вроде бы уже и на сердце. Оттого Лёша выглядел рассеянным, как гению и положено.
Спас фуршет. Лёша занял козырное место во главе стола и первым делом под прикрытием скатерти содрал с себя туфли (показалось, что с кожей). Жить сразу захотелось с удвоенной силой. Вот только элегантно пройтись по залу с бокалом он теперь не мог. И сидел – кум королю – перед тарелкой, полной закусок. А все, кому было угодно побеседовать с «открытием», подходили и общались.
Среди них была и черноглазая вертлявая девица, с первого взгляда показавшаяся совсем соплячкой. Она подсела к Лёше, выставив стул из-за стола таким образом, что загородила «открытие» от толпы, и стала жеманиться и хихикать. Но в хихиканье она грамотно вплела информацию, от которой «открытие» растаяло: девица – литагент, она может помочь с изданием «Крещенских рассказов». Она знает стратегию, надо начинать с премий, и если Лёша будет её слушать…
Круглые чёрные беличьи глазки собеседницы меж тем работали быстро, как сканер. Они, по-видимому, засекли снятые Лёшины ботинки. Внезапно Лёша ощутил на своей стопе в носке горячую ножку, такую же быструю и «подмигивающую», как и глаза. Лицо литагентши так просто льнуло к лицу Лёши. Тут-то он и разглядел морщинки под глазами, поры на коже и призраки седых волосинок среди краски. Литагентша была не так юна и свежа, какой силилась казаться. Лёша сел прямо, ног у – якобы в рассеянности – подвинул и солидно сказал, что готов обсуждать стратегию. Литагент тоже отодвинулась и совершенно спокойно, без кривляния посоветовала подать рукопись на юношескую премию «Взлёт пера», где на фоне молодняка Лёша будет смотреться выигрышно, а у дамы там связи.
Впоследствии выяснилось: этот мнившийся рассветным час оказался для Лёши закатным. На премии «Взлёт пера» «Крещенские рассказы» взяли первое место и энное количество рублей. На эти деньги (да ещё пришлось занимать) Лёша с помощью литагентши выпустил «Крещенские рассказы» долгожданной книгой в дотоле неизвестном ему издательстве «Очи чёрные». Много позже Лёша узнал, что издательство было создано самой литагентшей. В её кармане осел весь Лёшин взнос – это не считая отдельно оплаченных услуг по продвижению книги. Они состояли в распечатанном на принтере листке с адресами столичных книжных магазинов, куда Лёша может обратиться с книгой и где труды берут на комиссию у авторов. Листок Лёша получил вместе с коробами книг. От помощи в деле переговоров с магазинами литагентша устранилась.
Лёша таскал сумку с книгами от магазина к магазину, экономя на метро, и в каждом получал от ворот поворот, потому что заявлял своему сочинению цену завышенную, по мнению зубров книготорговли. «Вы хотите стоить дороже Пелевина!» – прямо сказала ему директриса одного магазина. «Так и должно быть! – не растерялся Лёша. – Кто Пелевин, и кто я!» Дальнейшая полемика не заладилась.
Критик Бронзовский меж тем развивал кампанию против «реального крестьянизма», доказывая, что это направление придумано его покойным коллегой по пьянке, а якобы самый яркий его представитель – некий Лещёв из провинции – не кто иной, как необразованный сельский парень с узким кругозором, умеющий только бесхитростно писать о том, что видит.
Кончилось это всё постыдным возвращением Лёши в Хренодёр на перекладных, из электрички в электричку, зайцем.
Короба книг прибыли спустя две недели в контейнере. Его заказ сожрал все Лёшины сбережения от службы в казино и банке.
Писательство решительно обернулось к Лёше неприглядной стороной. В нём снова бурлило невысказанное чувство, подобное тому, что после купания в полынье осенило его душу ангельским даром. Теперь же чувства имели природу демоническую, разрушительную. Душа просила уже не творчества, а боя. Хотелось рушить и крушить всех тех, кто мешал Лёше реализоваться в качестве единственного великого писателя земли Русской. А таковых с каждым днём всё прибывало. Чтобы справиться с этим зловредным воинством, нужна была былинная силушка Ильи Муромца. А Лёша вынужден был маяться и биться в одиночку.
Ни один журнал больше не собирался печатать «Крещенские рассказы». Говорили: они уже в прошлом, давайте новенькое что-нибудь. Возражений не принимали. В переписку не вступали, как Лёша ни провоцировал их длинными тирадами на спор. «Орифламма» высмеяла «реальный крестьянизм» в целом. «Гады проамериканские!» – написал Лёша в редакцию. Те не ответили, но ему стало легче.
И вот после десяти лет бесславия Лёша вспоминал, как боролся за своё литературное имя. Борьба его изнурила.
Когда стало понятно, что в книжной торговле ловить нечего – торгаши, одно слово, не об искусстве думают, а о барышах! – и любимые книги осели мёртвым грузом под кроватью, Лёша понял, что у него остался последний шанс: Интернет! Компьютер и Интернет он к тому времени уже освоил.
Выпуск книг по требованию – оформление электронного макета и создание печатных оттисков с него для желающих – всё чаще мелькал в Сети. «Почему нет?» – подумал Лёша.
Книга «Крещенские рассказы» выдержала уже пять сетевых переизданий. Но ни одна книга не была выкуплена и распечатана. Не помогали ни рекламный слоган на обложке: «Читайте лучшего писателя современности, открытие ХХ века!», ни требование Лёши к издателям лучше оформлять его детище. Переписка об оформлении заканчивалась всегда одним и тем же: Лёшу посылали, Лёша посылал, издатели заявляли, что больше никогда с ним не свяжутся и другим закажут. И вроде бы впрямь «заказали». Контор, предлагавших книги по требованию, висела в Сети масса, а договориться ни с одной не получалось.
Лёше ничего другого не оставалось, как самому осваивать сначала дизайн и вёрстку, а затем – веб-дизайн. На это ушла пара лет. Но наконец премудрость он обрёл и применил себе во благо.
Третья интернет-книга «Крещенских рассказов» имела заголовок «Крещенские рассказы. Издание третье. Рукописи не горят» и вместо послесловия – эссе «Издательства-издевательства. Как издательства глумятся над авторами». С именами, фамилиями и названиями сетевых издательств, которые не оценили книгу выдающегося писателя земли Русской.
Вот только ни одна система книгораспространения, тоже электронная, не приняла на реализацию плод долгих мук Лёши… Впрочем, ясно почему: заговор! Рука руку моет! Кругом коррупция, процветают только свои!
Лёше пришлось делать собственный сайт.
Лёша выложил на сайт в разделе «Вот я какой» всю галерею собственных портретов – от малыша в ползунках до «подъёмного крана», облепленного японцами. В разделе «Вот мы какие» доходчиво пересказал историю рода Лещёвых со всеми «перекрёстными» родами, докуда помнил. Помнил, правда, лишь до прадеда Берендея, отца деда Кащея. Берендея пра внук в живых не застал, но из дедовых рассказов воображал себе зримо. Кащей унаследовал от Берендея не только взрывной характер, но и костыль. Тот же, каковым и Лёшу воспитывал.
В разделе «Вот какое моё творчество» продавалась многострадальная книга «Крещенские рассказы. Издание третье. Рукописи не горят». Эпиграфом к разделу служили стихи Лёши: «Не образован ты ни разу. Читай “Крещенские рассказы”!». Увы, и они пропадали втуне.
Литературное дело не кормило. Нелитературные профессии подзабылись и казались несолидными. Может ли великий русский писатель стоять крупье в казино? А быть монтёром?..
Если бы не родительские пенсии да домик в Нахреновке, унаследованный от бобылки Иегудины и ставший основным подспорьем семьи, Лещёвым жрать было бы нечего. Родители с апреля по сентябрь жили в деревне: вспахивали мотоблоком огород, сажали овощи по лунному календарю, пропалывали, снимали урожай, консервировали помидоры-огурцы-синенькие, засыпали в подпол картошку, замахивались даже на разведение кур. Лёша не приезжал в Нахреновку, не впрягался в лямку сельского труженика. Боялся, что приедет – а чудо произойдёт в обратную сторону: он утратит способность писать. Лёша решил, что поездка в Нахреновку будет для него последним средством. Чем-то вроде творческого самоубийства. Если доведут.
Родители, исчерпав все средства воздействия, вроде материнского нытья и отцовской брани, махнули на Лёшу рукой и неплохо проводили время в деревне. Тёплые полгода в жизни Лещёвых царили тишь и благодать. Братья давно жили своими домами, в городской квартире обитал один Лёша, выработавший в себе привычку к аскетичному образу жизни. Он всё лето жарил себе картошку прошлогоднего урожая. Пока водилось в доме постное масло, экономно подливал его на сковородку, а когда масло кончалось, не столько жарил, сколько сушил картошку на сковороде. Без хлеба он давно приучил себя обходиться. Как и без мяса, масла и прочих излишеств нехороших. Даже водки ему было не надо. Лёша пьянел от перечитывания «Крещенских рассказов».
Зимой же родители торчали в небольшой квартирке, нудели и требовали от Лёши невозможного. К счастью, зима в лещёвских широтах проходила довольно быстро. И предки отбывали на дачу, а Лёша оставался со скудным запасом продуктов до зимы, но в блаженном одиночестве.
Писатель перестал бриться и зарос. Снача ла по бороде он был похож на Чехова, затем – на Тургенева, а теперь уже приближался ко Льву Толстому. Зато никто и ничто не мешало ему доводить текст без того совершенной книги до заоблачного идеала. Пусть сейчас они никому не нужны, неинтересны, пусть Лёшу обложили со всех сторон неправедные делатели скверной литературишки, но ведь сказано когда-то: «Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черёд». Лёша теперь уже ждал только этого «черёда» и к нему готовился. Пусть даже он последует век спустя, но Лёша должен оставить человечеству безупречный текст! Тут ещё в Интернете разрекламировали недавно созданный Минкультом журнал «Прапорец». Лёша нашёл адрес редакции и атаковал её «Крещенскими рассказами» и своей литературной биографией. К его вящей радости, пришёл ответ. «Прапорец» сообщал, что книга написана профессионально, но редакцию не заинтересовала.
Боже, какой заряд энергии «Прапорец» придал писателю!.. Он решил добиться публикации, а для того – хоть наизнанку вывернуться.
Четвёртое издание «Крещенских рассказов» было дерзким экспериментом. Лёша предположил, что рассказы, идущие друг за другом по мере знакомства писателя с Нахреновкой, выглядят скучно, ибо, может, слишком предсказуемо?
Лёша разместил «Крещенские рассказы» в обратном порядке: «Сон не идёт», «Коровник», «В чистое поле», «Гусь», «Богатый дом», «Процессия», «Вкусно», «Жареная картоха», «Лобастый», «Вот как, значит», «Крещенская служба», «Варсонофий», «Спал как убитый», «Выскочив из проруби», «Яйца морозит», «Лёд», «Полынья», «Ждём службы», «Завтра праздник», «Церковь без креста», «Маша и её медведь», «Семья Ботинкиных», «Михал Михалыч», «Васька», «Толик», «Нахреновцы», «Здравствуйте вам!», «Тётя Гудя», «Под кривой крышей», «Деревня на горизонте», «Глухомань», «Автобус», «Дед». Хронология была побеждена, с нею – и прямолинейная логика. Теперь яйца Лёше морозило до того, как он окунался в полынью, кривая крыша тёткиного дома появлялась раньше, чем деревня на горизонте, а дед замахивался грозным костылём прямо в пустоту, но в этой алогичности было некое благородное безумие. Лёша возлагал на него надежды. В предисловии он так и написал: «Долгие годы меня – при всей завершённости “Крещенских рассказов” – смущало в них что-то и я не мог понять что. Теперь понял: ритм книги был снижен строгой последовательностью появления рассказов. Вчитываясь в тексты, я выстроил порядок, при котором рассказы звучат громко и ликующе. Надеюсь, понимающие читатели услышат эту музыку сфер».
Четвёртое самоиздание носило имя «Крещенские рассказы. Самое полное и лучшее издание», и за все эти качества на него была повышена цена.
Каменные сердца современников не растрогала «музыка сфер» от Лёши Лещёва. «Самое полное и лучшее издание» «Крещенских рассказов» осталось так же не востребовано читателями, как и его предшественники. Он послал новую книгу в журналы – в те, что когда-то его славословили. Они брезгливо отмолчались. Журнал «Прапорец» промямлил, что текст может стать и лучше. Лёша снова внял, ведь «Прапорец» был его последней надеждой.
Снова перечитав переставленные задом наперёд «Крещенские рассказы», Лёша сообразил, что в эдаком рачьем ходе тоже мало хорошего, ведь последовательность сохранилась, хоть и обратная. Какая уж тут «музыка сфер», если играть по тем же нотам от хвоста к голове?
Лёша придал «Крещенским рассказам» порядок фантазийный. Один рассказ он брал из начала цикла, второй – из конца, а третий находил где-то посерединке. Так сложилось пятое переиздание: «Дед», «Сон не идёт», «Ждём службы», «Автобус», «Коровник», «Полынья», «Глухомань», «В чистое поле», «Лёд», «Деревня на горизонте», «Гусь», «Завтра праздник», «Под кривой крышей», «Богатый дом», «Яйца морозит», «Тётя Гудя», «Процессия», «Выскочив из проруби», «Здравствуйте вам!», «Вкусно», «Спал как убитый», «Нахреновцы», «Жареная картоха», «Церковь без креста», «Толик», «Лобастый», «Маша и её медведь», «Васька», «Вот как, значит», «Михал Михалыч», «Семья Ботинкиных», «Крещенская служба», «Варсонофий».
Новую версию Лёше самому было читать любопытно, начиная с содержания. Соседствующие названия рассказов давали порой неожиданный эффект (кафкианский, мог бы сказать Лёша, если бы был в курсе, что существовал такой писатель, фиксировавший свой многозначительный бред, почему его фамилия стала нарицательной для всякого абсурда). То, что сон не шёл к только что народившемуся прозаику, мистическим образом перекликалось с дедовыми заветами. Полынья, глухомань и чистое поле выстраивались в супрематический пейзаж. Деревня на горизонте выносила навстречу путнику гуся. В богатом доме Лёше, вопреки всем законам физики, яйца морозило, а выскочив из проруби, он приветствовал всех нахреновцев, жареную картоху и церковь без креста. Замыкала же цепочку преобразований крещенская служба Варсонофия.
Всё это выглядело прекрасно, но… опять что-то царапало чуткую душу Лёши. Он снова, как в отрочестве, не смог заснуть ночью и пережил, хоть и в разбавленном виде, почти забытые ощущения. Опять свербело внутри, щекотало живот и ниже, опять Лёша ворочался на постели и бегал в туалет, опять пылала голова, а издалека словно громыхал бесконечный железнодорожный состав – и внезапно состав наехал прямо на мозг писателя, и от мгновенной вспышки он прозрел.
Старое название «Крещенские рассказы» уже не подходило новой симфонии лещёвской прозы. Растущие числительные не спасали, а делали название всё комичнее. Необходимо было присвоить книге свежий, незамыленный заголовок.
Правда, как быть с теми читателями – Лёша надеялся, что они существуют где-то, – кто принял эту книгу именно как «Крещенские рассказы»? Ведь они не узнаю́т излюбленного текста! Но в Лёше проснулся также доморощенный маркетолог: это же хорошо, что не узнаю́т! Купят как новую книгу! «Крещенские рассказы» в другом порядке – это радикально новая книга.
Очевидно, что названием должно стать заглавие лучшего и самого яркого из рассказов. Лёша долго выбирал. Патриархальный «Дед», урбанистский «Автобус», звучащее с одесским разговорным акцентом «Здравствуйте вам!» и саговая «Семья Ботинкиных» были последовательно отклонены требовательным к себе автором. Лёша долго склонялся к простодушному «Яйца морозит!»: лёгкий сексуальный подтекст названию книги не повредит. Может, обновлённые «Крещенские рассказы» купят как эротическое чтиво? Но такой вариант внезапно показался Лёше унизительным. Его проза достаточно хороша, чтобы заигрывать с читателем и покупать внимание публики дешёвыми склонениями известных частей тела! Довольно с публики и того, что Лёша переменит название книги.
В итоге «Крещенские рассказы» улеглись на сайт Лещёва как «Церковь без креста». Хотя эта фраза не соответствовала действительности. Как рассказывала мама, в Нахреновке появился молодой энергичный батюшка, выпускник военного училища и участник боевых действий в Чечне. Там-то он и прозрел, и уверовал. Окончил семинарию, получил приход, нарочно попросив самый дальний от Хренодёра: соблазнов городской жизни избежать, с исконными крестьянами потеснее сойтись. За дело священник взялся с военного наскока, но оно удалось. Преображенскую церковь, стоявшую без креста и купола с 1928 года, отреставрировали так, что любо-дорого посмотреть! Не только крышу ей восстановили и на колокольне утраченный ярус возвели, но и купола позолотили – и видно их теперь изо всех окрестных сёл, особенно на закате, когда Господь на горизонте словно свечку зажигает. Едешь, бывало, к Нахреновке, кругом темнота, и лишь впереди небо светлое, румяное, а на его фоне огонёк горит. Так мама умилённо говорила и невольные слёзы вытирала.
– Ты бы, Лёшенька, про батюшку Ерофея написал! – посоветовала однажды мама. – Он человек-то какой хороший! Церковь вон поднял из руин… Да и поговорить с ним – одно удовольствие, прямо благость на душу сходит! Всё равно ведь одно и то же переписываешь по сто раз, отвлекись, напиши про достойного пастыря!
То был единственный раз, когда мама позволила себе полезть к Лёше с советами о писательстве и в одной реплике уместила столько яда для сына, сколько и представить себе не могла. Что это ещё за новости – о каждом встречном-поперечном писать?! На то журналисты есть! Лёша не то чтобы прямо наорал на мать, но пресёк её попытки давать ему рекомендации по части творчества. Мама начала плакать, прибежал с кухни отец, вступился за неё, не разобравшись, а когда разобрался, пуще стал разоряться, и вмешательство близких в писательский процесс закончилось семейным скандалом.
Отчасти в пику этому выскочке, отцу Ерофею, Лёша свою книгу окрестил «Церковь без креста». Та полуразрушенная и обезглавленная Преображенская церковь, торчавшая посреди Нахреновки как гнилушка, была историческим фактом, который будет увековечен в литературе. Хоть бойкий священник ей не купола, а всю озолоти!..
Пятая книга Лещёва отправилась в «Прапорец» и устроилась на личном сайте автора. И предыдущие четыре Лёша не стал оттуда убирать.
И вот «Прапорец» прислал унизительный «от ворот поворот». Оставалось единственное упование – на внимание читателей.
Проснувшись однажды утром, Лёша вспомнил мамины восторги от батюшки Ерофея. Он впервые в жизни пожалел, что неверующий, а то помолился бы о даровании книге распространения – и Боженька услышал бы!..
А что мешает? Молитв Лёша не знал, но что такое для великого писателя – сочинить воззвание к Богу?! Лёша встал посреди своей комнаты, она же рабочий кабинет, обратился лицом к окошку и завёл очи горе. Но за доли секунды, что его лицо принимало благостную мину, взгляд успел ухватить пейзажи отнюдь не благостные. Досель Лёша не обращал внимания на пыль в комнате, неубранную постель, пятнистую и грязную даже на вид клавиатуру компьютера и мохнатый от паутины подоконник. Но теперь, когда он собирался беседовать с Богом на равных, эта обстановка выглядела кощунственно.
Пришлось прерваться. Несколько часов Лёша потратил на то, чтобы раз в ж изни привест и в поря док не к ниг у, а место своего обитания. Он не убрал, но заправил постель поверх засаленного постельного белья покрывалом, смахнул пыль с самых видных мест в комнате, протёр подоконник и оконное стекло изнутри, выметя паутину из углов оконницы и потолка, проветрил комнату и помусолил клавиатуру. Из неё вытряхнулось где-то полкило сухарных крошек. Зато клавиши, которые западали и отказывались печатать, стали нажиматься легко и быстро, и Лёша воспрянул духом. Видно, Кто-то наверху оценил благой порыв Лёши и помог ему авансом.
Большого порядка, правда, в обиталище писателя так и не получилось, но всё же стало посвежее и попристойнее. Из чистой комнаты Лёша с чистой душой воззвал к Нему, обратившись лицом к окну.
– Ну так, Господи, – заявил Лёша, – Сам видишь, какая хе… ерунда получается. Я большой писатель, гордость российской словесности! А вокруг меня как будто заговор молчания составлен. Не замечают, не печатают, даже электронную книгу продавать не хотят!
«Говорить Богу надо о том, что не хотят читать “Крещенские рассказы”!» – мелькнула у Лёши мысль, но была она из тех, что прозаик душил нещадно. Ему было как серпом… признаваться даже Всевышнему… Нет, нет! Допускать даже в разговоре с Ним, будто бы его проза может кого-то оставлять равнодушным!
– Короче, Господи, я устал жить в постоянном невнимании, пренебрежении и хамстве издателей и всяких этих, извиняюсь, редакторов! Неужели я это заслужил, Сам посуди?! Так сделай что-нибудь, чтобы на мою книгу достойное внимание обратили! Она же называется так, что Тебе должно быть приятно. Первое издание – «Крещенские рассказы», а нынешнее, пятое, сделай так, чтобы не последнее, – «Церковь без креста». Не, ну, что она без креста была, это Тебе, конечно, не может нравиться, но Ты зацени, как я Твой дом без креста описал! Да разве так кто-нибудь ещё способен слово к слову поставить?! Да разве у кого-нибудь сыщется такая сила, такая образность, такой простор в стиле?! Ну, короче, что я Тебе объясняю, Ты же всеведущий, Ты всё ведаешь и рассказы мои читал… ну, то есть в курсе, какие они. Так помоги рабу Твоему Алексею, великому писателю земли Русской! Пошли мне читателей благодарных, издателей толковых и литературный успех.
Закончив тираду, Лёша слегка поразмыслил. Гордыня ломалась, а рассудок нашёптывал: поклонись, корона не упадёт, Бог оценит!.. Верх взяла рассудочность. Лёша осмотрительно опустился на колени на пол, который забыл помыть, и несколько раз коснулся пышной свалявшейся шевелюрой слоя липкой грязи. Вот теперь ритуал общения с Богом был выполнен обстоятельно.
Довольный собой Лёша поставил книге «Церковь без креста» на своём сайте цену – три тысячи рублей – и завалился спать, хотя до вечера было ещё далеко, по-юношески надеясь проснуться знаменитым. Как дети ждут ночного прихода Деда Мороза.
Увы, Лёша обманулся так же, как и малыш, ждущий встречи с Санта-Клаусом! Утро не принесло желанных перемен. «Церковь без креста» уныло красовалась на сайте, а счётчик просмотров красноречиво свидетельствовал, что заходит в свой личный «магазин» один хозяин. Лёша хотел было громко высказаться богохульно, но взял себя в руки и то же самое просто подумал.
Господь услышал молитвы Лещёва, но распорядился ими по-своему. Это выяснилось через недельку после молитвы. Зайдя на свой сайт, в пустовавшем все эти годы разделе «Вот как меня видят мои читатели» Лёша с трепетом душевным нашёл одно сообщение. У писателя не только руки дрожали, но и сердце прыгало, пока он открывал послание и читал его стоя, не имея терпения ни на миг отложить чтение, чтобы присесть.
«Мы, община агрессивных богомольцев, – говорилось в нём, – глубоко возмущены антирелигиозной деятельностью, которую развёл на своём богомерзком сайте некий Алексей Лещёв. На своём сайте он семь лет назад выложил на продажу сборник гнусных инсинуаций под названием “Крещенские рассказы”. Все эти, с позволения сказать, “рассказы” представляют собой злобные пасквили на Православную церковь, её служителей и русский народ-Богоносец. Но за минувшие годы Лещёв не только не раскаялся в своём заблуждении, но и доказал, что душа его принадлежит лукавому, ибо клеветническую книгу он переписывал несколько раз, дополняя всё новыми отвратительными измышлениями, и всякий раз снова выкладывал в открытый доступ. Наконец Лещёв заврался до такой степени, что оболгал приход села Нахреновка, весь причт Преображенского храма и лично священника Ерофея Охренеищева, в противовес фактам назвав указанный храм “Церковью без креста”. Тогда как достаточно взглянуть на фото (фото с куполами прилагались), чтобы убедиться: Лещёв нагло врёт! Мы, община агрессивных богомольцев, считаем, что сборник измышлений Лещёва оскорбляет наши религиозные чувства. Заявление об оскорблении чувств верующих направлено в прокуратуру Хренодёрской области, в правительство Хренодёрской области, в Думу Хренодёрской области, в Хренодёрско-Зеленопетрушкинскую епархию и в Госдуму РФ».
Лёша так и сел перед компьютером мимо стула на грязный пол. В голове у него звучал набат: «Дож-дал-ся! Дож-дал-ся!»
– Слава тебе, Господи! – прочувствованно сказал Лёша потолку.
Перечитав письмо общины агрессивных богомольцев, Лёша вдруг подумал: как бы не засудили… Но опаску побеждало счастье: ведь это какой же скан дал начнётся, когда на всех у ровнях будут склонять имя Лещёва! Какой пиар!.. Слава тебе, Господи!
Владимир Софиенко
Владимир Геннадьевич родился в 1968 году в городе Темиртау, Республика Казахстан. Прозаик. Автор четырёх книг.
Публиковался в журналах «Север», «Нева», «Роман-газета», «Полдень, XXI век», «Фанданго», Carelia и др. Лауреат III степени VI–VIII международных литературных фестивалей-конкурсов «Русский Гофман». Дипломант XI международного славянского литературного форума «Золотой Витязь». Лауреат премии им. Г.Р. Державина «Во славу Отечества» (2023). Рассказы переведены на финский, армянский, японский языки. Организатор международного литературного фестиваля «Петроглиф». Член Союза писателей России (Карельское региональное отделение). Член Всероссийского клуба кураторов литературных фестивалей.
Эти странные люди.
Рассказ
На полу, на груде битого стекла и прочего хлама, прикрытая слоем пыли и крошки штукатурки, лежала иконка. Скрипач приметил её под берцами, как только в составе группы штурмовиков после дерзкого дневного наката[1] проник в хату, правда, не смог сразу различить, образ какого святого на иконе.
Неделей раньше российские войска были вынуждены оставить это село, но почти сразу ситуация на фронте переменилась. Тогда они сначала взяли вражеский опорник в лесополосе, укронацисты стали отступать. Затем, пользуясь замешательством в их рядах, обратно в село штурмовики влетели на броне. На окраине заняли этот чудом сохранившийся приземистый домик, где прежде жил пожилой священник Афанасий со своей матушкой Натой. Штурмовики отлично знали эту местность и тех немногих жителей, в основном стариков, которые остались здесь вопреки уговорам украинского командования идти вслед за их войсками.
Высадив группу, броня ходко вернулась под укрытие лесополосы. А укронацисты к тому времени пришли в себя и накрыли группу стрелковым огнём, стали закидывать натовскими минами. Бил пулемёт, и пули его, со свистом прошивая воздух, впечатывались в кирпичную кладку, отбивая со стены штукатурку.
И вдруг к обстрелу дома подключилась вражеская ствольная арта́[2]. Скрипач вмиг опустился на пол и вжался в него, успев схватить иконку. Прижимая её к груди, он перекатился в угол, подальше от линии огня и разбитого окна с осколками стекла в раме. В комнате помимо Скрипача на тот момент были все бойцы их группы: Фантом, Грек и Инженер.
Стены дома гудели, но держались. По характерным звукам стало понятно: враг накидывал кассетки[3] окрест. Взрывы теперь гремели в поле перед лесополосой, минуя дом, в котором закрепилась группа. Так укронацисты отсекали штурмовикам обратную дорогу к своим позициям и заодно затрудняли движение пехоты из лесополосы. Теперь группа оказалась отрезанной от подразделения.
Каждый метр этой земли давно был пристрелян враждующими сторонами, как и все подступы. Штурмы, засевшие в хате, понимали: второго шанса на стремительный накат «немцы» – так называли на передке бандеровцев – не дадут, а значит, подкрепление кним придёт нескоро. Откатиться обратно в лесополосу через поле, закиданное минами, даже под прикрытием артиллерии слишком рискованно: недавно на передке появились новинки – мины с гироскопами. Русские штурмовики уже встречались с этим коварным натовским оружием, такие мины взрывались даже при хрусте ветки под неосторожно поставленной ногой и накрывали осколками территорию диаметром в пятьдесят метров. Когда в темноте или по серости группа штурмов натыкается на такие мины, то в лучшем случае все трёхсотятся[4]. На разминирование тяжёлой техникой времени тоже не остаётся: при такой интенсивности ведения боя БК[5] у штурмовиков закончится быстрее, чем будет подготовлен проход для отхода их группы.
Грек – старший здесь. Он обвёл своих бойцов взглядом, оценивая обстановку: трёхсотых, а значит, раненых, в группе не было. На забрызганных грязью, испачканных копотью – выражение собранности: ребята трезво оценивают ситуацию. Все они добровольцы с самого начала СВО, не первый год на передовой, многое повидали за это время и теперь, оказавшись в хате, без лишних приказов заняли круговую оборону. Все – настоящие воины!
Взгляд Грека задержался на Скрипаче.
Вот только Скрипач… он недавно с ними. Два месяца. Пришёл из штаба. Не то чтобы Грек недолюбливал штабных, но у него было особое отношение к ним, сложившееся ещё с первой его войны, когда их, добровольцев, погранцов-срочников, отправил и в Душанбе в начале девяностых. Тогда это была совсем другая война, непохожая на эту…
А Скрипач, как гриб мухомор, весь такой красивый, глаза мозолит. Вечно он на виду: грудь – коромыслом, а нос к небу задирает, колючий, как ёж, репортажики на свой смартфон снимает, какой он бравый боец. Одним словом, выскочка, штабист. Но при этом угадывался в Скрипаче особый сплав из твёрдости и жизнелюбия. Скрипач мог раздражать тем, что болтает без умолку, шутит иной раз невпопад. Он мгновенно впитывал новую информацию, адаптировался, гнулся, не ломаясь, если того ситуация требовала, и выстреливал как пружина в критически важный момент. Может, потому и не усидел в штабе. Говорят, завалил Скрипач штабных крыс рапортами о переводе на нолик[6]. Как это всё совмещалось в Скрипаче, Греку было не понять.
А Скрипач, пережидая обстрел, перекатился на бок и очистил от грязи образок, затем поднёс иконку к запёкшимся губам и нежно коснулся.
От опытного глаза Грека это не скрылось. Была у него привычка примечать каждую мелочь: в бою всё имеет значение. Раньше набожности в Скрипаче Грек не замечал, но сейчас расспрашивать не стал: не время.
– Кажется, мы застряли здесь, пацаны, – немного погодя признался Грек, перекрикивая разрывы снарядов, – нескоро увидим свой блинчик[7].
– Если вообще увидим, – попытался усмехнуться Фантом.
Но Грек напомнил:
– Под Авдеевкой похуже бывало.
– Скоро «немцы» пойдут. – Инженер сидел под окном у противоположной стены.
Он чуть приподнялся на одно колено и стал всматриваться туда, где среди руин домов засели укронацисты. С другой стороны окна сидел Фантом. У него на плече – ружьё РЭБ[8], в руках – автомат Калашникова.
Из лесополосы наконец ударила российская артиллерия, подавляя огонь бандеровцев. Часто забили сто двадцатые миномёты, тяжело ухала ствольная артиллерия, слышались разрывы на другом конце села. «Дуэль» эта длилась недолго и означала одно: вот-вот попрут бандеровцы.
С прекращением артобстрелов тише не стало. Теперь небо загудело шумом от винтов целого роя дронов. Их лопасти взбивали воздушный безоблачный эфир, издавая звук, похожий на комариный писк, который занозил мысли тревогой. Еле приметный в небе враг-камикадзе со смертоносным грузом в любую секунду мог спуститься и залететь в дом через окно.
Фантом снял с плеча ружьё РЭБ, через оконный проём навёл ствол на цель в небе – вражеские дроны. Если повезёт, то «птичка-убийца» выберет их с Инженером окошко, если нет, то у другого окна на страже Скрипач: он уже приставил к стене свой АК, вскинул дробовик.
В следующую минуту на развязке Грека ожила шуршанием и потрескиванием рация.
– Грек, ответь Соколу. Приём, – требовала она выйти на связь.
– Сокол, слушаю, Грек. Приём.
– Грек, доложи обстановку. Приём.
– Сокол, заняли круговую в доме батюшки Афанасия. Противника пока не наблюдаем. Приём.
– Грек, над вами только наши птички. Артá подавила их гнездо. Будем вашими глазками. Приём.
– Сокол, спасибо за хорошую новость. Приём.
– Грек, передай привет батюшке. Ждём его картошку. Приём.
Грек не стал отвечать, лишь щёлкнул пару раз клавишей приёма: значит, принято. Рация умолкла. Теперь, когда стало ясно, чьи дроны в небе, звук их лопастей даже радовал слух. Но Греку не до того. Бывалый воин посуровел лицом, мысленно возвращаясь к ужасной картине, которую пришлось увидеть в хате. Много повидал он смертей на войне, но такую бессмысленную и лютую пришлось видеть впервые.
Когда их группа, соблюдая меры предосторожности, подходила к хате деда Афанасия, Грек сразу заметил, что огород стариков выглядит неухоженным, даже заброшенным. Всегда чистые и вспушённые грядки с кустами картофеля и лука теперь сплошь были забиты всходами бурьяна и полыни. Кое-где вылез из земли жилистыми листами лопух. Окна в доме были выбиты, крыльцо – покрыто слоем пыли.
Фантом и Инженер, прикрывая друг друга, вошли в хату с крыльца. Скрипач и Грек, обойдя её с противоположной стороны, притаились у единственного в той стене окна.
Скрипач взял на контроль прилегающую территорию. До соседнего дома было метров двести, и местность с участками под огороды лежала перед ним как на ладони. С этой стороны хата Афанасия была не сильно повреждена, в окне треснуло стекло от края до края, верхняя часть его выпала из рамы.
В то окно и заметил Грек стариков. Они сидели в глубине комнаты друг против друга – так сидят, когда разговаривают. Но хозяева молчали, словно беседа их была прервана. Комната была не на солнечной стороне, а в тени, так что большего разглядеть Греку не удалось.
Вдруг он услышал из хаты:
– Чисто!
Грек одним выверенным ударом выбил остатки стекла прикладом АК и ломанулся через оконный проём в дом. Там стоял тяжёлый трупный запах. Кроме стариков, в помещении никого. Они были крепко-накрепко привязаны к стульям. Ко лбу каждого прибита гвоздём красная орлёная книжица. Афанасий облачён в рясу, но креста на груди не было. Застыв, он как будто смотрел в пустоту безжизненными остекленевшими глазами с вырезанными веками.
Вдруг ударил бандеровский пулемёт, штурмы высыпали в прилегающую комнату, заняли круговую оборону.
Грек хорошо помнил их последнюю встречу с Афанасием. Это случилось накануне тактического отхода русских войск из села. В тот день их ротный в торжественной обстановке вручал старикам по красной книжице – паспорт гражданина России. На гражданство они подали давно – отказались от украинского паспорта блакитного цвета с бандеровским трезубом, и вот пришёл ответ со стороны России. Афанасий и Ната были рады до слёз. Командование настойчиво предлагало им на время уйти из села, но те категорически отказывались.
– …Странные вы люди, отче! – сетовал ротный. – Поймите же вы, теперь мы не сможем защитить вас!
– За нас майэ кому заступытыся та спасти! – отвечал Афанасий.
Он был крепкий ещё старик, раньше в своём селе служил при церквушке, что высилась неподалёку от их со старухой домика. Теперь церковь лежала в руинах, её разнесли укронацисты год назад. С лютой ненавистью расстреляли храм на германском танке «Леопард» безо всякой причины.
По случаю вручения российского паспорта Афанасий сменил мирскую одежду на церковную: на нём была ряса, а на груди – большой поповский крест с цепью, единственное, что удалось сберечь из церковной утвари от бандеровцев. Батюшка, гордо приосанившись, пригладил ладонью бороду, повернулся к красному углу горницы. Там на полочке, застеленной расшитым узорами рушником, стояла икона – старая, потемневшая от времени. С неё строго взирал на людей образ Христа Спасителя. Наложил Афанасий на себя крестное знамение, поклонился.
– Ни! – снова говорил он ротному. – Куды ж мы пидэмо вид нашей хаты? – искренне удивлялся отче. – В нас цыбуля вже растэ, буряк, картопля взийшла. Вы ото вэртайтесь скорише, хлопцы, а мы со старухой отварэмо тоди вам свеженькой кортопли з маслицем, лучком та сметанкою!
Когда штурмы уезжали из селения, Грек, сидя на броне, обернулся: на пороге хаты стояли священник с матушкой. Афанасий, благословляя, наложил крестное знамение на покидавших село русских, затем приобнял матушку и долго ещё махал им вслед, зажав в руке красную орлёную книжицу.
Затрещав, снова ожила рация.
– Грек, ответь Соколу. Наблюдаем движение пехоты в вашем направлении. Поддержим чем сможем. Приём.
А Грек уже видел, как меж руинами засуетилась вражеская пехота.
– Сокол. Наблюдаем «немцев». Открываем огонь.
Бой был коротким и ожесточённым. Внезапно «Леопард» с крестами на бортах возник в конце улицы. Он успел сделать всего один выстрел, прежде чем Сокол стал закидывать его своими «птичками» – дронами-камикадзе. От них «Леопард» загорелся. И всё же тот выстрел зацепил угол хаты, произошло большое обрушение. Фантом и Инженер оказались под завалом.
Грек сразу понял: те двое погибли. В голове его стоял будто звон набатного колокола. Боль тугими струями поднималась вверх от раздроблённой ноги, раскалённой лавой наполняя всё тело. Превозмогая её, он стянул турникетом перебитую осколком ногу, вколол обезболивающий укол.
Рядом застонал и зашевелился Скрипач. Ему тоже досталось: шлем рассекло, кровь на лице. Грек заметил на левом плече Скрипача кровавое пятно, которое расплывалось всё больше. Грек, и сам серьёзно раненный, как мог наложил ему повязку, обезболил уколом. Тогда Скрипач чуть оклемался, он скинул с себя шлем, утёр ладонью кровь на лице, огляделся.
На улице позиции укронацистов снова утюжила артиллерия, так что у штурмов в хате было время собраться с мыслями и подготовиться к отражению вражеской атаки.
Скрипачу повезло больше: у него лёгкие ранения – тело покоцало мелкими осколками, так что, несмотря на боль, приглушённую уколом, он мог передвигаться без посторонней помощи.
По полу, густо присыпанному битым кирпичом, Скрипач потащил Грека в уцелевшую часть дома – туда, где находились убитые старики. Тот искусал губы в кровь, всё же дотерпел, не проронив ни звука. Скрипач устроил раненого Грека возле окна, а сам занял место с противоположной стороны: теперь у них был неплохой обзор сектора для ведения боя. Отдышались, собрались с мыслями, подготовили оружие. Каждый уложил со своей стороны окна БК, рядом на крайний случай – граната «Ф-1»: сдаваться в плен никто не намерен. Грек скинул посечённую осколками и теперь уже бесполезную рацию. И ему, и Скрипачу без слов было понятно: боевые товарищи погибли, а силы врага недооценены разведкой – выходит, к укронацистам подоспели наёмники. Знать бы штурмам, что бандеровцы усилены подразделениями профессионалов-наёмников, – не полезли бы в село таким нахрапом.
Через сколько страданий и войн прошёл солдат русский, отстаивая свою землю и право на веру! Чего ради едут сюда эти джентльмены, паны, бюргеры и месье? Чего надо им на многострадальной русской земле? Почему не живётся им спокойно рядом с большим соседом? Здесь, на войне, Грек размышлял над этими вопросами, когда приходилось иметь дело с иностранцами. Странные они люди! Каждый раз получают по зубам, но забывают уроки истории и возвращаются снова… Их детям и внукам каяться потом за злодеяния предков перед русским народом.
Но сейчас Греку было не до философии. Враг должен быть уничтожен! Или ты, или тебя! Война есть война. Штурмы готовились к бою как к последнему. В тот момент Грек был даже рад, что военная судьба свела его именно со Скрипачом: самое время для шуток – пусть и таких, на какие способен Скрипач.
Боль от раненой ноги с новой силой подступала, и Грек сделал себе ещё укол.
– Честно говоря, раньше я думал, что «Скрипач не нужен», – сдерживая гримасу боли, начал Грек разговор с крылатой фразы из известного советского фильма[9].
– Это оттого, что я не всем «ку!» и штанов малиновых нет у меня, – негромко ответил Скрипач, он тоже повторно вколол себе обезболивающее.
Грек улыбнулся шутке, наблюдая за ситуацией на улице из окна.
– А почему ты Скрипач? Музыкант, что ли?
Скрипач привычно пожал плечами, забыв про ранение, и тут же сморщился от боли:
– Вообще-то, я на Урале свой бизнес оставил…
– Семья, дети есть? – Грек, разумеется, знал всё или почти всё о Скрипаче – тот сам растрепал, как только оказался в подразделении, но тема семьи была подходящей для развития разговора.
Скрипач кивнул:
– Жена Ксюша, четверо пацанов.
Грек, оставив наблюдение, с удивлением посмотрел на Скрипача:
– Четверо?! А чего тогда сюда вызвался?!
Скрипач в упор посмотрел на своего командира:
– Жена у меня из Киева. Решил сам разобраться, что здесь к чему.
– Так разобрался? – ухмыльнулся Грек.
О том, что у Скрипача жена – киевлянка, он не знал – наверно, и к лучшему.
– Разобрался. – Скрипач кивнул на тела замученных стариков.
Помолчали. У Грека обида накатила за стариков, закипела в груди злость, желваки заходили на скулах. Была бы здесь жена Скрипача, то порасспрашивал бы её: мол, что да к чему… Хотя она тут и ни при чём, разве что из Киева родом. Так ведь и его, Грека, мамка тоже украинка. А Скрипач… что с него? Им с Греком умирать вместе.
Скрипач будто уловил это настроение Грека, продолжил разговор:
– Я с самого начала СВО хотел понять для себя, что происходит… Россия – огромная, а братская Украина – маленькая. Для чего, по какой такой причине мы воюем с украинцами? Прежде я не лез в политику. Сыто жил. Ну, Донбасс… Ну, стреляют там где-то… Решил позвонить родне в Киев… Они заявили, что придут к нам на Урал резать семью нашу. Тогда и принял решение приехать сюда. Сам. Раньше о фашистах я знал только из книжек про Великую Отечественную. Теперь стыдно за себя. Жалею, что не приехал сюда раньше, как только майдан случился и стали детей убивать на Донбассе. Вот я и здесь. Правильно говорят: если ты не интересуешься политикой, то политика заинтересуется тобой.
– А жена что? – Греку вдруг стало жаль, что раньше не понял этого парня, не разобрался в нём, не сблизился во фронтовом братстве, как это случилось с другими его пацанами.
– Ушла, – коротко бросил Скрипач и, подумав немного, добавил: – Сказала, ты теперь Скрипач, а не Виталий Алексеевич, за которого я замуж выходила, от которого рожала детей. Отрёкся, значит, не только от имени своего, но и от нас.
– Выходит, Скрипач действительно не нужен? – напомнил Грек.
– Я понимаю её, – отозвался Скрипач, – и не сужу. Сложно ей вот так… Но и я по-другому не мог. Знаю, пацаны посмеивались над моими видосами. А снимаю видосики эти я нарочно – для детей, чтобы знали: папка их не зря здесь, а воюет за мамку и за них, чтобы к нам домой резать их не пришли, как стариков этих…
– Телефон-то уцелел? – вдруг спросил Грек.
– Цел вроде.
– Зарядка есть?
– Ага.
– Ну-ка, сними нас для мальцов своих. Сними так, чтобы крови не было видно, чтобы не страшно было им. А вырастут – поймут всё сами.
Пока Скрипач возился с телефоном, Грек вколол последнее обезболивающее, чтобы боль не выдать на камеру.
На телефоне Скрипача на задней крышке написано: «Если 200 или 300, переверни страницу». Обычная практика на передке, чтобы в слу чае чего послание, отсн ятое на телефон, дошло до адресата – до родных и близк их, вроде как завещание.
– Давай, я готов! – Грек нацепил на лицо улыбку.
Отсняли короткое видео.
– Слушай, Скрипач, а что за иконку ты поднял с пола?
– Феодоровской Богородицы, – ответил он и достал из-под бронежилета иконку, протянул Греку. – Такой иконе Александр Невский молился перед битвой со шведами и тевтонцами.
Откуда Скрипач столько знал об этой иконе, Грек расспрашивать не стал; это дело сугубо личное, на войне у каждого свой разговор с Богом.
– Самое время и нам помолиться! – Грек перекрестился, возвращая иконку Скрипачу. – Только вот батюшку Афанасия и его матушку не спасла иконка эта, – тяжело вздохнул он.
– О вере он говорил, о спасении во Христе! Я рядом стоял, слышал всё, о чём говорил Афанасий. Сильный был старик. Крест нарочно сняли с него – плохо для православного, когда вот так, без креста…
– Правду говоришь. Матушку его Нату, видать, первой убили нацики.
– Почём знаешь?
– Веки отрезали ему, чтобы взгляда не отвернул и видел, как жену убивают. – Дальше Грек не сдержался, выругался.
Помолчали.
– Скрипач, нас сейчас размотают на раз-два. – Грек впился взглядом в Скрипача, словно проверяя на прочность, сдюжит ли тот в свой смертный час.
Скрипач нахмурился, кивнул и стал всматриваться в окно, крепче сжимая цевьё своего АК.
У Грека остался последний, самый важный, вопрос:
– Вот ответь мне: какая она станет, Родина, после победы нашей? Ведь как Западу в рот заглядывали, даже в НАТО, грешным делом, вступить хотели… Воюем теперь с ними. Только не все русские приняли это. Сколько народу уехало за рубеж с началом войны, лают теперь из-за ленточки, слюной брызжут. Неужто вернутся эти предатели?
– Какие же русские они после этого?! Не пустим их! – твёрдо заверил его Скрипач. – Локти грызть будут, каяться, да поздно окажется. Очистится страна наша, как рана от гноя. В храмы люди ходить станут…
Скрипач, вспомнив о чём-то, торопливо полез под бронежилет. Достал свёрнутую вчетверо замасленную бумажицу, развернул её.
– Вот, гляди, – он протянул бумажку Греку. – В штаб как-то гуманитарка пришла и письма от детей из России.
На листке – детский рисунок. Широкими штрихами раскрашено небо голубое и безоблачное. В небе – лучистое солнышко. Под небом – храм. Он тянется к небесной синеве тремя золочёными главками-луковками с православными крестами. Солнышко улыбается ему и протягивает храму свои лучики. У подножия его разбиты клумбы с красивыми цветами. Чуть поодаль растут берёзки. Перед храмом, взявшись за руки, стоит семья. Первый и самый большой – отец, на нём военная форма, на груди – медали. Рядом, чуть поменьше – мама с кудрявой шевелюрой, в лёгком цветастом платье. Следом выстроились лесенкой по росту дети: трое мальчишек в шортиках и футболках. В руках у каждого – шарик. На плечах у папы-солдата сидит маленькая девчушка с тоненькими косичками и синими бантами. Она тоже держит шарик. На лицах светлые улыбки. Внизу чья-то детская рука старательно вывела красным карандашом: «Ждём с Победой домой!».
Грек молча вернул рисунок. Развернулся к окну и направил на улицу воронёный ствол АК.
– Спасибо, Скрипач. Теперь можно и «немцев» ждать, – сказал он, и ему вдруг нестерпимо захотелось хоть на мгновенье оказаться в том самом рисунке, заглянуть в будущее, которого он уже не увидит.
В полуразрушенной хате, на полу, на груде из битого стекла и кирпича, лежал смартфон. Возле него топтались песочного цвета берцы. Рука в перчатке с обрезанными пальцами осторожно подняла гаджет. На задней крышке телефона на русском написано: «Если 200 или 300, переверни страницу». Обычная практика на этой странной войне… Пальцы ловко нашли нужную запись: пошли картинка и звук. Двое русских о чём-то говорят, один – тот, кто снимал видео, – в конце съёмки прочёл стихотворение. Не всё из сказанного было понятно иностранному уху, но кое-какие слова оказались всё же знакомы. Стихи о Родине читал тот воин.
– Странные эти люди… – прозвучало по-английски.
– Ты о ком, Майкл? – отозвался солдат в натовской форме.
– О русских. Смотри, какие счастливые лица. Они знают, что уже почти мертвы, и при этом читают стихи! Никогда не понимал русских! Может, поэтому у нас такое сильное желание уничтожить их?
– Нам никогда не одолеть их, Джо… – второй покачал головой.
Тяжело вздохнув, наёмник в знак уважения к павшему воину выполнил последнюю его волю. Он понимал, для чего воины оставляют на телефоне эти надписи с цифрами.
– Мама! Мама! Мама! – наперебой кричали мальчишки.
Босоногая ватага бежала по тропке к маленькому дачному домику, мальчишки на бегу возились, вырывали друг у друга из рук смартфон.
Встревоженная этим шумом молодая женщина выскочила на крыльцо, поправляя косынку, она с тревогой оглядывала детей: всё ли с ними в порядке, целы ли руки-ноги. Женщина вздохнула с облегчением, когда самый старший подбежал к ней с поднятым в руке телефоном и победно прокричал:
– Я – первый!
– Так нечестно! – захныкали трое его братьев. – Ты сильнее нас и вырвал телефон!
– Я первый увидел! – обиженно произнёс самый маленький.
– Нет, я! – стали спорить с ним остальные.
– Тише, ребята! – пристрожила их мама. – Что такое? Что случилось?
– От папы сообщение пришло! – радостно закричали они все вместе.
Наталья Мурзина
Наталья Петровна родилась 14 февраля 1971 года в посёлке Тисуль Кемеровской области. Окончила Кемеровский государственный университет. Работала в журнале «После 12», Доме литераторов Кузбасса, редактором в издательстве «Кузбасс».
Публиковалась в журналах и альманахах «Москва», «Наш современник», «Огни Кузбасса», «День и ночь», «Введенская сторона», «Чаша круговая», «Иркутское время», антологиях «Стихи о матери», «И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово!..», «Поэты университета», «Собор стихов», антологиях военной поэзии «Ты припомни, Россия, как всё это было!..» и «Оберег». Автор книги стихов «Вторжение весны». Лауреат журнала «Огни Кузбасса». Член Союза писателей России. Живёт в Кемерове.
«Ну давай о хорошем!»
Стихи
Колокол
- С седых времён, будь праздник или смута
- В разноголосом скопище людском,
- Он к каждому, кто не оглох покуда,
- Взывает неподкупным языком.
- И в час, когда небратья на пороге,
- Скорей беги на звонницу, звонарь,
- Успей, звонарь, до вражьей перемоги,
- В огромный вещий колокол ударь!
- Звони над каждым домом разорённым,
- Над каждою могилой заводи,
- Прожги сердца набатом раскалённым —
- Беспечную Россию разбуди!
«Расскажу, как однажды, в далёком году…»
- Расскажу, как однажды, в далёком году,
- Проревела труба, предвещая беду,
- Натужно…
- Впереди – маета без покоя и сна.
- Уходили мужчины. Война есть война.
- Так нужно.
- Хуже всех там пришлось пареньку одному.
- Разъедало порой страхом душу ему,
- Как ядом.
- Он шептал: «Пропаду я в ближайшем бою.
- Жизнь свою в одночасье спалю-загублю.
- Враг – рядом!»
- Но однажды во сне пареньку, как живой,
- Незнакомец с широкой седой бородой
- Явился.
- Глянул строго, пронзительно, прямо в глаза,
- «Враг-то рядом, но Бог – ещё ближе!» – сказал
- И скрылся.
- Парню в сердце зашли стариковы слова,
- И они вызволяли не раз и не два
- Из ада.
- Хоть жесто́ка война, у всего есть свой срок.
- И с Победой вернулся домой паренёк,
- С наградой!
- Огневую он честно прошёл круговерть,
- Где горела земля и где жадная смерть
- Косила.
- Если ты – рядом с Богом, Он – рядом с тобой.
- В этом правда святая сокрыта, родной,
- И сила!
«Лежат под кровом трав и тишины…»
- Лежат под кровом трав и тишины
- Ребята, не пришедшие с войны.
- А сверху – белый свет, паренье птиц
- И облака без меры и границ.
- В бессмертье и покой погружены
- Безмолвные свидетели войны.
- А мир… предпочитает дальше жить,
- Безумствовать, смеяться, не тужить,
- Не чувствовать потери и вины,
- Не замечать присутствия войны,
- Своих предательств и чужих угроз.
- И неудобный обходить вопрос.
- Солдаты, не пришедшие с войны,
- О ласковых невестах смотрят сны.
- И голоса несбывшихся детей
- Звенят для них в надмирной пустоте.
- Проплачется невеста. Только мать
- Вовеки не устанет ждать, гадать,
- Что он шептал, идя в последний бой,
- Сгорая в топке Третьей мировой,
- О чём кричал он там, в тисках войны,
- В объятьях трав и дикой тишины,
- Какую тайну до конца постиг
- На пике жизни, в свой последний миг…
«Ну давай о хорошем! Ну хватит уже о войне…»
- Ну давай о хорошем! Ну хватит уже о войне.
- Ведь когда-нибудь этому необходимо случиться:
- В обожжённой пожаром эпохи огромной стране
- Долгожданным победным восторгом наполнятся лица!
- Справедливое солнце – поверь! – непременно взойдёт
- И плеснёт ослепительным счастьем – от края до края.
- Как окурок, потухнет война. Замолчит миномёт.
- И отпустит мужчин из-под смерти передовая.
- Сумасшедшим душистым кипеньем ответит сирень.
- И, букетики радостных слов раздавая прохожим,
- Мы вкусим, словно светлую Пасху, тот солнечный день!
- И не нужно опять о войне. Говори о хорошем!
«Дни несутся, друг друга тесня…»
- Дни несутся, друг друга тесня,
- Но пронзит иногда холодочек:
- Что останется после меня?
- Только горстка мерцающих строчек…
- Что, распахнутая, на ветру,
- В них сказать я когда-то хотела
- И о чём, горячась, на миру
- Вам рыдала, смеялась и пела?
- Жизнь – вскипающая река,
- И – увы – оступиться несложно.
- Но незримая чья-то рука
- Поднимает меня осторожно.
- И однажды, свершив дальний путь,
- Перед Отчим порогом
- Мне останется только вздохнуть:
- «Слава Богу!»
«Запомни этот день. Как чист и влажен воздух…»
- Запомни этот день. Как чист и влажен воздух,
- И рощица берёз прозрачна и свежа —
- Ей скоро принимать грачей в лохматых гнёздах.
- Тебя целует март, беспечная душа!
- Запомни этот день, он вновь не повторится.
- На всём печать весны! И птичья перезвень,
- Врываясь в шум машин, преображает лица.
- Смотри во все глаза, запомни этот день!
- Кто нынче в мир придёт, кто – канет без возврата.
- И эту череду никак не отменить…
- Когда и этот день, как снег, сойдёт куда-то —
- Благослови, что был, за радость просто жить!
«Мирозданье искрило от красок и от голосов…»
- Мирозданье искрило от красок и от голосов —
- Всемогущий лепил из вселенской податливой глины!
- И, настроив сверхчуткие чаши небесных весов,
- Он задумал Свой главный шедевр – человека. Мужчину.
- И бездушная персть мановенье Творца поняла,
- И содеялось диво из праха – Адамово тело.
- Вот с гончарного круга и нежная Ева сошла,
- Неиспорченный солнечный мир оглядев оробело.
- И вдохнул в них Отец трепет жизни и жажду любви.
- Дал свободную волю – бесценное право навеки.
- Непослушные дети не внемлют! Зови – не зови!
- Что же вам не жилось во блаженном раю, человеки…
- Вас, несчастных, за дерзость исторгнул Отеческий кров,
- И всему человечьему роду аукнулось ваше затменье.
- Содрогнулась природа: на чашу небесных весов,
- Точно камень, обрушилось первое грехопаденье!
- С допотопных времён и поныне есть в каждой судьбе
- И сияние горнего света, и горечь отравы.
- Каждый новорождённый имеет наследство в себе:
- Право жить и любить. И свободы опасное право.
- Хоть всё тот же Отец, но весь мир на вселенских весах
- Над открытою бездной раскачивается неприкая́нно.
- Божий свет или морок?
- Душа или прах?
- Тайна…
«Среди людей, где не родство, но тайно разделенье зреет…»
- Среди людей, где не родство, но тайно разделенье зреет,
- Любовь не ищет своего. Она лишь отдавать умеет.
- Тихонько падшего простит (на что сподобится не всякий).
- И милостыньку сотворит озябшим в нищете и мраке.
- Когда, поссорившись дотла, пред ней захлопывают двери,
- Любовь в ответ не мыслит зла. И не бесчинствует, но верит.
- Не превозносится ни в чём. Над суетной молвой смеётся.
- И раздражение её бичом жестоким не коснётся.
- Всё покрывая, в смутный час любовь нам прямо в душу глянет
- И не откажется от нас, не отпадёт, не перестанет!
- Долготерпив её полёт! Но чудна и легка, как птица,
- В скупое сердце не впорхнёт, в лукавый дом не постучится.
- А верным до скончанья лет – тернистый путь да небо в звёздах!
- Необъяснимая, как свет! Необходимая, как воздух!
«И Слово бысть, весь первобытный хаос…»
- И Слово бысть, весь первобытный хаос
- Пронзив насквозь!
- Очнулось время и заколыхалось!
- И началось!
- Миры роились, космос наполняя,
- Во мгле клубясь.
- И малая планета голубая
- Вдали зажглась.
- Преодолев космическую вьюгу,
- Сквозь толщу лет
- Она всё мчит по заданному кругу
- На Божий свет!
- Ей быть землёй любви, а не увечий —
- Не повезло.
- О, сколько слёз и крови человечьей
- В неё вошло!
- А вдруг она, не ровен час, сорвётся
- В разверстый дым?
- Как дар небес нам миг земной даётся —
- Неповторим!
- Есть только он… а время… время мчится,
- Тревожный сон.
- Верни, верни хотя б частицу
- Отцу времён.
«Среди нас, в самой гуще людской, в мире оном…»
Человек с благодарным сердцем никогда ни в чём не нуждается.
Отец Николай Гурьянов
- Среди нас, в самой гуще людской, в мире оном,
- Где мечты – сладкий дым, а лукавые дни – коротки,
- Благодарное сердце живёт по небесным законам,
- Принимая краюху и посох из Божьей руки.
- На неясные знаки беды откликаясь в мгновенье, —
- Неспокойно, щемит и стремится кого-то жалеть.
- И хулу, и паденье способно принять без смятенья
- И в лицо одиночеству без содроганья смотреть.
- Хочет помнить не горечь обиды, но благодеянье
- И блаженно носить отпечаток святой простоты.
- В общем, жить и любить.
- Любоваться цветком мирозданья.
- Благодарное сердце ни в чём не имеет нужды…
Галия Мавлютова
Галия Мавлютова – прозаик, член Союза российских писателей, Союза писателей Санкт-Петербурга. По основной специальности юрист. Работала старшим воспитателем, инспектором по делам несовершеннолетних, старшим оперуполномоченным уголовного розыска, старшим инспектором по особым поручениям. Подполковник милиции. В настоящее время вышла на пенсию по выслуге лет. За период службы в органах внутренних дел многократно удостаивалась престижных российских и международных наград, в том числе премии «За активную борьбу с наркоманией и наркобизнесом». Автор трёх десятков книг, вышедших в крупных российских издательствах. Живёт в Санкт-Петербурге.
Дело житейское.
Рассказ
Разорвётся усталость снарядом в башке,
кровь ударит в виски нескончаемым звоном,
только рифмы, как кони, летят вдалеке,
и уже не угнаться за этим разгоном.
Я ничком повалюсь на разбитый диван.
Что ж, усталость едва ли позорна для воина.
Застоялся в глазах моих красный туман.
Тишина. И твержу я: «Спокойно, спокойно!»
Подожди, телефон, тишину сокруша,
не шурши за окном, дождевая солома.
Серой скрипкой лежит на диване душа.
Не касайтесь её – это тихая кома.
Не касайтесь: и мне не по нраву постель,
И сроднился давно я с работою адовой.
Я – солдат. Я опять надеваю шинель.
Господа! Я вас завтра обрадую!
Евгений Панфилов (10.08.1955 – 13.07.2002)
Парень включил левый поворотник, но по встречной мчался кто-то ненормальный, впрочем, может, и нормальный, просто хочет обойти пробку. Мой же водитель явно не собирался тормозить. Он был уверен, что проскочит под носом у ненормального. У меня гулко ухнуло в груди. Сердце пыхнуло горячей лавой во все клеточки организма и тревожно забилось. Не от страха, нет, от бессилия. Ну почему, почему все неприятности случаются так не вовремя?
– Э-э-э, тормози! Куда разогнался? Жить надоело?
Водитель оглянулся, видно, хотел огрызнуться, но притормозил. Ненормальный встречный умчался. Все остались живы. Кипящая лава внутри медленно остывала. В салоне молчали.
За окном машины творилось, что и должно происходить в начале марта в ледяном Петербурге. Снег ещё не сошёл, глыбы застывшего льда сузили проезжую часть.
– Остынь. Не нужно торопиться. Мы везде успеем! – с показным спокойствием продолжала я, пытаясь разглядеть лицо водителя такси по приложению.
Экономкласс, чего же ты хотела? Скорости, комфорта или как не потратить лишние денежки? Отличная получилась экономия. Сейчас бы врезались во встречный автомобиль, спешащий один бог знает куда. И всё! Что стоит за этим «всё» – знала одна я. Судя по всему, водитель такси не умеет ездить по городским неухоженным улицам. Плохо знает город, а водить ещё учится. И ему всё равно, как ехать. Приложение работает, деньги капают. Можно беспрепятственно лихачить. Даже можно не тормозить перед встречным.
– Ты же видел, у меня нога сломана! – почти выкрикнула я и, смягчая тон, добавила: – И рука тоже.
Парень сбавил скорость и обернулся ко мне. Лицо приятное. Волосы светлые. Нос прямой. Глаза серые. Я по милицейской привычке быстренько нарисовала фоторобот. На всякий случай. Смущала лишь мальчишеская шея. Лет водителю уже к тридцати, а шея, как у подростка, цыплячья, но ему идёт. Я раздражённо поморщилась. Почему в голову лезут всякие дурацкие мысли? Какое мне дело до его шеи? Хоть бы довёз благополучно. А то ведь по скорой привезут, а у меня уже есть два гипса, на руке и ноге. Та ещё ситуация! Не дай Бог!
– А у меня тоже ранение! – радостно сообщил парень, повернувшись ко мне.
– Смотри на дорогу! – снова прикрикнула я, уже понимая, что к чему. – Какое ранение?
– Грудь мне прострелили. Вот здесь, – он ткнул пальцем в область солнечного сплетения.
Я разозлилась на себя. Да, поздно пить «Боржоми». Зачем я ему сказала про сломанную ногу? Он и без того видел, что я с тростью и в гипсе. В двух гипсах. Так и начинаются дорожные приключения. А промолчать нельзя было? Нет, нельзя, это же как-то не по-человечески. Не по-божески.
– «Там» был? – я неопределённо мотнула головой, заранее зная ответ.
– «Там», да! – кивнул водитель и снова прибавил скорость.
Ох, любит парень нарушать правила дорожного движения.
Я молчала, размышляя над превратностями судьбы. Инвалид везёт инвалида. Не смешно. И вроде не до шуток сейчас.
– Списали? – спросила я, опять-таки заранее зная ответ.
Конечно, списали, ранение в грудь, это же не нога и не рука.
В бой не побежишь. Задохнуться можно.
– Да, – он всё улыбался, словно ничего страшного в его жизни не случилось.
Он, наверное, прав. Сейчас за него молодость думает. Парень ещё не испытал последствий тяжёлого ранения. Все основные раны у него впереди.
– Группу хоть получил? – я изо всех сил пыталась поддержать миролюбивый разговор.
Надо же чем-то занять себя в такси экономкласса, поездка в котором превратилась в пытку. Движение застопорилось. Обе полосы безнадёжно застыли. Мы стояли в плотном заторе.
– Не-а! – радостно отозвался водитель и снова повернулся ко мне: – Мама заставляет, а я не хочу.
– Почему? – удивилась я.
Что-то новое у молодых раненых. Парень свою честно заработанную инвалидность не хочет подтверждать.
– А я потом на хорошую работу не устроюсь. Меня же нигде не примут! – Он уже не смеялся.
Парень отвечал резко и отрывисто, словно с кем-то спорил. Но не со мной. С кем-то.
– Ну, в такси-то тебя приняли, – вздохнула я.
И было отчего вздыхать. Дело житейское. Надо поддержать разговор. А то не по-божески. Парень он хороший. Открытый. Целеустремлённый. Жизнерадостный. Но есть в нём какая-то надломленность. Что с ним? Не могу понять.
– А-а-а, это ведь не работа, так, для поддержки штанов, – отмахнулся парень. – Я хочу на хорошую устроиться.
– Инвалидность не помешает. Наоборот, в приоритете будешь.
Я-то знала, что такое приоритеты при приёме на работу. Это тонкая грань между хамством и страхом. В хорошую жизнь трудно пробиться. Туда много желающих. А ведь парень о чём-то высоком мечтает. Им же обещали, что они пройдут мимо очередей при устройстве в гражданской жизни. А попробуй обойти эти очереди. Не пропустят. Стеной встанут. Так и будет парень баранку крутить. А это точно не его занятие. Ещё один такой фокус на дороге – и беда случится. И не только с ним.
– Вторая группа не является препятствием при устройстве на работу. Надо пойти в военную поликлинику и оформить инвалидность. Мама-то что говорит? – Наверное, у него не только мама есть, но и папа. Да кто из них мать и отца слушает?
– Мама заставляет меня, а я не хочу. – Он виновато прикрыл глаза.
Пробка неожиданно схлопнулась, движение возобновилось. Потихоньку-помаленьку мы двинулись дальше. В глубине души я радовалась затору. Лихачить невозможно. Даже по встречной никто не ломится.
– Сделай-сделай, как мама просит.
Я прикрыла глаза. Сердце тревожно билось. Страх ещё не прошёл. Три месяца назад я поскользнулась на гололёде. Неловко завалилась на левый бок. Сломала руку и ногу. Конечности срослись, но заживают плохо. Мучают боли. Но больше всего меня раздражала собственная беспомощность. Я страдала не от боли, не от неуклюжести. От бессилия. Я не могла побежать, не могла сжать и разжать руку. Хотя приспособилась ухаживать за собой без чужой помощи. И то ладно!
– А как ты на СВО попал? – спросила я. – По мобилизации?
– Ну да, – улыбнулся парень.
Улыбка честная, располагающая. Надо бы имя спросить.
– Пришёл военком, прямо домой, говорит, ты у нас неженатый, вот и поедешь на Украину, – ещё шире улыбнулся парень.
– А ты что? – Я покачала головой.
Парень радуется, словно его на Олимпиаду отправили:
– А я что? Я и пошёл. Я же в спецназе служил. Сержант. На тот момент неженатый был. И поехал.
Мимо медленно проплывали автомобили. Впереди нарастал следующий затор. Какая-то тоска поселилась в моём сердце. Эта нескончаемая поездка вымотала меня больше, чем два гипса на конечностях. Если бы знала, ни за что бы не поехала. А ведь меня ждут на светском приёме. Женщины решили собраться в преддверии Восьмого марта. Сегодня мы будем праздновать, веселиться, выпивать. Обещали фуршет. Я долго отнекивалась, но всё же поддалась на уговоры. Жизнь продолжается. В конце концов, никто не виноват в моём временном беспомощном состоянии. Оно пройдёт. И я снова стану бегать как ни в чём не бывало.
– Ты пройди-пройди военно-врачебную, а то потом появятся сложности со здоровьем. Такие раны не заживают.
Не хотелось ему говорить, что скоро увечных станет больше. И внимания к ним станет меньше. Так устроена эта жизнь. У Строительного моста мы снова застряли.
– А какая специальность у тебя была на СВО? – спросила я, изнывая от раздирающей тоски.
Как бы я хотела оказаться дома вместо душного салона такси экономкласса.
– Снайпер я!
Я вздрогнула. Вот это да! Да, да, он же профессиональный спецназовец. Конечно, снайпер. А кто же ещё? И мне стало не только тоскливо, но и зябко.
– И много ты… – я замялась, подбирая слово, – положил?
– Шестьдесят, – ответил он, но уже не столь жизнерадостно. Ну да. Это же человеческие жизни. Чему радоваться?
– Это много, очень много, – пробормотала я, пытаясь представить шеренгу молодых парней из шести десятков человек.
Не получилось представить. Шеренга падала, колени у парней подламывались. Картина распадалась на кусочки. А впрочем, дело житейское. На войне как на войне!
– А они тебе не снятся? – зачем-то спросила я.
Затор рассыпался, движение набирало ускорение. Вдруг парень резко повернулся ко мне. Руль не бросил, но на дорогу не смотрел. Я снова завибрировала. Добром эта поездка не кончится.
– Снятся же, снятся! Каждый день снятся! Ночь каждую. Без перерыва.
Он так и сидел, глядя на меня, а машина браво стремилась вперёд. Сама по себе.
– Тормози! – крикнула я. – Встань вот здесь. Тут свободно.
Он послушно поставил машину между обледеневших сугробов. И всё смотрел на меня. Точнее, не на меня, а куда-то вглубь себя, пытаясь понять, что с ним происходит каждую ночь. Да, он мучается от непонимания. У него всё ясно в голове. Есть цель. Есть понятие о долге и чести. Он солдат. Сказали встать в строй – встал. Но почему теперь снится шеренга из шести десятков человек – не понимает. Надо бы успокоить его. А то пропадёт парень. Потом жизнь возьмёт своё. Его молодость сама всё решит.
– Ты давно приехал в Ленинград? – Я всегда называю город привычным именем, когда волнуюсь.
– А прямо оттуда и приехал. Вышел из госпиталя, женился. Вот, на работу устроился.
– Не выпиваешь? – строгим тоном спросила я.
Совсем как старая учительница.
– Не пью, не курю! – бойко отрапортовал солдат. – Спортом занимаюсь.
– Жену любишь?
Отвечает – не придраться. Что же в нём надломилось?
Ведь не должно бы. Слишком он прямой и без углов. Профессиональный солдат. Такие не ломаются.
– Очень люблю! – И вдруг его светлые глаза слегка повлажнели. – Но каждую ночь просыпаюсь оттого, что душу её.
– Как это? – похолодела я.
Вот он где, надлом! Вот он. Парню плохо. И он не понимает, почему это происходит с ним.
– Да. Мне страшно!
В его голосе сквозило невыразимое страдание, которое он хотел скрыть от меня, от окружающих, от матери. От всего мира. Я содрогнулась и передёрнула плечами. Как же ему живётся? Это ведь мучение. И молодость не в помощь. Дело-то житейское, но не очень. Такой не пойдёт просить помощи. И никому не расскажет о своей беде. А мне поведал потому, что я профессионал по допросам. В уголовном розыске мне приходилось часами разговаривать с подозреваемыми в поисках истины. Да, профессию не отбросишь в одночасье. Я снова передёрнулась и выпрямила спину, вспомнив, что я старший офицер. Отбросив в сторону сентиментальность, отчеканила по слогам:
– Так! Слушай меня внимательно и не перебивай. Я – полковник! И это мой приказ! Ты обязан его выполнить. Завтра же идёшь на приём в военно-врачебную комиссию. И начинаешь оформлять инвалидность. Второе! Вместе с женой вы идёте к психологу. Платному. Ты же не хочешь, чтобы кто-то знал о твоей тайне?
Парень яростно замотал головой.
– Так вот! Ты солдат. И ты выполнишь мой приказ. Если не сделаешь, это останется на твоей совести. Ты же никогда не сдаёшься?
– Нет! – выкрикнул парень, пристально вглядываясь уже в мою душу.
– Как тебя зовут?
– Сергей.
– Красивое имя. Тебе подходит. Твой долг сейчас – исполнить мой приказ. Дальше жизнь расставит всё по местам. Ты понял, что надо сделать?
Ничего красивого в его имени нет. Но надо было чем-то взбодрить надломленного парня. Парень кивнул. Глаза прояснились. Он словно очнулся от странного и страшного сна. Теперь он знал, что делать.
Мы быстро доехали до Большого проспекта на Петроградской. Без пробок и происшествий. Парень выскочил, открыл передо мной заднюю дверь и заученно произнёс:
– Товарищ полковник! – Голос звучал чеканно, без надлома.
Я вздохнула. Вообще-то подполковник. Но для дела житейского можно повыситься в звании. Это ведь не большой грех. Для сержанта и капитан почти как министр обороны. Опираясь на трость, я поковыляла по стаявшим и обледеневшим сугробам, превратившимся в опасные надолбы. Как бы не упасть! И вдруг я оглянулась, словно что-то почувствовала. Сергей внимательно смотрел мне вслед. Нет, не затем, чтобы узнать, в какую дверь я вошла. Он хотел оставить меня в своей памяти. И я ушла.
Это случилось в марте двадцать третьего. Прошло больше года, а я всё думаю, что сталось с этим парнем, Сергеем? Узнать бы.
Удачи тебе, солдат!
Андрей Лисьев
Андрей Владимирович родился в Минске в 1971 году. Окончил Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО. Второе высшее образование – финансовое. Дебютировал под псевдонимом Андрей Афантов с книгой «Сатир и муза» в издательстве «Книговек» в 2012 году. Пять рассказов опубликованы в сборнике «Точки созидания» в разные годы. С 2018 года публикуется под своим именем. Повесть «Копьё прозрения» издана в сборнике «Русская фантастика – 2018» (том 1). Роман «Зима милосердия» издан в 2019 году и стал сотым романом серии «Вселенная метро – 2033». Живёт в Москве.
И каждый метр…
Рассказ
Памяти Героев России Д.Г. Дементьева, А.С. Досягаева, Ж.Н. Раизова
Иван облокотился грудью о бруствер окопа и в сотый раз оглядел лес. Светало. Рыжие сосновые стволы, мокрые от дождя, иссечены осколками и пулями. Вся хвоя осыпалась и густо покрыла воронки: мелкие – от мин, крупные – от снарядов. Бинокль Ивану не нужен: до опорника хохлов метров сто, а может, и меньше. Обе стороны: и русские, и украинцы – тщательно маскировали окопы. От наблюдателей, от снайперов и, самое главное, от коптеров. Второй номер, Гвоздь, потянулся, он сидел рядом на полене и тяжело вздохнул. Гвоздю не пришлось докладывать Ивану, тот сам услышал шорох. Кто-то тронул его за плечо, и Иван уступил место Тёме, пожал командиру руку и сел рядом с Гвоздём на туристический «поджопник», прикреплённый к бёдрам.
Их наблюдательный пункт – двухместный окоп, секторы стрельбы обращены в сторону противника. Недавно танковый снаряд ударил под корень сосны, разметал пригорок, крепкий, грибы такие любят. Воронка вышла несимметричная, ясно же, наш танк стрелял, её и раскопали под НП. Потому с тыла окоп пологий, сверху по-прежнему воронка. Один сектор стрельбы – аккурат под поваленным стволом, второй прикрыт мебельным щитом под толстым слоем песка и хвои. Всё вокруг густо присыпано сучьями. Чужак ненароком обязательно наступит и выдаст себя хрустом. Но сучья от многодневных дождей размокли – не хрустят.
Иван с удовольствием вытянул ноги, скоро рассвет, облачность стала выше, значит, полетят коптеры. Иван ещё раз осмотрел окоп: нишу для боекомплекта – коробки с пулемётными лентами сухие; узкую щель – укрытие от обстрела; щит над головой – не капает. Оператор коптера даже с тепляком не разглядит никого сверху: воронка как воронка, бурелом как бурелом. Весь лес Серебрянского лесничества изуродован войной.
Иван подышал на кончики пальцев, согревая, зимние тактические перчатки он так и не стал носить, обошёлся летними. «Вот и перезимовали», – подумал он. Извлёк из рюкзака термокружку. Чай за ночь остыл, но пить можно.
Тёма сполз спиной по стенке окопа, сел рядом, протянул Ивану картонный планшет, к которому канцелярским зажимом прикреплён лист А4. На листке – передний край, рука у Тёмы твёрдая, рисунок – почти карта. Тёма постарался изобразить и завалы, и перепады высот: любая горка важна. Штрихами обозначены будущие секторы стрельбы. «Значит, в атаку идём, – догадался Иван, – а я только настил на пол НП собрался постелить. И брёвнышек подобрал одинаковых». Гвоздь занял место наблюдателя у пулемёта. Иван протянул Тёме термокружку.
Тёма – командир роты, хоть и сержант. Их предыдущий командир, старший лейтенант Раизов, погиб в сентябре. Герой России посмертно. Тёма пришёл посоветоваться с Иваном, потому что следующим командиром роты быть ему. Комполка Аляска и так выбирал между ними двумя, но выбрал Тёму. Неважно! Место Ивана во второй тройке атакующих. С пулемётом. Первая тройка зайдёт в окоп с правого фланга, начнёт зачищать, двигаясь к центру, навстречу второй штурмовой тройке. Иван с Гвоздём пойдут правее, с ними – Заноза: сейчас он оператор антидронового ружья. Летом таких ружей ещё не было.
Иван посмотрел на схему атаки, нарисованную Тёмой, и уточнил:
– Вот тут лягу, вот тут – видно будет, нет, вот тут лягу, а вот тут мне некомфортно будет. Пусть лучше снайпер работает.
Иван заметил значок снайпера на схеме, но не понял, как тот будет двигаться.
– Усиление будет? – спросил он.
– Миномёт 82-й, «Нона», и танк обещали, – ответил Тёма.
Они, насторожённые, умолкли. Тёма явно хотел что-то добавить, но первым высказался Иван:
– Что-то больно жирное усиление.
– Дело пойдёт – следующий опорник сразу возьмём. «На плечах».
Иван посмотрел на схему – второго ряда хохляцких опорников на ней нет. Надо бы достать смартфон, развернуть приложение с картой. Но никакая топографическая карта не покажет нужных в атаке подробностей. Здесь каждый бугорок важен.
– Ротный опорный пункт развернём, – продолжил делиться планами Тёма.
Иван поморщился:
– А соседи? – он показал правое пустое место за схемой.
– Второй батальон.
– Но у них редколесье.
Тёма махнул рукой, вернул кружку, забрал у Ивана планшет со схемой и сунул его под броник. Они прислушались. Жужжания коптера не слышно, лишь лёгкий ветер качал уцелевшие сосновые стволы.
– Командир, движение на два часа, – доложил Гвоздь.
Тёма и Иван вскинулись: для Гвоздя они оба – командиры.
Но расчищенный сектор наблюдения узок для троих, потому Иван осмотрел передний край вторым.
Силуэт человека, напоминающий ком листвы и хвои, двигался в их сторону короткими перебежками от одного поваленного дерева к другому. Иван заметил длинный ствол с глушителем и понял причину спокойствия Тёмы. Это возвращался наш снайпер.
– Уйгур, – уточнил позывной снайпера Тёма и снова извлёк планшет из-под бронежилета.
Снайпер проскочил мимо НП, бойцы терпеливо ждали, пока Уйгур сориентируется. Наконец тот выглянул из-за сосны, нашёл Тёму взглядом, словно спрашивая: «Можно?» Тёма кивнул. Уйгур на четвереньках переместился в окоп, в его движениях есть что-то звериное и комичное. «Небрежное, – мысленно рассердился Иван, – демаскирует нам НП».
Уйгур напоминал монгола: лицо маленькое, потное, узкие глаза сверкали охотничьим возбуждением. Ни слова не говоря, он у входа в окоп вскинул три пальца. Плюхнулся рядом, пытаясь отдышаться. Тёма протянул Уйгуру планшет.
– Вот здеся, здеся и здеся – чисто, – снайпер показал три секции украинского окопа.
– Начало атаки через десять минут, – объявил Тёма.
Тёма и Уйгур ушли. Гвоздь вернулся на место наблюдателя, а Иван закрыл глаза ещё минут на десять.
Артподготовки не будет? Атака по-тихому?
Метрах в двадцати от наблюдательного пункта прошли трое из штурмовой группы. Иван узнал одного: высушенного брюнета с тёмным злым лицом. Его имени Иван не помнил. Помнил, что штурмовик – мобилизованный, бывший «вагнеровец», два ранения и ни одной награды. Штурмовая тройка бесшумно ушла тем же маршрутом, которым пришёл Уйгур.
Из-за спины появился Заноза с широким, как в фильме о пришельцах, антидроновым ружьём. Из разгрузки Занозы торчала собственная рация.
– Приветствую! – Заноза бережно положил ружьё на дно окопа.
Иван посмотрел на пять кнопок частот чуть выше рукоятки, но спросить, по какому принципу их выбирают, не успел. Еле слышно прошелестели лопасти пропеллера высоко над лесом. Наш коптер полетел работать.
В ста метрах от НП, по украинскому окопу, начали ложиться мины. Выходов Иван не слышал, только прилёты. Земля вздрагивала: расстояние маленькое. С настила струился песок, с деревьев сыпалась хвоя. Начал работать танк. Огнём с закрытых позиций он отсекал возможное подкрепление со второй линии украинской обороны. Иван услышал вторичный разрыв – хлопок гранаты. Значит, мина задела растяжку, которую не заметили штурмовики.
Миномётный обстрел прекратился. Иван с пулемётом наперевес, Гвоздь с запасными коробками бопасов в бауле и автоматом за спиной и Заноза с антидроновым ружьём бегом покинули НП. Их первая точка в тридцати метрах, над головой свистят пули. «Не наши», – порадовался Иван.
– Своя! – он услышал крик бывшего «вагнеровца».
Этим криком члены штурмовой группы предупреждают товарищей о броске гранаты.
Хлопали гранаты, трещала стрелковка.
– Своя!
Иван и Гвоздь перебежали ко второй точке, упали на мокрый песок, установили пулемёт на сошки. Уйгур – красава, хорошие места нашёл. Заноза куда-то делся.
Между первой и второй линиями украинских окопов находились одиночные ячейки, откуда обстреливали бойцов, штурмующих первый опорник. Из-за деревьев появились фигуры в камуфляже – это украинское подкрепление. Двигались грамотно, от укрытия к укрытию, стрелки из одиночных окопов прикрывали их огнём.
– Граната!
Таким криком десантники предупреждают своих о гранате врага. Иван посмотрел влево. Боец за шиворот тащил из украинского окопа раненого. Вторая тройка штурмовиков спустилась в обмелевшую траншею. Где-то дальше в одиночку дрался «вагнеровец». «Таха!» – вспомнил Иван его позывной.
Иван сделал глубокий вдох, такой же глубокий выдох и, спокойный – их позицию ещё не обнаружили, – открыл огонь по зелёным фигуркам, мечущимся между стволами сосен.
Отстреляв магазин, он покосился влево: над украинской траншеей мелькали лопаты. Десантники захватили опорник и сейчас копали новые боковые ответвления от траншеи. Дело в том, что окопы пристреляны украинской артиллерией с точностью до метра и необходимы новые укрытия. Никто из украинцев из первого окопа живым не вышел.
Украинцы из второго опорника не успели прийти на помощь первому: Иван с Гвоздём отработали хорошо. Уцелевшие отходили назад; те, кто их прикрывал из одиночных окопов, убегали следом. Мины парами падали среди сосновых стволов там, где располагался второй опорный пункт.
Иван всматривался: что-то его беспокоило. В самом деле, второй опорник оказался в низине, мины и танковые снаряды сорвали маскировку с брустверов, и секторы стрельбы стали чётко видны. Иван поменял позицию и открыл огонь по каскам натовского образца, то и дело мелькающим над украинской траншеей. На касках – ярко-зелёные нашлёпки.
– Вперёд! – скомандовал Тёма и первым выпрыгнул из захваченного окопа.
Миномётный обстрел прекратился.
До второго опорника метров сто, может, сто двадцать, одиночные стрелковые ячейки пусты. Иван понял намерение командира. Пока украинцы не пришли в себя, можно захватить и второй опорник, раз уж они его так по-дурацки выкопали. Иван подхватил пулемёт и побежал вперёд. Рядом мчался Гвоздь.
В атаке должны участвовать восемь штурмовых троек, кто-то наверняка ранен после первой атаки, кто-то должен остаться в боковом охранении. «Я?» – мелькнуло в голове Ивана.
Второй окоп рядом. По ним стреляли, но Гвоздь одну за другой метнул четыре гранаты. Первая – недолёт, вторая – перелёт, но дальше товарищ приноровился, успокоился, третью и четвёртую гранаты положил аккуратно в траншею. Иван короткими очередями бил по каскам украинцев, но они сместились левее, ближе к центру опорника.
Иван отбежал метров на двадцать правее, выбирая позицию для пулемёта. Товарищей придётся прикрывать от возможного флангового удара. Сверху, цепляясь за сучья, упал коптер. Наш? Подавили?
Иван оглянулся и увидел Тёму.
Тот, высунувшись из окопа в полный рост, обернулся к своим отставшим десантникам и крикнул:
– Эй! Я уже здесь!
Пуля ударила его в ухо. Ивану показалось, что каска на командире стала мягкой, подобно яичной скорлупе. Он хотел было сплюнуть, но вдруг ощутил себя на земле уткнувшимся лицом в песок. В ушах звенело. Он поискал руками пулемёт. Гвоздь рядом что-то кричал.
К Ивану вернулся слух. Опорник перемешивали огнём из пулемётов: похоже, било что-то крупнокалиберное.
– …мешок! – услышал наконец Иван крик Гвоздя.
Второй опорный пункт оказался ловушкой. В низине, окружённый пулемётными гнёздами, простреливаемый насквозь.
Иван развернул пулемёт вправо, оставляя опорник за спиной. «Справа должен идти второй батальон, – подумал он. – Продержимся».
Пуля прошила правую руку навылет, задев кость. В глазах Ивана потемнело. Снайпер. Тёму тоже убил снайпер. «Я уже не боец». Это понимал и Гвоздь, он схватил товарища за карабин, который у всех крепится сзади к бронежилету, повалил на спину и потащил. Но недалеко. Буквально метр.
– Я сам могу! – крикнул Иван.
Но Гвоздь его уже и так никуда не тащил. Чтобы понять, что произошло, Иван, опираясь на здоровую левую руку, сел и обернулся. Пулей Гвоздя отбросило на полтора метра, и это был больше не Гвоздь. Бывший секунду назад Гвоздём десантник лежал на спине, и лба у него не было.
«Снайпер!» – чуть не плакал Иван. Он смотрел на оставшийся в ногах ПКМ: пулемёт стоял на сошках. «Сейчас я!..» Иван мысленно готовился стрелять левой рукой, представляя, как прижмёт приклад пулемёта к плечу, как нащупает предохранитель… «Откуда стреляет эта сука?»
Иван оглянулся, но боль в простреленной руке застилала глаза. «Ага, вроде оттуда, – определил он. – Сейчас я тебя…» Опираясь на здоровую руку, он двинулся к пулемёту, встал на четвереньки. Очередная пуля пробила левую руку в том же мес те, что и правую, – у самого плеча. Удар сильный – Ивана перевернуло и бросило навзничь. Пулемёт – вот он – в тридцати сантиметрах, невредимый. Приклад, такой родной… стоит на песке. Но рук дотронуться до оружия нет.
Ещё одна пуля пробила левую руку в трёх сантиметрах от предыдущей и уткнулась в пластину броника. «Издевается, сука, – подумал Иван о снайпере, – сейчас добьёт». Он услышал свист мины, сто двадцать миллиметров. «Моя?!» Мина вонзилась в тело Гвоздя, что лежал справа на расстоянии чуть больше метра, и разорвала его. Гвоздь принял на себя бо́льшую часть осколков и взрывной волны, а Ивану досталось совсем немного: горсть мелких осколков впилась в правый бок, туда, где нет пластин в бронежилете. Словно раскалённый нож медленно вошёл в почку, глубже, до кишечника, и провернулся. А уже свистела новая мина. Сейчас всё кончится! Но мина упала чуть дальше. Иван больше не чувствовал боли в простреленных руках, вся боль сосредоточилась в животе. «Держись! Ты не умер сразу, не потерял сознание – значит, осколки фигня, терпи! Боль отступит! Снайпер потерял к тебе интерес».
Комья земли от близких разрывов сыпались на каску, на лицо, на бронежилет, на ноги… Присыпало сильно. Накрыло как кисеёй. Иван открыл глаза, но, запорошенные песком, они слезились, и он не видел неба, лишь тени безголовых сосен над головой.
«Сейчас я усну!» Ноги тяжёлые, тянули вниз, в глубь земли. «Вот и хорошо». Он вытянул ноги, словно на кровати. Земля впитывала кровь из ран Ивана. Земля казалась мягкой и упругой одновременно. Ни один сучок не впивался в спину, он погружался. «Земля! – радовался Иван. – Она больше не липкая, противная грязь. Земля! Родная! Принимай!» Иван часто моргал, пытаясь избавиться от песка, попавшего в глаза. Небо стало голубеть, вот-вот рассвет. Тени сосен ускользали в сторону.
«Полетели! – скомандовал себе Иван и закрыл глаза: – Сейчас я усну! И наконец отдохну!»
Боль отступила, стала ноющей, убаюкивающей. Иван сделал глубокий вдох, преодолевая тяжесть броника на груди, и такой же глубокий выдох. Бронежилет больше не давил. Иван улыбнулся. Всё!
«Я же умер». Иван очнулся от необычного ощущения вдоль целого левого бока. Что-то с шелестом скользило мимо него, а он этому чему-то мешал, весь такой тяжёлый, большой и живой. «Я живой…» Пульсирующая ноющая боль в руках напомнила о пулевых ранениях. «А живот? Про внутренности лучше не думать, сколько из меня крови вытекло? Сейчас шевельнусь, и меня добьёт снайпер, – подумал Иван и решил ещё поспать. – Вокруг тишина: ни арты, не стрелкотни. Может, я всё-таки умер? А что за фигня скрипит рядом, спать мешает?»
Иван открыл глаза. Те же сосновые стволы склонялись над ним, серое неб о в вышине. Перед смертью небо гол у бело. Сколько же сейчас времени? Мысль о часах на запястье отдалась болью в левой руке. Лучше не шевелиться! И не думать об этом! Ещё немного отдохнуть. Иван закрыл глаза и прислушался.
«Где я? Опорник в огненном мешке наши вряд ли удержали. Значит, я у хохлов? Они б меня прикопали, чтобы не вонял». Нос заложило, Иван посопел, высморкался, пытаясь прочистить нос. Начало крутить болью внутренности. Он замер в надежде унять её. «Да, пахнет мертвечиной. В отрубе я пролежал прилично. Снова клонит в сон. Ты дурак? Какой сон?» В плечо уткнулось что-то костлявое. Иван открыл глаза. «Мавик-3», без тепляка, весь изломанный, перемазанный в грязи. Оператор предвидел, что коптер подавят РЭБом, и, чтобы не увели, привязал его леской. Сейчас тянул по кустам, сучьям и окопам к себе. А чей коптер? От «мавика» отломался очередной крошечный пропеллер, зацепившись за плечо Ивана, но коптер двинулся по песку дальше. Ухватиться бы за него, записку написать, попросить о помощи – да нечем! И потом, чей это коптер? Обе стороны используют китайские игрушки, обе стороны применяют РЭБ, обе стороны привязывают дроны леской, если лететь на разведку недалеко. Может, в степи это и уместно, а здесь, в лесу, фишка бесполезная.
Иван пытался вспомнить, в каком направлении наши. И вдруг понял, что чудовищно замёрз! Пулемёт у ног – значит, ползти надо назад. От пулемёта. Ползти? А как встать без помощи рук и не используя пресс? Иван думал. Левая рука измочалена двумя пулями, правая – одной, но справа осколки в боку. Иван прислушался к себе: какая из ран болит сильнее? Один чёрт! Надо пробовать!
Он попытался перевернуться на левый бок, вышло это с трудом. Ивана прилично присыпало землёй от разрывов. Больно! Иван закусил губу, стараясь утопить перебитую левую руку поглубже в рыхлый песок, сучил ногами, пробовал прижать колени к груди. Стылая спина не гнулась. В глазах темно. Он дождался, пока боль утихнет, пока вернётся способность соображать. Нет, это не в глазах темно – это вечерние сумерки. Через несколько минут Иван упёрся лбом в землю, перевернулся и подсунул левое колено под себя, поставил ногу на стопу и… толчком встал, балансируя, стараясь распределить боль в животе на обе ноги. Кровотечение возобновилось. Кровь потекла по бёдрам в берцы. Надо поспешить. Иван оглянулся, увидел опорник хохлов. Первый, захваченный утром. Искорёженные снарядами траншеи. Наши – дальше. «До моего НП метров сто двадцать. Не дойду!» Он шагнул и пошёл, слабея с каждым шагом. Девять шагов! Испарина на лбу, которую не утереть.
– Стой, кто идёт!
Иван завертел головой: откуда кричат? Крик на русском без акцента. Свои?
– Стой, стрелять буду!
Иван прохрипел в сторону темнеющего входа в блиндаж. Два наката брёвен поперёк траншеи, вот и весь блиндаж. Слова не шли из пересохшего рта. Иван сипло выдохнул и прошептал:
– С-с-свои-и-и…
– Кто свои? Позывной?
– Саноса, ты?
– Ваня? Живой!
Иван, подавшись вперёд, чуть не упал в окоп:
– Да!
Споткнулся о тело убитого. В вечерней тени не понять, наш или украинец, но падать нельзя! И Иван устоял. Обошёл покойника.
– Иван! Ты сам как-нибудь, а? – попросил Заноза.
Иван не ответил. Лицо оператора антидронового ружья белело в темноте блиндажа.
– Мы раненые тут все, неходячие, – сказал Заноза.
Вход в блиндаж загораживали два мертвеца, сложенных друг на друга.
– Обезбол есть? – шёпотом спросил Иван, переступая через убитых, и оказался внутри.
Три пары обутых в берцы ног торчали из темноты, шевелились. Живы! Заноза сидел у входа, привалившись спиной к бревенчатой стенке. Обе его ноги выше колен были перехвачены жгутами, бинты поверх штанов почернели от крови. Бледный, как смерть, Заноза баюкал автомат:
– Нету!
– Найди обезбол в моей аптечке. Я не могу, – попросил Иван, усаживаясь поудобнее.
Ноги опять тяжёлые. Иван закрыл глаза. Почувствовал копошение у себя на поясе: Заноза рылся в аптечке Ивана. Потом в бедро впился шприц.
– Ты, если можешь идти, уходи, – в словах Занозы прозвучала неясная горечь.
– Не дойду.
– Если у тебя только руки, дойдёшь.
– У меня живот, – Иван обнаружил, что сидит в луже собственной крови.
– Мы хохлов ждём, – хриплый незнакомый голос из темноты.
Иван присмотрелся. На Занозе не было бронежилета. А в левой ладони товарищ зажал гранату. Кольцо на месте.
Заноза покосился на висящие, как плети, руки Ивана:
– Когда придут, ты меня грудью накрой. Вместе подорвёмся.
– Вместе, – согласился Иван.
Он видел время на часах Занозы: выходило, что провалялся в лесу девять часов. Вот и вышел к своим. А толку? Всё равно помирать. Промедол начал действовать.
– Аляска – сука, – вспомнил командира полка ближайший раненый, – загнал нас в ловушку.
– С коптера не видна глубина окопов, – возразил второй, – он мог не знать.
– Не жалко им нашего брата, – застонал третий.
– Это преступление… – У первого раненого перехватывало дыхание, в горле у него что-то булькало, но он продолжил: – Нашего первого комбата помните как убило? То же самое было. Атака на неподавленный опорник. Все ж слышали в эфире, как комбат, царствие ему небесное, Аляску трёхэтажным обкладывал.
– Но комбат пошёл… – не согласился второй, – и подвиг свой совершил, пацанов не бросил, спас.
Иван боролся с ускользающим сознанием. Потряс головой и на всякий случай уточнил:
– Меня слышно?
– Да, братан, – откликнулся третий, который лежал в самом дальнем углу.
Иван не видел их лиц, не узнавал голосов, хотя первого вроде должен знать, ведь Иван тоже был под Васильевкой.
– Мы все – человеки… А человек ошибается. Разница лишь в том, кто сколько на себя берёт.
Иван у молк, ему ник то не возражал, и потом у он продол ж ил:
– И цена ошибки у всех разная. Снайпер ошибся – одна цена, взводный ошибся – другая.
– И цена ошибки – жизни, – перебил второй.
