Там, где дует сирокко
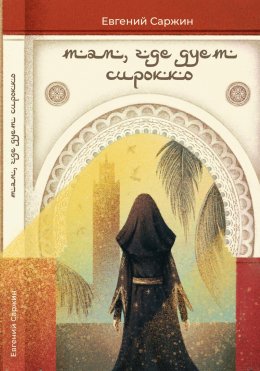
Три года, как умер Махди1. А мир не пришёл после этого к своему концу, как бы этот конец ни возглашали бородатые уличные пророки в немытых галабиях, пока избранный Воздающим лежал на смертном одре. Просто, когда его сердце прекратило биться, он умер, как умер бы и самый обычный человек. А мир продолжил жить уже без Него.
И вот теперь в затерянной среди раскалённых песков Тиджикже, где провозвестник восходящего солнца некогда увидел свет, поднялись новые минареты, а к Его гробнице потянулись паломники, нечестиво называя своё паломничеством «хаджем».
Забыли, забыли, что значит истинный хадж, и куда должен раз в жизни отправиться правоверный.
Хотя, что вообще не забыли и не вспомнили опять, но уже на новый лад, за три последние десятилетия? Мир не тот, что когда-то был, и старым людям так трудно узнать прежние улицы, песни, молитвы.
Но Даулят-аль-Канун, Государство Закона, величественное здание, в каждом кирпичике которого частица грозной воли Махди, по-прежнему стоит единственным оплотом веры в океане нечестия.
Здесь у нас, на его окраине, на выгрызенном у неверных клочке суши посреди морских волн это ощущается особенно остро. К северу – заражённые, заброшенные земли, уродливый шрам отгремевшей четверть века назад Большой Войны. А дальше… А дальше то, что могут называть в новостях по-разному, но люди между собой именуют не иначе как Беззаконные Земли. Когда-то там жили ахль-аль-китаб2, люди Книги, которых можно было понять – все-таки, они поклонялись настоящему Пророку, хоть и ложно трактуя его слова. А теперь… теперь наименование «люди Книги» к ним больше не подходит. Потому что не осталось в их мире Книги, как не осталось и… Да что, собственно, вообще осталось?
Сюда, на окраину Государства Закона, слухи о жизни Беззаконных Земель доходили редкими каплями бьющегося о скалы моря, каплями, которые обжигали мучительно-сладким холодом. Там, по ту сторону моря – утверждалось в этих слухах – происходило непотребство. И люди жили так, что их и кафирами-то уже назвать было нельзя, ибо они творили то, что не подходило под определение «куфр», грех. Не знал такого Кур’ан, ибо не знали о таком древние пророки, потому и слова подходящего не придумали.
Люди по ту сторону отказывались от фитра, самой своей природы, сотворённой Аллахом, и не называли себя больше ни мужчинами, ни женщинами. Надругавшись над естеством, меняли свои тела, а вместе с телами и разум. Создания эти проводили дни и ночи в мучительно новом, непостижимом мире, где все известные человечеству пороки удесятерялись, и изобретались прежде невиданные. А устав от безумных наслаждений, они с восторгом принимали смерть, смерть нечестивую, без молитвы и мира в сердце.
Рассказы об этом наполняли души правоверных ужасом и смятением. Но если кто-то отшатывался от бездны, то другие оставались на её краю, всматриваясь к клубящуюся внизу мглу, как заворожённые.
Но «если ты долго будешь всматриваться в бездну, бездна начнёт всматриваться в тебя», сказал один из неверных когда-то (не спрашивайте, откуда ведомы мне его слова), и таких, зачарованных бездной, у нас совсем не мало.
И в сравнении с ними, смотрящими на мерзость как кролик на удава, каким привычным и домашним кажется тот грех, которому предаются честные, но слабые плотью правоверные в помеченных синим фонарём кварталах!
Мадина
Глава первая
Послеполуденное солнце заливало овальный дворик байт-да’ара3 упрямым жаром, и куцая тень навеса, под которым примостились обе девушки, крала свет, но не давала прохлады.
Впрочем, Замиль и не стремилась к прохладе – она просто о ней не думала в это время. Нет, зима на Острове случалась зябкой и сырой, но лето… каким ему ещё и быть, как не раскалённой печкой. «А мы как ягнята, насаженные над этой печкой на вертел», – подумала она и отпила глоток кофе.
Напиток, помимо привычной горечи, отдавал померанцем, и Замиль смаковала его с болезненным упоением. Жар августовского дня, удушливая дымка, висящая над камнями, и горячий кофе, который она прихлёбывала мелкими глоточками. Все остальные девочки считали, что надо быть оглашенной, чтобы пить его в такую погоду. Все… наверное, даже Джайда, которая так отчаянно пытается быть как она.
– Всё-таки жарко, – в такт её мыслям Джайда вздохнула и вытерла пот со лба. – И почему бы нам не зайти обратно в дом? Может, там мы примем душ и хоть немного…
– Возле душа сейчас очередь, – равнодушно оборвала её Замиль и повела взглядом, убеждаясь, что они одни в раскалённом дворике за резным забором. – Послушай, Джайда, у меня к тебе есть вопрос…
Джайда вскинула голову, и Замиль, в очередной раз и как всегда – с чувством лёгкой досады, подумала, как же щедро природа одарила её товарку. Джайда напоминала африканскую маску из тех книг, которые так любил разглядывать её отец. Чёрная кожа, гладкая, как лакированное дерево, безупречная линия скул, совершенные овалы глаз, нос, словно вылепленный лучшим скульптором… и Замиль с досадой подумала, что ум и красота редко ходят парой. Впрочем…
– Ты говорила про тех мужчин, что приходили к тебе в понедельник, – мягко, как могла, сказала она, – что подарили тебе чехол для наладонника и что-то там ещё…
– И ожерелье, – с готовностью откликнулась Джайда, – но ты знаешь, Замиль, они, хотя и щедры, но какие-то… странные. Оба. Курят много кефа и, обкурившись, несут такое…
Замиль нахмурилась, пытаясь понять, правильно ли перевела слово «несут» – Джайда, малийка по крови, выросла в Марокко и несмотря на все усилия так и не смогла толком овладеть островным наречием. Она говорила с сильным марокканским акцентом и то и дело вставляла в речь словечки из дарижа4.
– Так значит, они много курят, – девушка потёрла подбородок. – Скажи, а берут они с собой свой наладонник? Говорят ли по нему при тебе?
– Да, я видела у одного из них наладонник, – подтвердила Джайда, взяла чашечку кофе, отхлебнула и, не удержавшись, сморщилась, – а почему ты спрашиваешь?
– Так, просто, – Замиль улыбнулась. – Никогда не знаешь, кто придёт к нам в наш прекрасный дом. И так странно, что мужчины, которые правят этим Островом, а может, и не только им, раздетые ничем не отличаются от любых других.
Джайда только моргнула, явно не понимая намёка. Да, не всегда даётся одной женщине и ум, и красота одновременно, но ей, благодарение Аллаху, повезло. Идя вниз по улице к скверику, Замиль невольно скривилась от последней мысли. Она давно знала, что не верит, не верит ни во что из того, что видит, но полностью изгнать из мыслей и слова, и образы, которые её окружали, не получалось. Это впитывалось, как загар, которым красило средиземноморское солнце, каждое лето делая её бледную кожу, столь распалявшую их лучших клиентов, покрасневшей и шелушащейся. Зарият всегда ругалась, если видела это, но… но сейчас дело в другом.
Шейхи снова будут тут. Замиль, конечно, не знала точно, что эти люди шейхи, но была почти уверена в этом. Уж разбираться в том, как выглядят мужчины, вкусившие власти, она немного научилась – сложно не замечать этот отпечаток на их лицах, это облако высокомерия, которое, кажется, обволакивает каждое их движение. И вот…
Она оставила позади переулочек, где примостился их байт-да’ара – дом греха, или отдохновения, как лицемерно говорила о нём сама Зарият. Дом, куда добропорядочные и состоятельные горожане из «новых людей» Острова могли прийти, когда их семейная жизнь становилась слишком уж размеренной и скучной. Чтобы посмотреть на жаркие танцы в древнем левантийском стиле – так, по крайней мере, значилось в программе. Ну что ж, танцы – значит танцы. Но до вечерней программы у неё ещё есть время.
Сейчас Замиль шла по узкой улочке, которую с обеих сторон подпирали высокие заборы. Нехороший район, с усмешкой подумала она, район, куда просто так не забредёт истинный махдист. Потому что за заборами здесь не добропорядочные семейные очаги, о нет, что угодно, но только не это.
Но в этом был и плюс: её платье кричаще синего цвета, где и покрой, и узоры выдавали в ней непотребную женщину, её закрывавший лицо платок, который нельзя было даже называть никабом, чтобы не оскорблять правоверных – всё это не привлекало здесь особого внимания. Где и бродить таким потерянным, как она, если не здесь – по окраине Мадины, району, при упоминании о котором набожные махдисты морщились, как будто повеяло с помойки.
Но здесь было не так и плохо – например, кто-то разбил скверик. Скорее всего, он остался от старого города, старого времени. Пройдя мимо витых металлических столбиков на входе, Замиль воровато оглянулась, а потом, проведя рукой, отсоединила никаб. Никого, и она может постоять с открытым лицом в тени лимонных деревьев, вдыхая их горьковато-пряный, словно омывающий ноздри, аромат.
Скверик был небольшой – не более пятидесяти метров в поперечнике, потёртые скамеечки с витыми ножками почти потерялись среди разросшихся кустов. Откуда-то раздавалось тихое журчание фонтанчика.
Девушка сделала к нему пару шагов, раздражённо поводя плечами, к которым противно липла казавшаяся сейчас очень тяжёлой ткань её платья. Найек5, да жара такая, что хоть ходи голышом! Как будто для неё, ублажающей вечерами женатых мужчин, это будет большая потеря!
На деле же она только и могла, что отцепить свой намордник, и то потому, что в скверике не оказалось людей. Замиль ещё раз мысленно выругалась, и вдруг до неё долетел звук мотора и шорох шин по пыльной дороге. Кусты закрывали улицу по другую сторону скверика, но было слышно, что кто-то паркует там автомобиль. И не то чтобы это было странно – время повернуло к вечеру, к весёлым домам будут сходиться гости, но девушка вдруг почувствовала укол любопытства. Как, интересно, они выглядят в свете догорающего дня – те, кто пялится на неё, танцующую, сальными глазками, кто требует, чтобы она ложилась перед ними и… Не успев ещё подумать, стоит ли ей это делать, она резко пригнулась, так, чтобы из-за кустов её силуэт не был виден, и на корточках поползла к ограде. Колени и бедра сразу же заныли, на спине опять проступил пот, но Замиль стиснула зубы, сообразив, что подняться теперь уже будет опасно. Пусть она ещё ничего не услышала, оправдаться, что и не собиралась подслушивать, ей будет тяжело. Для многих мужчин на Острове, особенно из тех, что носят черный перстень на мизинце, женщина всегда будет виновата.
Между тем послышались голоса. Кто-то вышел из припаркованного автомобиля, людей было как минимум двое. Ругаясь сквозь зубы, Замиль примостилась за грабом в каком-то полуметре от ограды. Заметить её тут было почти невозможно, зато ей, по крайней мере, будет слышно.
За ветвями мелькнули белые пятна – мужчины, одетые в галабии. Она невольно скривилась. Чаще всего приходившие к ним люди носили одежду усреднённого островного покроя, похожую на тунисскую и, собственно, от неё происходящую. Просторные джеббы не стесняли движений, штаны же легко поддёргивались, если нужно было сесть или нагнуться. В этой одежде невольно сквозил XXI век даже у них, на их Аллахом проклятом Острове, последнем форпосте нового Халифата. Галабии из местных надевали самые ярые – те, кто воспринимал каноны нового учения всерьёз, те, кто каждым шагом и каждым жестом желал показать свою верностью новому миру. Хуже были только фанатики из западной Африки в лиловых линялых бубу6, но те вообще…
– …ещё раз говорю, не называй меня так. Лучше вообще не вспоминай настоящие имена. Здесь я Рахат, и всё остальное тебе стоит вообще забыть.
– Когда шейх Мохтар ульд…
– Нет, ты правда бываешь ослом, когда пожуёшь немного зелья, Хашим, – в голосе того, кто просил называть его Рахатом, зазвучало раздражение. – Ещё раз тебе говорю…
Далее он понизил голос, и до уха Замиль долетели только отдельные слова:
– …решится в эти… шейх… когда узнают… пакистанцы будут…
Ничего интересного, с некоторым разочарованием подумала она, просто два деловых человека в очередной раз обсуждают сделки и интриги, которые их сопровождают. В их байт-да’ара языки торгашей, осоловелых от зелий и разжигающих жар танцев, нередко развязывались, и она наслушалась всякого: от рассказов о контрабанде и запрещённых кулачных боях до заказных убийств. Ей не хотелось слушать это ещё и здесь, но подниматься уже было поздно, иначе мужчины бы поняли, что она их подслушивала, и разгневались. Гнев мужчин вообще опасен для женщин на землях Даулят аль-Канун, а уж для таких женщин, как она… и вдруг до неё долетело слово, которое словно бритвой резануло слух, и Замиль задохнулась, всё так же сидя на корточках.
Газават7.
Один из мужчин это произнёс, кажется, тот, который настаивал, чтобы его звали Рахатом.
Слово, в котором звучало…
– …долго медлили, но наконец готовы, чтобы… – далее она опять не расслышала несколько слов, но потом прозвучало: – Тогда, иншалла8, мы вернёмся обратно и сметём грязь… этот, как его… Салах…
Газават. Мужчины продолжали о чём-то говорить вполголоса, но напряжённость беседы стихала. Вот один, кажется, хлопнул другого по плечу, и Замиль увидала, как обёрнутые в куфию головы качнулись. Они опять двинулись вперёд – как стало ясно, к байт-да’ара. Впрочем, куда ещё можно идти по этому проулку. Но Замиль так и сидела на корточках, словно не замечая, как ноют затёкшие ноги и пот назойливыми струйками щекочет спину. Пот от жары или от воспоминаний, которые разбудило случайно услышанное слово.
Ужас, который оно в ней будило, был тем страннее, что никакого газавата Замиль не помнила – последние его сполохи догорели за два года до её рождения, да и проходил он, в основном, вдали от мест, где она жила. Газават, Великая война, сотрясшая мир, не только похоронившая десятки (или сотни?) миллионов людей, не только перекроившая границы. Это была Война, которая просто отменила старое время, перевернула его, как прочитанную страницу. Жадность, с которой Замиль собирала все сведения о Старом Времени, была столь же болезненной, сколь бывает у других пристрастие к гашишу. В новом Халифате вообще хмурились на слишком явный интерес женщин к ненужным для них вещам, но у Замиль было преимущество – её отверженность и одиночество. Никакой мужчина не стоял над ней, проверяя её благонравие, никому до неё не было дела в том, что не касалось танцев и утех. И Замиль отдавалась свой страсти с яростью одержимой – вновь и вновь, в закрытых кофейнях, доступ куда покупали возбуждающие пилюли или запретные ласки, она погружалась на темную сторону Зеркала – и упоенно читала о том, что было до войны. Зеркало называли Интернетом, и это было совсем недавнее изобретение. С его помощью люди могли связаться с жителями любой точки мира, словно границ не было вообще – одно это плохо укладывалось в голове. А в том мире… и она жадно собирала его осколки. Вот улицы, по которым текли толпы народа, мужчин и женщин, одетых в яркие одежды…вот огромные залы кинотеатров, где девушки обжимались с парнями и смотрели те фильмы, которые хотели сами, не заботясь о мнении Шура-аль-канун… вот рестораны, где можно было есть то, что ты захочешь, вот бары, где подавали алкоголь (Замиль несколько раз пробовала из-под полы домашнюю граппу, но больше об алкоголе не знала ничего), вот… вот та жизнь, которая могла бы быть у неё. Которую перечеркнуло мрачное, тягостное, кровавое безумие. Война, расколовшая мир на До и После, оставившая по себе дымящиеся остовы разбомблённых домов, закрытые аэропорты, заражённые земли, моря, в которых тонули катера с новыми и новыми беженцами.
Война, в горниле которой родился другой мир, единственный мир, который был у Замиль – из которого она так страстно мечтала вырваться.
Глава вторая
Салах знал, что, увидев его, эти люди кривятся от презрения. Для него это было такой же данностью, как и то, что вода в море мокра, а ночи в его родной пустыне пронизывающе холодны. Такова жизнь.
И он поддёрнул свои штаны ещё раз. Абдул спрашивал его, почему не купить себе нормальную одежду. Под «нормальной одеждой» тот мог подразумевать что угодно – платье торговцев Мадины и прочих уважаемых людей Острова, шитую под заказ галабию. Или – Аллах его ведает – даже те жуткие тряпки, в которых щеголяли некоторые его земляки, лиловые или зеленоватые бубу. Как же, одежда самого Махди, дыхание священной земли…
Но ему хватило этого дыхания ещё дома, альхамдулиллах9, традиций в его жизни было достаточно. Ещё во время работы в Нуакшоте он оценил неброскую практичность одежды назрани: свободно висящих джинсов и широких рубах из той же ткани, футболок и этой обуви… как там они называют её? Кроссовок. Здесь, на Острове так сейчас ходили «старые люди», которым позволили прозябать в своих заблуждениях, рассудив, что ложная вера лучше, чем никакой, да работяги, которым важнее была одежды, не путающаяся в оборудовании. Ну а он-то кто?
Нет, конечно, и он мог, как это делал Абдул, снимать пропахшую машинным маслом и морским запахом рубаху и одеваться как уважаемый человек. Тогда бы презрение в обращённых на него взглядах исчезло, по крайней мере, до тех пор, пока люди бы не узнали о его ремесле.
Да, на него бы смотрели сейчас совсем иначе, прикинься он, пускай только по одёжке, одним из них, но что ему до того? Или он не видел, как все эти лощёные торгаши, такие набожные и верные Обновлённому Учению на словах, заказывали у него запретные программы или просили перевезти их детей через границу? Или не видел, как они приходили в байт-да’ара, с ханжеской стыдливостью снимая черные кольца с мизинцев возле входа? И это им его судить?
И Салах спокойно опирался локтем о подушку, перебирая пальцами другой руки чётки, и с полуулыбкой рассматривал собиравшихся вокруг гостей.
Комната – общая, на допуск в другие он не покушался – была обставлена в том же лицемерном стиле, которым отличались все заведения такого рода – попытки сочетать требования Обновлённого Учения с намёками на запретные удовольствия, блага современного мира с потугами воссоздать дни славы Халифата. Ложа для гостей и тут же круглые магнитные батареи, где они могли подзаряжать наладонники, песочные печки, на которых им варили кофе по-турецки, и блендеры, смешивавшие фрукты со льдом в прохладительную смесь. Люди только начинали собираться, и кроме него на лиловых подушках отдыхало всего пять или шесть человек, одетых как состоятельные горожане. Но вот полог на двери качнулся, и звякнули украшавшие его колокольчики.
– Ис-саламу-алейкум, Рахат, – услышал он вкрадчивый голос Зарият, – ты опять решил развеселить моё старое сердце!
Скосив глаза, он увидел, как толстая Зарият всплеснула руками, приветствуя новых гостей. Двое мужчин как раз встали в дверном проёме, вальяжно, с хозяйским видом оглядываясь по сторонам. Их белоснежные галабии, сшитые так просто, что за этой простотой угадывался индивидуальный заказ в лучших мастерских, казались снегом на горных вершинах Атласа.
– Салам, красавица, – заговорил один из них, и от звуков его голоса Салах вздрогнул и вскинул голову, пытаясь рассмотреть лицо говорящего, – редко какое место во всей благословенной Мадине, веселит меня так же, как…
Человек продолжал что-то говорить, произнося слова как житель северного Туниса, а Салах, замерев на пару секунд, опустился обратно на подушку с кривой усмешкой. Лицо вошедшего было плохо видно, но и голос, и манера речи, и стать не оставляли сомнений. Быстро же увиделись. И где!
– Мятный чай, макруд и кат10, – обрывисто сказал второй, так и не ответивший на приветствие Зарият. – Достаточно, Рахат!
Поперхнувшийся на полуслове, его спутник двинулся вслед за Зарият по просторному покою, оглядываясь по сторонам. Салах на секунду почувствовал желание если не спрятаться, то отвернуться, но, мысленно выругавшись, подавил его. Нет уж, не от этой лицемерной сволочи ему прятаться. Может, в конце концов, они просто пройдут мимо него.
Не прошли… Широко шагая и не слишком заботясь о тех, кого задевали по пути, два человека следовали за Зарият, и один из них постоянно оглядывался с самодовольным видом… пока его взгляд не наткнулся на Салаха. Он даже сбился с шага, буравя его взглядом, но Салах только дёрнул уголком рта. Конечно, тот тоже его «не узнает», и это правильно, но…
В таких заведениях, кроме общего покоя, были, конечно, комнаты для особых гостей. Салах не знал, как они выглядели – никогда не бывал. Но, конечно же, такие, как Рахат (который ему представился под совсем другим именем, да и здесь, скорее всего, назвал не своё) не усадят свой благородный зад среди «простых», насколько можно такими назвать собирающийся здесь люд. Хотя под их дорогими галабиями тоже скрывается грешное тело, которое они будут, как и все, собирающиеся здесь, баловать зельями и блудом.
До начала «программы», как пышно Зарият именовала угощения и танцы, распалявшие гостей, оставалось ещё немало времени. Рановато пришёл, да. Значит есть время и для чая.
Он неторопливо поднялся, отряхнул невидимую пыль и двинулся поперёк зала. По спине, как назойливые мухи, ползали негодующие взгляды гостей. Ладно, те двое – люди непростые, сразу видно, но этот-то увалень чего тут бродит?
Подойдя к прикрытому переливающейся занавесью проёму, Салах несколько раз громко хлопнул в ладоши.
– Эй, кто здесь есть? – громко проговорил он.
Не прошло и трех секунд, как занавесь качнулась, и из-под неё показалась девушка. По крайней мере, ему сперва показалось, что это была девушка.
– Что хочет мой господин? – спросила она.
На девушке было привычное для дома Зарият облачение – полупрозрачные шальвары пурпурного оттенка, не скрывавшие очертания ног, широкий пояс, свободная блуза поверх. Танцевать она, очевидно, не будет – её задача сегодня другая.
– Хочу начать с чая и разговора. Пришли мне девушку из сообразительных, и пусть принесёт вскипевший чайник, два стакана, китайский чай и всё, что нужно, – лениво бросил он, – и подбери такую, которая бы понимала язык Махди.
Та нахмурилась, и он понял, что на самом деле этой «девице» за тридцать лет, хотя она, очевидно, хорошо ухаживала за своей кожей и старалась выглядеть моложе.
– Мне повторить еще раз? – с усмешкой спросил Салах.
– Нет, мой господин, все понятно – девушку и всё, что нужно для чая. Захватить ли ей так же пилюли? У нас есть…
– Если бы я нуждался в пилюлях, я бы тебе об этом сказал, – прервал её Салах, – но силы, данной мне Всеблагим, хватает и без них. Ты так и будешь стоять?
Женщина нахмурилась ещё сильнее, из-за чего её возраст стал более заметен, кивнула и, повернувшись, двинулась к занавеске, ограждавшей ту часть покоя, где готовились к своей работе остальные. Её раздражение было заметно даже по неестественно ровной спине, и Салах усмехнулся.
Подручную Зарият бесило в нём всё: и рабочая одежда, в которой он пришёл в их заведение, и его речь. Здесь, чаще всего говорили на мушатари – общем языке, который возник на острове после Переселения из смеси говоров Северной Африки с правильным арабским – ближе всего к нему была, пожалуй, речь тунисцев. Салах, конечно, прекрасно знал его, но в такие минуты предпочитал говорить на родном хассания11. Гортанное наречие, принесённое из глубин Сахары, было бы безнадёжно провинциальным, если бы не одно «но» – это был родной язык Махди, на котором тот нередко говорил со своими приближёнными. Не так мало свирепых махдистов из Западной Африки поселилось на Острове, многие заняли важные посты, и проявлять к их речи неуважение не было разумно. Вот и сейчас эта женщина – Салах так и не узнал её имени – гадает, кто он. Человек, который носит одежду рабочего, но выложил круглую сумму на входе и обращается к ним на языке орденских фанатиков. Он ей определенно не нравится, но вдруг и правда как-то связан с Орденом Верных? А раз так, то его лучше не гневить.
Интересно, кого же она ему пришлёт?
Долго ждать не пришлось – из-за занавеси, за которой исчезла первая девушка, вскоре появилась другая. На этот раз слово «девушка» подходило без всяких оговорок – с первого взгляда было видно, что она ещё очень юна, никак не старше двадцати лет. Чернокожая, скорее всего, малийка или нигерийка, и красивая удивительной, почти совершенной красотой. Плавная линия скул, глубокие овалы глаз и точёная шея. Салах никогда не считал себя тонким ценителем женской красоты, но невольно засмотрелся.
Та неторопливо подошла к нему и глубоким, мелодичным голосом проговорила:
– Салам алейкум, Балькис сказал, что ты скучаешь, но никто не должен грустить в весёлом доме Зарият. Я здесь, чтобы развлечь тебя.
Салах сделал ей жест, приглашая сесть рядом, и только ухмыльнулся. Девушка старалась говорить на хассания, но её речь звучала неуверенно, она постоянно путала её с дарижа. Почему, интересно? Она же не может быть марроканкой, не с такой идеально-черной кожей.
– Салам, красавица, – он кивнул, видя, как из-за занавеси показалась ещё одна девушка – не слишком красивая молодая магрибка, тащившая круглую портативную печку и чайник, – я хочу выпить чая и поговорить… пока не пришла ещё ночь. Скажи, какое имя дали тебе при рождении?
Вопрос, как он почти сразу сообразил, был достаточно глупым – большинство девушек тут пользовались ненастоящими именами, но на скульптурном лице чернокожей гурии не дрогнул ни один мускул.
– Меня зовут Джайда, – сказала она.
– А меня – Салах, – ответил Салах и щёлкнул переключателем печки.
Глава третья
Дерьмо. Дерьмо. Дерьмо. Замиль мысленно повторяла это слово на языке, на котором давно не говорила вслух и уже даже не думала. Но сейчас оно выражало её чувства лучше всех прекрасно ей известных арабских непристойностей. Что же она натворила? И как до этого дошло?
Она приподняла чашку с кофе и сделала глоток, едва чувствуя вкус любимого напитка. По кофе пошла рябь, и девушка осознала, что это дрожат её пальцы. Пальцы или всё тело.
Она поставила чашку на стол – та тихо звякнула – и огляделась по сторонам, больше, чтобы собраться с мыслями. Конечно, вокруг ничего не изменилось. То же оформленное в магрибском стиле кафе «Аль Куодс», тот же зал, в котором сидела она в своём синем платье – зал, где ели и пили «старые люди», работяги и… падшие женщины. Те, кого новые хозяева жизни не желали видеть рядом с собой. Впрочем, надо отдать должное, кормили здесь, даже во втором зале, вполне прилично, а кофе так и вовсе был в лучшим в районе. Она и завтракала тут обычно в это время. Но сейчас кусок не лез в горло, и даже любимый кофе по-тунисски горчил и раздражал.
Что же она натворила?
Конечно, ей нужны были деньги, больше, чем уже успела накопить. Если она хочет покинуть эту проклятую Аллахом дыру, если хочет вырваться из той липкой, пропахшей лицемерием, похотью и катом трясины, в которой оказалось – то без денег никак. Но не только ради денег она это сделала, нет, не только.
Вечер как вечер – она размялась с другими девочками, которые должны были танцевать, натерла маслом те части тела, которым надлежало блестеть, уложила волосы, чтобы придирчивая Балькис осталась довольна (ох, она и загордилась, когда Зарият сделала её старшей). Всё, как всегда, но словно заноза сидела где-то у неё в мозгах, словно некое слово, которое она слышала, отдавалось в закоулках сознания болезненным эхом.
Та встреча, да. Ну, на самом деле, её-то и встречей назвать не получается – Замиль не видела лиц мужчин, а те вообще не подозревали, что она слышала их разговор. И всё же его обрывки засели в памяти. Газават.
Не то чтобы она слышала это слово первый раз за эти годы – оно притча во языцех у многих. Велеречивые имамы, бичующие падение Беззаконных Земель, полусумасшедшие уличные дервиши, бездельники в кофейнях и чайханах… но в этот раз, как ей казалось, всё обстояло по-другому. Так говорило ей чутьё, а Замиль привыкла его слушать.
А вот что чутьё говорило ей по поводу остального, что произошло ночью?
После танцевальной программы она стояла в раздевалке, цедя по глоточку лимонную воду. Рамадия, одна из девочек, курила ментоловую сигарету напротив. Балькис появилась на пороге неожиданно и окинула их недовольным, как всегда, взглядом.
– Замиль, – сказала она, – тебя выбрали. Важный гость.
Словно увидев, что эти слова не произвели ожидаемого впечатления, с нажимом повторила:
– Очень важный.
Сейчас бы сказать, что Замиль что-то почувствовала, что её женское чутьё дало какой-то сигнал, но… нет. Она лишь поняла, что её зовут для какого-то из особо важных гостей, тех, к кому пронырливая Зарият стремилась любым путём подольститься. Такие бывали у них иногда, но особого пиетета Замиль перед ними не испытывала – без одежды они ничуть не отличались от любых других мужчин.
Она и сделала всё как надлежало: приняла душ, смыв танцевальный пот, ещё раз подвела глаза и брови, смазала мазью те части тела, которые не видят солнца – всё привычно, как в любой из вечеров. Заскочив в комнату, открыла ящик с личными вещами и поспешно вытащила сумочку. Сумочку, в которой было то, что иногда нужно мужчинам, от горячащих мазей до… Всё как в любой другой вечер – важный клиент у неё был не впервые.
Она увидела этого мужчину, когда Балькис вывела её к комнатам для лучших гостей, и замерла от нехорошего предчувствия. Тот стоял перед ней покачиваясь, и его губы раздвигала самодовольная усмешка, в уголке рта пузырилась слюна. Замиль знала, как действует кат, но тут явно было что-то серьёзнее – скорее всего, мужчина затянулся кефом, зельем, что им везли из Марокко или Мали. Об этом говорили и его глаза, с трудом фокусировавшиеся на чем-либо и покрасневшие.
Многие мужчины отдавались здесь этой слабости, и на самом деле это мало волновало Замиль. Но в силуэте, в позе её хозяина на этот вечер было что-то очень знакомое. И когда он, не без труда разомкнув губы, заговорил, его голос эхом отдался в голове Замиль.
– Дева танцует как гурия, да, но выглядит как назрани. Я отдеру тебя, а потом переверну и отдеру еще раз, ты знаешь?
Замиль не обращала внимания на его не слишком связную речь. Голос, сам голос развеял последние сомнения. Тот же высоковатый, с редкими хрипящими нотками, тот же заметный северотунисский выговор. Это его она слышала там, за зелёным полотном кустов. Он говорил другому человеку, что всё изменится, о гибели кафиров, о газавате. И он очень важный человек, раз сама Зарият так ищет его расположения. Он…
– Иди за мной, – бросил мужчина и, повернувшись, попытался зайти в комнату, в первый раз промахнувшись и врезавшись в косяк.
– Бара наик!12 – выругался он.
Замиль на негнущихся ногах последовала за ним, так и не проронив ни слова.
Как она и ожидала, её клиент употребил слишком много разных зелий, чтобы быть способным на выдающиеся мужские подвиги. Он мял её так и этак, пыхтел и, едва добившись своего, свалился на подушки рядом. Было очевидно, что на большее его сегодня не хватит. Зато он ещё мог говорить.
– Всё изменится, наик, скоро всё изменится, ты увидишь сама. Мы не закончили работу, сам Махди её не закончил, но сейчас-то мы дойдем до конца. Тифли13, ты ещё увидишь огонь и дым, ты ещё увидишь гнев Аллаха, клянусь Кораном моего отца!
– Да, господин, – лежащая обнажённой рядом с ним Замиль отвечала, как надо, с трудом проглатывая стоявший в горле ком ярости и отвращения.
– И этот муташаррид14! Он ещё припёрся сюда в своём рванье! Хватило же наглости, наик, – продолжал витийствовать мужчина, – такие как он только позорят святую землю Махди, но, раз Аллах в своей непостижимой мудрости создал их, значит имел свою цель. Ведь и от него была польза, ты знаешь ли, моя маленькая лань?
Он попытался взять Замиль за подбородок, но промахнулся. Да, он явно затягивался кефом и не раз, и скорее всего, принял ещё что-то. Его движения становились всё более неловкими, а речь – сбивчивой.
«Хотя бы не облевал кровать», – невольно подумала Замиль.
А мужчина продолжал говорить. После их неловкой любви вся его мужская сила, казалось, устремилась в болтовню.
– Мы же встретились с ними прямо в море, бара наик… этот мавританец нас туда отвёз, и если бы он просто пропал, видит Аллах, было бы лучше для всех. Но раз он ошивается тут… а они, наши братья, живут там, в этой гнили, где только куфра15 и харам! Аллах, дай им силы не сойти с ума от неверных свиней вокруг! Мы увидим огонь, слышишь ли крошка, мы увидим огонь, и мор, и ярость! И Газават будет завершён, и…
Мужчина еще долго разорялся, и речь его была всё более бессвязной. Замиль слушала молча, лишь вставляя «да, господин» и «иншалла» там, где это было нужно. За обычным отвращением её вдруг охватил страх. Кто он, этот «особый гость» Зарият? Просто ли богатый торгаш, которому нравится порассуждать о политике? Или за всем его трёпом про Газават, про мор и очищающий огонь для Земель Беззакония стоит что-то большее?
Мужчина замолк, и по неровному дыханию она поняла, что зелья наконец сморили его. Такое она видела уже не раз и не глядя готова была поклясться, что из уголка рта у того течет струйка вязкой слюны, совсем как у её отца, когда… когда он говорил с ней о тех же вещах. О гибели забывшего своё естество мира. О Газавате, который очищающим пламенем выжжет скверну. О том, как взойдёт новое солнце.
Вдруг Замиль услышала странный звук и вздрогнула, но потом успокоилась, сообразив, что это всего-навсего звук сообщения на наладоннике. Её собственный остался в комнате, но этот мужчина, очевидно, захватил свое устройство с собой и оставил где-то рядом с кроватью, и…
Замиль вдруг похолодела от пришедшей ей в голову мысли. Его наладонник лежит рядом с ней. И он включён, раз принимает сообщения. А в сумочке, которую она взяла с собой, есть съёмный диск, в котором она переносила данные. Что, если… она впилась ногтями в шёлковое покрывало под ней. Если об этом узнают, то страшно даже представить последствия. Торгаш бы приказал избить её, а Зарият выгнала бы из байт-да’ара. Шейх бы отдал своим телохранителям, а после волны прибили бы её тело к скалам. Но ведь он спит. И Замиль ещё раз повернулась и нарочито громко поворочалась. Ровное дыхание мужчины не нарушилось – после таких зелий спят крепко, тяжёлым, душным сном.
И Замиль, не признаваясь даже себе самой, что намеревается делать, тихо приподнялась. Покрывало упало, она стояла посреди комнаты совершенно нагая и так же слушала дыхание мужчины, который владел ей сегодня. Если бы он проснулся, она бы сказала, что просто встала по нужде.
Но, как и ожидала Замиль, сон у её сегодняшнего клиента была крепок. Она сделала пару неслышных шагов к своей сумочке, легким движением раскрыла её. Копаясь в потемках, она натыкалась на мази, резинку и даже тонкую верёвку, которой некоторым из мужчин нравилось её связывать, и, как её спящий клиент, беззвучно шептала тунисские ругательства. Но в итоге нашла овальную пластинку диска.
Если она сможет открыть его наладонник, если тот не защищён… кто знает, что ей доведётся узнать? И какую выгоду она сможет из этого извлечь? В голове Замиль лихорадочно мелькали строки, прочитанные в Зеркале, в «коридорах», куда она иногда забиралась. Информацию продают. Так значит…
Шейх (если это был шейх) оказался самонадеянным придурком. Его наладонник не был защищён и по прикосновении к голубовато мерцавшему экрану сразу же выдал зеленое окошечко «маль-амр». Полосы бесед, арабская вязь. Боясь даже вдохнуть, дрожащими пальцами Замиль вставила диск в отверстие и лихорадочно заскользила пальцами по монитору устройства.
О, Мадина, вечно полная пестроликой толпой, гудящая разворошённым ульем! Уж сколько есть городов, над которыми реет знамя с восходящим солнцем – от малярийного Лагоса до базарного Багдада, но нигде всё величие и блеск Государства Закона не ощущаются так, как здесь, в твердыне веры на выгрызенной у нечестивых земле!
И нигде из-под этого блеска так не разит гнилью.
Махди, посетивший Мадину незадолго до своей кончины, говорил о древней земле Халифата, которая вернулась домой, о том, что Остров озарили лучи восходящего солнца и спасли его жителей – и тела их, и души – от зловонного безумия обречённого мира. И слова его выбиты золотой вязью на стеле, что вздымается на входе в порт.
Ибо разве это не так? Над оставшимися от старых хозяев кварталами уже топорщатся свежей порослью скороспелые минареты (хотя самые старые, говорят, построили и до Великой Войны), и радуют глаз вывески над старыми ресторанами, обещающими, что всё подающееся в них – строгий халяль, и плывёт из висящих на фонарях динамиков азан, заставляя правоверных преклоняться ниц в специально построенных для них комнатах. А старые люди, те, что не смогли удержать ни свой город, ни свой мир, лишь уважительно обходят новых хозяев жизни. Им позволили остаться в потерянном городе, но показали их место.
Мадина, бастион Государства Закона, величественно плывёт в лучах восходящего со стороны Леванта солнца. А по её широким улицам и узким переулкам грибковой гнилью ползёт грех.
О, разумеется, грешат везде – уж поездив по землям нового Халифата, он мог о том сказать с уверенностью. Везде он есть – тот липкий, тайный грех, проглядывающий украдкой из-за занавешенных благочестием окон. Люди дурманят себя зельями, и наполовину разрешёнными, и запрещёнными, люди сквернословят, люди блудят. Везде: и в весёлом Бейруте, и в суровом Эр-Рияде, да даже, наверное, в Мекке, чья слава сильно поникла с тех пор, как взошла звезда Махди.
Но нигде грех не лукав и не силён так, как в Мадине. Город, где случайный сосед в кофейне с липкой улыбкой предложит тебе разжигающее любострастие зелье, где по одному знаку в шишу16 добавят каплю того, что унесёт курящего в причудливые грёзы. Город, где целый район «плохой», ибо его «дома отдохновения» предлагают не только полюбоваться на пляшущих левантийские танцы красавиц.
Город, где каждый знает, что сосед грешит, но не кинет в него камень упрёка, ибо такой же получит и в ответ.
Но всё же и зелья, и блуд, и даже хмельной напиток из виноградной лозы, который вопреки всем запретам гонят «старые люди» – это не самое худшее. Человек всегда остаётся человеком, ему хочется туманить разум и ублажать тело. Но Мадине известен и грех совсем иного рода.
Они близко – Беззаконные земли, совсем близко, протяни только руку. А что так привлекает человека, как не ужас и мерзость? И пересекают древнее море катера муташарридов, и привозят они то, что хуже любых зелий – маленькие, не больше ногтя пластинки, из которых ползёт скверна. И в тайных местах собираются люди, пристрастившиеся к этому новому дурману, и покрасневшими глазами пялятся в мониторы, а пальцы танцуют по клавиатуре. И видят они мерзость, тянущую свои щупальца с другого берега.
Сколько их, людей, которые не грешат сами, но, прильнув к экранам, жадно впитывают пороки других – пороки, которым нет даже имени в Книге Книг. И поистине, лучше бы они блудили!
Глава четвёртая
– Мадина как женщина, чем больше ты ей даёшь, тем больше она требует, – усмехнулся Абдул и отпил ещё глоток чая.
На веранде, где они сидели, было душно, воздух над камнями брусчатки, казалось, дрожал от жара. Но они пили горячий чай, потому что, а чем же ещё будет утолять жажду в жаркий день настоящий магрибец?
– Мне не нравится это дело, – Салах повторил свою мысль в который раз, вертя в руках пустой чайный стаканчик, второй выпитый за вечер. – Дело не в том, сколько мы потратим и сколько заработаем. А в том, что я не хочу дел с такими людьми, даже если они хорошо платят.
– Бара наик, да они больше чем просто хорошо платят! – невольно повысив голос на последних словах, Абдул тут же спохватился и, почти не поворачивая головы, скользнул глазами по веранде. Не похоже, чтобы кто-то заинтересовался их разговором, и он, подергав тонкие, подстриженные по местной моде усы, продолжил:
– Не понимаю тебя, Салах… ты уже таскал для шейхов запретные программы, фильмы, зелья, да я не знаю, что. Ты знал, что эти люди – шейхи, и я это знал, и никогда это нас не беспокоило. Мы, конечно, рисковали, но Аллах любит храбрых, разве не так? Всё ведь, как раньше.
– Нет, – Салах сказал это жёстче, чем намеревался, хотя и всё так же вполголоса, – нет, – повторил он и, словно подыскивая слова, оглядел залитую ярким светом улицу.
Они встретились в центре города, невдалеке от порта, и сейчас, глядя на тяжёлые стены домов, дававшие им благословенную тень, на резные прутья балконов, на едва заметный просвет, где от узкой улицы отходил еще более узкий переулок, Салах ещё раз подумал, насколько чужие они этому городу. Можно поставить здесь чайхану на месте прошлой кофейни, можно развесить вывески на фусха17, можно включить магрибские мотивы, но от самих разогретых камней шло дыхание прошлого. Дыхание окончившегося века назрани.
– Сейчас всё не так, как раньше, – повторил он, опять повернувшись к Абдулу, – раньше мы возили обычный хабар, и мы знали, что это. Люди хотят грешить, их природа слаба. И мы знали, что грешат все. А теперь мы влезли в дела Ордена Верных. Тех, от кого я всегда хотел держаться подальше. Ты вспомни, как они нас нашли?
– Да ладно тебе, – начал было Абдул, но осёкся. Наверное, вспомнил.
Заказ, который передал Салаху человек, называвший себя Хашимом, поначалу не так уж сильно отличался от обычных: уйти в нейтральную зону, пересечь там море и встретиться с братьями с той стороны, которые живут в одной из стран Союза Обновления – он знал, что называется то государство именно так, но понятно, заказчики именовали его «Беззаконные земли». Получить у них товар, вернуться на Остров, передать его надёжным людям. Но было то, что насторожило Салаха сразу же. Это цена. Хашим готов был платить много, вдвое больше того, что обычно можно заработать на таком заказе. Но также намекнул, что если Салах не сумеет удержать рот закрытым, то одним муташарридом в пограничных землях станет меньше.
И опять-таки, это не было удивительно само по себе. Многие из тех, кто тайно потреблял запрещённый товар, были высокопоставленными людьми (говорят, попадались такие и среди шейхов!). Они знали, чем рискуют, и часто давали знать муташарридам, что заказать убийство для них будет более приемлемо, чем терпеть болтовню.
Но в этот раз всё шло не так. Салах собирался работать с Абдулом и полагал, что вдвоём они справятся не хуже, чем обычно. Но когда они были уже в Мелилье, им позвонили. Обоим. На номера, которые они не раскрывали никому. И тогда Салах понял, что дело даже серьёзнее, чем он опасался.
Теперь задание поменялось: с ними должны были отправиться ещё два человека, до борта судна, которое они встретят по указанным координатам. Это сверх получения товара. И отказаться уже нельзя – на это намекнули совершенно однозначно.
Он подумывал о том, чтобы просто исчезнуть, благо задаток, который выплатил ему Хашим, был щедр, но не решился. Не только потому, что не хотелось терять богатого заказчика, но и потому, что он понимал, в какую ярость это его приведет. А весь его жизненный опыт говорил – таких людей как «Хашим» (как бы его там ни звали по-настоящему) злить не стоит.
Но сейчас он задумывался, а может, лучше было бы исчезнуть? В конце концов, он знал, как надо теряться, даже от таких всеведущих людей, как его нынешний заказчик. И мест, чтобы залечь на дно множество. Закон «Государства Закона» был дырявым, и человек мог потеряться здесь, если прилагал к тому усилия. Да вот хотя бы в Сусе…
Но он не потерялся. Они приняли в Мелилье двух человек, говоривших на алжирском диалекте, и отчалили в море.
В нейтральных водах Салах ожидал увидеть лёгкий моторный баркас или прогулочную яхту – под такие часто маскировали свои суда муташарриды Союза Обновления. Вместо этого их встретил корабль. Настоящий, полноценный грузовой транспорт. Не нужно было видеть флаг, чтобы определить судно Нанкинского блока, и когда капитан с раскосыми глазами шагнул на их судно, Салах окончательно понял, что ввязался во что-то совсем нехорошее. За капитаном-китайцем (он мог быть, конечно, тайцем или корейцем, но Салах слабо понимал, в чём между ними различие) спустились ещё три человека. Другой китаец и двое тех, что, видимо, и были их «братьями с той стороны». Выглядели эти мужчины как алжирцы или марокканцы, что, впрочем, он сразу же понял по их речи, хотя те старались говорить на фусха.
Приветствовав Салаха и Абдула скупым «саламу алейкум», люди обратились к их сопровождающим, попросив назвать слово. Один из двух молчаливых мужчин, которых выделили им в сопровождение, сказал «чёрный ибис» по-алжирски.
Тогда братья перешли на французский и объяснили китайцам, что перед ними именно те люди, которые и должны были их встречать. Их молчаливые спутники перешли на китайский корабль, а встретившие их магрибцы передали им семь запечатанных цилиндров. В таких обычно и сохранялись носители памяти для наладонников, и ничего особо удивительного, но… передавая им товар, магрибцы сопроводили его восклицанием «аллаху акбар!».
«Хашим» велел ему оставаться на связи, мол, кто знает, может, его услуги опять понадобятся, а потом очень чётко дал понять, что если он попробует просто исчезнуть, то его найдут.
– Они говорят, что найдут нас, – повторил он вслух наклонившемуся через стол Абдулу, – не знаю, смогут ли. Но мне всё это не нравится.
Абдул пожал плечами.
– Нам уже приходилось бегать и от полиции, и от стражи Зеркала, – сказал он, – ты знаешь правила. Лучше скажи, ты вроде собирался вчера вспомнить, что ты мужчина, и заглянуть, наконец, в веселый дом. Ну, и как прошло?
Такие вещи мужчины обычно спрашивали друг у друга с похабными сальными ухмылками, но Абдул был серьёзен. Почти. Лишь уголок его рта кривился, словно он подначивал Салаха к ответу.
А вот Салах усмехнулся.
– Я был вчера с чёрной, – сказал он, – малийкой, кажется, но говорит, как марокканка. И думаю, пойду к ней сегодня. Пока есть деньги и пока есть время. В море можно заржаветь без женщин. А ты прав, Абдул, Мадина – это женщина.
Глава пятая
– Этот твой Салах придёт сюда? – нервно переспросила она Джайду, и малийка качнула головой.
– Он так сказал, – и Замиль в очередной раз поморщилась от её сильного марокканского выговора.
Надо же, вот и Джайда оказалась полезной. Её клиент, этот Салах, припёршийся в одежде работяги из порта, оказался, во-первых, денежным, во-вторых, разговорчивым. Закончив забавляться с Джайдой, он предложил ей пожевать ката, после чего они начали говорить. Бедная простушка не поняла и половины того, что он ей рассказывал, но когда ещё взвинченная после своего ночного подвига Замиль услышала, что говорит Джайда, то ощутила холодок где-то в животе. Неужели это он и есть – её шанс, который она ждала годами?
Исходя из намёков Джайды, её вчерашний клиент был муташарридом. Замиль, конечно, знала про таких людей и раньше. Те, что появились в разделённом границами мире, что могли пересечь огромную лужу, отделявшую их Закон от чужого, мерзкого Беззакония, и принести с той стороны плоды этого беззакония. Плоды, которые даже в новом Халифате, к бессильной ярости имамов, пользовались немалой популярностью. Про таких людей, конечно, знали все, но раньше Замиль не встречала ни одного лично. Как-то они держались в стороне от весёлого дома Зарият. И вот сейчас… с усмешкой она вспомнила, как бы звучало название их ремесла на родном языке её безумного отца. Smuglere18. Впрочем, она уже так давно не то, что не говорила, но даже и не думала по-датски.
– Ты всё помнишь? – ещё раз повторила она Джайде, – ты скажешь, что есть подруга, что эта подруга ищет человека… который много знает, и что она предложит ему самую важную сделку в его жизни. И добавь, что я готова буду лечь с ним бесплатно.
– Хорошо, – Джайда кивнула, выглядя немного потерянной и грустной.
Замиль улыбнулась ей утешительно и предложила выпить ещё лимонной воды. Джайда кивнула, всё так же с лёгким недоумением и даже, кажется, обидой.
Замиль, конечно, понимала, почему та липнет к ней и пытается угодить.
Джайда была не просто новенькой – хотя новенькой условно, ведь пробыла тут уже больше года – она была чужой. Никто не знал достоверно, где она родилась, сама девушка утверждала, что её родители из Мали. На это указывало её телосложение и цвет кожи, однако она носила марокканское имя, а её родным языком явно была марокканская дарижа. Именно этому не стоило так уж удивляться. После Газавата и всего, что за ним последовало, огромное количество людей оказалось сорвано с родных мест. У Зарият тоже можно было найти кого угодно от коренных жительниц острова до угольно-чёрных уроженок тропиков.
Дело было не в том, откуда Джайда родом, а в том, что каждой стае нужен свой изгой. Нужен он оказался и отверженным женщинам из дома отдохновения Зарият. И несчастная марокканка, не то малийка, прекрасно подошла на эту роль. Явно выросшая в какой-то глуши, Джайда до сих пор не могла стереть с себя отпечаток родной деревни, как ни старалась. Она уже прекратила по-детски восхищаться полными людей моллами и пугаться верениц машин на проспекте Африки, но так и не освоила до конца общее наречие Острова, постоянно мешая его с марокканским диалектом. Она не умела правильно есть, правильно входить в комнату с мужчинами, не умела поддержать беседу с товарками на правильную тему.
И при этом Аллах по лишь Ему известным причинам одарил её поистине совершенным телом и врождённой пластичностью, из-за чего она танцевала как гурия, и всё больше мужчин хотело отведать именно вон ту чёрную девку. И Джайда с её сельскими манерами и точёным телом, приносила Зарият всё новых и новых клиентов, получая всё более крупную долю.
Ну и как после этого прикажете к ней относиться?
Некоторые игнорировали её, делая вид, что её просто не существует. Другие, похитрее, изощрялись в тонких насмешках, которые простодушная Джайда понимала слишком поздно. Третьи просто были грубы.
Но не Замиль. Её интересовали совсем другие вещи в последнее время, она спала с Джайдой в одной комнате и относилась к ней с тем же равнодушным, отстранённым дружелюбием, что и ко всем остальным. И уже этого той хватило, чтобы принять её за подругу. А уж особый статус, которым Замиль пользовалась у Зарият, делал для Джайды эту воображаемую дружбу особенно ценной. А для Замиль она оказывалась и просто полезной.
Так, Джайду уломать удалось, а с её чувствами можно будет разобраться позже. Если оно будет, это «позже», и именно здесь. Мысли, лихорадочно метавшиеся в голове Замиль, начали обретать черты некого плана или, по крайней мере, его подобия. Муташарриды пересекают Средиземное море. Они могут добраться до той стороны. А ещё они знают выходы на тёмную сторону Зеркала – закрытые страницы и «коридоры». Последнее Замиль представляла себе весьма смутно, но это было место, где обсуждались незаконные дела и продажа всевозможного тахриб19. Там торговали и информацией – это она знала, в том числе от своих особо разговорчивых клиентов. Но, раз так, не получится ли там продать то… то, что она сумела скопировать с наладонника этого обкурившегося шейха? А если объединить это с теми деньгами, которые она уже успела накопить, может, этого хватит, чтобы сбежать? Чтобы добраться до земель, откуда был родом отец, и которые не скованы лицемерным благочестием Закона?
Замиль женским чутьём ощущала, сколько дыр в её плане. Захочет ли этот муташаррид купить её информацию или свести с теми, кто покупает? И имеет ли она вообще хоть какую-то стоимость? Согласится ли муташаррид везти её на другую сторону? И что она будет там делать?
Последний вопрос был самым болезненным, он звучал в голове эхом. Замиль старалась гнать сомнения прочь, но иногда, скорчившись на кровати, она спрашивала себя, почему она решила, что там лучше? Остров – единственная земля, которую она знала за всю свою жизнь, лицемерен, льстив, двуличен. Она здесь никто, падшая женщина, которая даже лица своего не смеет показать в неположенном месте. Но она его хотя бы знает. А там…
– Замиль! Да что с тобой! – прошипела Джайда. – Балькис же смотрит!
Разрываемая ожиданиями, сомнениями, неуверенностью, Замиль сегодня танцевала плохо и уже не первый раз сбивалась с ритма. Ей влетит за это потом, может, и деньгами накажут, но… Как же добиться встречи с этим Салахом?
– Ты пойдёшь в комнату одиннадцать, – встретила её после окончания танцевальной программы Балькис и холодно прищурилась: – Ты обжевалась ката? Как ты танцевала?
– Прости, – Замиль заставила себя покорно потупить глаза, – я плохо себя чувствую сегодня.
– Надо было заранее сказать, – сухо бросила Балькис, – готовься, и надеюсь, больше не разочаруешь.
Душ, блеск на волосы, мазки на тело, специальный гель в место любви, чтобы избежать последствий – так готовились ко встрече с клиентами все «лани» Зарият, и для Замиль было привычно. Но сегодня всё бесило. Насколько задержит её этот мужчина? Дождётся ли Салах? А если мавританец уйдёт, и она его больше никогда не увидит? Ждать ли ей здесь другого муташаррида годы? И где-то чёрной тенью кружило предчувствие. Сегодня, да, сегодня всё должно поменяться. Это как тот удачный бросок в нардах, который меняет ход всей игры, это, как…
Вечер оказался долгим. Мужчина с седоватой бородкой и животиком, видать, не слишком доверял своим природным силам и принял таблетки, которые предлагала желающим Зарият. Они его предсказуемо распалили, но не сделали более привлекательным. Замиль изо всех сдерживалась, стараясь показать всё, чему её учили, но её нетерпение всё равно прорывалось, и раздражённый непонятливостью мужчина в пылу страсти обругал её «ослицей». Что ж, она и не такое слышала.
Наконец, в третий раз получив удовольствие, он отпустил её и откинулся рядом на ложе, хрипло дыша.
Замиль зашевелилась, гадая, не попробовать ли ей встать. Но уходить до того, как отпустит клиент, или истечёт оплаченное время, им строго запрещалось. Ох, только бы этот старый похотливый ишак не купил её на всю ночь.
– Куда ты? – голос мужчины, всё ещё не отошедшего от подпитанного таблетками экстаза, прозвучал как карканье.
«А, чтоб шайтан поджарил твой хрен на медленном огне», – мелькнуло в голове у Замиль, и она тихо сказала:
– Я думала просто принести апельсиновой воды, чтобы освежиться. После такой любви часто хочется пить.
– Принеси, – кивнул он, всё так же откинувшись на подушку, – и сигареты, я забыл свои в зале. Я курю «Белый Атлас».
«Бара наик!» – мысленно выругалась Замиль, продолжая улыбаться.
– Я сейчас вернусь, – прощебетала она и сама удивилась, что голос прозвучал так же сладко и многообещающе, как всегда. Да уж, школу Зарият ей не забыть, наверное, до смерти.
Мужчина не ответил ей, всё ещё погружённый в свой транс, как оно обычно и бывало с теми, кто поднимался на ложе, наглотавшись таблеток.
Замиль выскочила из комнаты, обернувшись в тонкий шёлковый халат – такие висели у входа именно на случай, если девушке понадобиться выйти, уже разоблачившись.
Коридор заливало приглушенное мерцание ламп, настроенных так, чтобы их свет казался свечным. Слышались голоса, а из-за одной двери вскрики, сопровождаемые хриплым мужским голосом, который рычал что-то неразличимое. Кому там, интересно, попался особо требовательный клиент?
Где же Салах? У неё совсем немного времени на разговор, при условии, что мавританец вообще её ждёт. Он мог не послушать Джайду, либо же эта простушка просто не смогла как следует ему объяснить.
Когда Замиль выскочила в круглую залу, она услышала шаги и замерла с нехорошим предчувствием. Занавеска качнулась с легким стуком украшавших ее фальшивых жемчужин. Замиль резко повернулась – в проёме возникла Рамадия. Коренная уроженка Острова, говорят, из семьи назрани, она, как и Замиль, стояла на хорошем счету у Зарият. Клиенты ценили её густые чёрные волосы, низкий, хрипловатый голоc и неутомимую, казавшуюся совсем настоящей ярость в постели.
Сейчас, впрочем, ни яростной, ни страстной Рамадия не казалась. Она облокотилась локтем на стену и щёлкала зажигалкой, раскуривая длинную тонкую сигарету. Лицо её выглядело уставшим и словно надтреснутым.
– Ты уже всё на сегодня? – спросила её Замиль.
– Этого козла ненадолго хватило, даже с купленной мазью, – Рамадия, наконец, раскурила сигарету и, прищурившись от удовольствия, затянулась, – потом ему понадобился кеф, чтобы отпраздновать свою великую мужскую победу, и я приготовила трубку. Сейчас он там пускает слюни, я вышла чуть подышать свежим воздухом.
Представления о свежем воздухе у той были довольно специфическими, учитывая, что сейчас, как и в другие свои рабочие перерывы, она курила – чему, во многом, и была обязана волнующей хрипотцой своего голоса, а также надрывным ночным кашлем. Но по крайней мере, у неё можно спросить.
– Мой наглотался пилюль, – при этих словах Рамадия сочувственно поморщилась, – теперь вот тоже захотел покурить.
– Сигареты лежат, где обычно, – рукой с тлеющей сигаретой Рамадия махнула в сторону зала, – но попробуй-ка предложить ему и кеф. Может, его отпустит.
Кстати, хорошая мысль.
– Я ещё апельсиновой воды глотну, – небрежно бросила Замиль и добавила всё тем же равнодушно-усталым голосом: – Меня тут ждал ещё один человек. Одетый как рабочий, джинсы, рубашка, говорит с мавританским выговором. Его зовут Салах. Ты не видела?
При этих словах брови Рамадии, тонкие и изящные, как у всех, с кем работал их косметолог, взлетели вверх. Она посмотрела на Замиль, как будто хотела что-то сказать, но передумала, сбила пепел с сигареты прямо на пол (Балькис будет в ярости) и снова затянулась. Замиль ждала.
– Я знаю, о ком ты, – сказала, наконец, та, – и, судя по тому, что тут болтают, я бы не очень советовала тебе его искать.
Замиль молчала, вопросительно глядя на неё.
– Он в кофейной комнате, – сказала Рамадия, – попросил чайничек и два стаканчика. Мне иногда кажется, что чай для таких важнее, чем секс.
– Спасибо, – искренне поблагодарила Замиль и двинулась в сторону «кофейной», стараясь, однако, не бежать, потом повернулась к Рамадии ещё раз.
– Там пылесос возле туалета, лучше убери пепел, – предупредила она, – иначе Балькис печень тебе выест.
Рамадия кивнула и опять поднесла сигарету к губам.
«Кофейной» называлась небольшая комната, отведённая для тех гостей, которые любили выпить чашечку-другую и затянуться шишей перед главным или после. Если он ждет её там, значит, она, наверное, пуста, и…
Отдёрнув завесу, Замиль шагнула внутрь. Ковёр и сиденья, пара одноногих столиков, на которые ставили шишу, окно, через которое на её разгорячённое тело полилась ночная прохлада. И он, этот мавританец, сидящий со скрещёнными ногами возле чайничка и переливающий чай из одного стаканчика в другой.
Она замерла на входе, потом прочистила горло, вспоминая, как произносятся слова на хассания.
– Салам, – сказала она, – я Замиль. Это я должна говорить с тобой.
Глава шестая
О, дыхание Юга, горячим языком лижущее скалы Острова! Что тебе до того, высятся ли здесь церкви или минареты, бурлит ли на улицах смрадное безумие Беззаконных земель или звучат проповеди имамов? Когда хамсин, который назрани называют сирокко, неистово дует третий день подряд, ты чувствуешь в воздухе этот запах, запах пустыни – её жары, туманящей разум не хуже затяжки кефом и звонкого ночного холода под яростным сиянием звёзд. Пустыни, куда твои предки пришли многие столетия назад и которую сделали своим домом.
Пустыня жестока и всегда была такой, но она неизменно честна. И черный самум, способный за считанные минуты выпить всю влагу из тела, и скорпион, притаившийся в укромной тени – всё это опасности честные, с которыми известно, как бороться. Честным был и враг, которого ты мог там встретить – враг, сжимавший в руке сначала меч, потом мушкет, а потом и автомат. Убив его, ты читал над телом поверженного суру Ясин, вверяя его бессмертную душу суду Справедливейшего, но знал и что, когда падёшь ты, кто-то так же прочитает эту суру над тобой. Слово Пророка, принесённое неисчислимые века назад из Аравии, не даст тебе заблудиться. Ибо чёрное есть чёрное, а белое есть белое, так было и будет всегда.
Когда же и как всё изменилось? Когда, словно гром с ясного неба, над пустынными посёлками прогремело имя Махди? Когда добрым мусульманам сказали, что в новом, мчащемся к гибели мире Кур’ан более не является единственной опорой, ибо некогда среди них, в обычной бедуинской семье родился Он, Тот, Кого Избрал Всеблагой, чтобы в последний раз донести Свою волю обезумевшему человечеству?
Как же ясно он помнил тот день, когда махдисты (про Орден Верных ещё не слышали) въехали в Тиджикжу. С их бронированных автомобилей гремели мегафоны, повторяя фразы то на фусха, то на хассания – они созывали всех правоверных на площадь перед старой мечетью. Над некоторыми из машин грозно реяли символы новой веры – жёлто-зелёные знамёна с чёрным полукругом восходящего солнца.
И Салах, ещё подросток, прибежал домой и застал там взволнованных родителей. Отец сказал, что в Нуакшоте сменилась власть, и по всей стране люди с чёрными знаками на одежде врываются в администрации и даже мечети, объявляя начало новой эры. «Этому миру конец», – бормотал он. Но тогда Салах ещё не понимал, что их всех ждёт.
А сейчас он понимает? Салах мерил вечерние улицы неровным шагом, не замечая их тёмного смрада. Рядом продавали и курили кеф, сновали сутенёры, клянчили деньги и просто возвращались, как и он, после каких-то вечерних дел в свой дом. Фонари здесь светили через один, и он постоянно переходил из размытого света в дрожащую тень.
Эта женщина, белая… насколько ей можно доверять? Глупый вопрос, впрочем, он давно привык не доверять до конца никому. Она говорила, что провела ночь с шейхом, который обкурился и много болтал. И было это тогда же, когда «Хашим», назвавшийся совсем другим именем, появился в байт-да’ара со своим товарищем. Говорила, что они болтали о разном: о новом Газавате и о том, что «муташаррид исчезнет». Был ли той ночью у Зарият ещё один муташаррид кроме него? Вопрос, который даже не стоило рассматривать всерьёз. Конечно, в таком состоянии, в котором «Хашим» был в ту ночь, наболтать можно было что угодно. Но при этом он оказался настолько беспечен, чтобы не запереть защитой свои коммуникаторы.
Это могло бы насторожить, но нет – было вполне возможным. Уж кого-кого, а эту публику Салах немного знал. Наладонники, миниатюрные устройства, все более замещали собой старые «настольники» – они легко помещались в сумочке, да даже в руке, от чего получили свое название, и для многих из младшего поколения стали словно продолжением тела. В них общались, читали новости, слушали музыку, даже смотрели фильмы. Иногда буквально на ходу.
А вот у старшего поколения, а тем более у особо верующих, с этим часто были проблемы. На Зеркало, на всю технику, они смотрели если не как на харам, то как на вынужденно терпимое зло. Закупая аппараты из Нанкина, Гуаньдуна или Манилы – они пользовались ими, но считали недостойным истинного махдиста вдаваться в какие-то тонкости. Ходили анекдоты про старых шейхов, за которых даже номера по маль-амр набирали секретари, потому что они так и не научились этого делать.
Не важно, был ли этот шейх технически неграмотен или просто беспечен до глупости. Важно другое – что же она скопировала, эта Замиль? И что ещё готова ему передать?
Здесь на весь переулок светил лишь один жёлтый фонарь, но взошла луна, почти полная, и в пятне её света Салах вдруг увидел свою тень, прыгающую по неровному асфальту. Может, и стоило отвергнуть эту женщину сразу, не слушать кукольно-красивую малийку? Беда, однако, в том, что и без этой Замиль он ощущал – творится что-то очень неладное. И как бы ему, Салаху-мавританцу, не попасть зёрнышком да между жерновов.
В конце переулка располагалось кафе «Даккар», принадлежавшее сенегальцу по имени Малик. Наверное, раньше оно было собственностью кого-то из назрани – их и сейчас жило здесь немало, но от их вкусов почти ничего в нём не осталось.
Кафе представляло собой небольшую душную комнатку без кондиционера с тщетно лопатящим влажную жару вентилятором и старомодными деревянными столами. За стойкой работала одна из жён Малика, другая помогала мужу готовить.
В кафе подавали западноафриканскую кухню, за что земляки его и ценили – собственно, здесь всё было как дома, от вкуса до неспешного обслуживания. «Даккар» был одним из местечек в Мадине, где люди могли просто предложить незнакомцу разделить с ними ужин, если им казалось, что тот голодный, где ловко переливали над столами чай из стаканчика в стаканчик и затягивались шишей на веранде, неспешно беседуя на гортанном мавританском диалекте. Но что важнее сейчас, «Даккар» был местом, где имелся ночлег – к дому примыкала пристройка с четырьмя или пятью комнатками, общими кухней, душевой и туалетом. Малик именовал это всё «оберж», но естественно, «оберж» нигде не был зарегистрирован, а что лучше подходит для человека, которому не надо светиться?
Салах обогнул кафе и зашёл во двор, тихо выругавшись, когда споткнулся о какую-то брошенную жестянку. Вот и дверь в его комнатку. Что ж, здесь простенько, но почти как дома.
Нащупав рукой переключатель, он повернул диск, и помещение залил ровный белёсый свет. Кровать, застеленная полосатым пледом, столик, на котором громоздилась портативная печка, прикреплённый к стенке умывальник и полоска кухонного бокса. На самом деле, не так плохо. На заработках в Котону или Нуакшоте он жил в местах и похуже.
Наклонившись, Салах рывками распутал застёжки на кроссовках, сбросил их и сел на кровать. Сейчас посмотрим, что предлагает ему эта белая шлюха…
Он открыл наладонник, в несколько ударов пальцами нашёл нужную папку и щёлкнул по ней.
В первую секунду ему показалось, что экран перекосило, он повернул наладонник и сообразил, что проблема не в нём – просто та девка… как её, Замиль, слишком торопилась сделать снимки и перевернула окошко беседы. «У неё ещё наверняка и руки дрожали», – подумал он и, осторожно повернув запись пальцами, начал читать.
Здесь были окошки бесед в маль-амр, несколько, и одну из них он закрыл почти сразу. Какой-то разговор про покупку дома в Александрии. Но читая вторую, он вздрогнул. «Хашим», которого в этой беседе звали «Насер Алла», говорил с человеком, называвшим себя «Путник». И они говорили о том, что делать, когда придут дни, которые они называли «интифада»20. В отрывке, который пересняла Замиль, «Путник» писал, что всё начнётся с «огня на дома назрани», и упоминал про смерть «дервиша, за которым ходят зеваки». Разговор обрывался неожиданно – следующую часть девушка не скопировала, но и по прочитанному было понятно, что шейхи, к которым явно относился Хашим/Насер-алла, готовили Острову что-то нехорошее. Кровь, убийства, погромы и зажигательные проповеди. Трудно представить что-то более неприятное для Салаха. Прошлые дни, дни фитна, смятения и смертей, запомнились ему крахом всей его жизни, и…
Он открыл ещё один диалог, отснятый двумя накладывающимися друг на друга кусками, и увидел, что собеседник здесь другой. Переписка по-прежнему шла на фусха, но одно из первых слов собеседник Хашима написал с ошибкой, которую мог сделать только марокканец. Вместо имени человека было написано «клюв смерти» под изображением соколиной головы. Салах только хотел фыркнуть от такого позёрства, как вдруг вздрогнул и почувствовал, как напряженно сжимается что-то под ложечкой. Он увидел своё имя.
– Этого Салаха, муташаррида можно послать и второй раз, – писал собеседник Хашима, – если ты ему доверяешь. Он ведь из Мавритании и значит истинный сын Махди.
– Думаю, что нет, – отвечал ему Хашим, – я потом уже поузнавал у людей больше о нем. Тёмный человек. Набожностью неизвестен, зато берётся за самые непотребные заказы, привозит вонючий тахриб из проклятых земель.
– Воистину, в каждой отаре найдётся паршивая овца, раз на земле Махди рождается такое отребье. Так что, в следующий раз ждать другого?
– Мы ищем. Никому из муташарридов нельзя доверять. Может, пошлём Салаха с его дружком. Но так или иначе, они должны молчать, а в способность этих шакалов молчать я не верю.
– Ты скрепишь их клятвой на Кур’ане?
– Я скреплю их пулей из Norinco 2022. Не думаю, что кто-то будет оплакивать такую дрянь. Он будет одним из первых, кого сожжёт огонь очищения.
– Но что до связи с нами после того, как мы окажемся там?
– Мы найдём менее опасный способ. Вам нужно подождать только до…
Здесь диалог обрывался, и Салах напряженными, почти негнущимися пальцами перелистнул отпечаток, посмотрел другой. Нет, там уже разговор с другим человеком. Потом изучим, пока же…
Салах отложил наладонник, глубоко вдохнул и медленно проговорил слова дуа, которыми призывал Аллаха в помощь, когда ощущал рядом нечто злое. Ему сейчас понадобится вся помощь, которую может дать ему и Всеблагой, и любой из людей, кого Аллах в неизъяснимой своей мудрости превратит в своё орудие.
Потому что только что он прочитал, как бредящий новым Газаватом шейх приговорил его к смерти.
Глава шестая
Зелья. В этом районе Мадины всё пропахло ими, что не в последнюю очередь заставляло Замиль ненавидеть это место и всю её жизнь. Иногда она думала, что зелья – то, что стало началом конца её семьи. Её семьи? Была ли у неё семья? И разве это – семья?
Мать и отец есть у каждого человека. Но детство Замиль отличалось от детства других, даже если брать их изломанное послевоенное поколение. Что она сейчас помнила о тех годах, времени перемен? Новые лица на улицах – разделение людей на старых и новых. Новые вывески, новые здания? И проповеди – длинные речи отца о гибели отвернувшегося от своего естества мира, об огне с небес. О том что, обновлённый проповедями Махди, ислам даст новую надежду человечеству. Помнила вечера за утомительными уроками арабского. Помнила, как он заставлял её слушать радио, откуда звучала гортанная речь новых хозяев жизни.
– Это язык нового мира, – говорил он, глядя ей в лицо, – ты должна его знать. Ты должна быть частью этого нового мира и прожить достаточно долго, чтобы увидеть новый Халифат…
Самому отцу столько прожить не светило – что у него было с сердцем, Замиль так и не узнала. Но он иногда повторял, что оставшиеся ему на этой Земле дни коротки, и всё, что остаётся… всё, что остаётся – это приближать конец. Она и сейчас видела, как наяву, его тонкие, подрагивающие пальцы, развинчивающие мундштук и уминающие сердцевину. И по квартире плыл приторный, тошнотворно-сладковатый, проникающий, казалось, сквозь поры до самых костей запах марокканского зелья. Глаза отца, как и матери, стекленели, и они болтали о чём-то понятном только им и хихикали. Нередко их глаза краснели, и липкие струйки слюны тянулись из уголков рта, но те их не замечали.
Что хуже того – марокканское зелье нередко разжигало в них страсть, и они предавались ей, даже не стараясь уединиться. Замиль, которую тогда только начали называть так, видела их несвежую кожу, покрытые складочками и морщинками тела, сотрясавшиеся от оргазма, вдыхала запах плывущей по квартире травы. И ненавидела Марокко.
Тогда она дала себе клятву никогда, никогда не пробовать этой дряни. И конечно, стала не первым человеком, которому пришлось свои детские клятвы нарушить.
Вот и сегодня не удержалась. После разговора с мавританцем она получила затрещину от своего седого кобеля за то, что долго ходила, и взбучку от Балькиc. Но главное было даже не это.
Замиль знала, что вчера её жизнь сдвинулась – просто ощущала это каждой клеточкой тела. Она давно примеривалась к этой стороне Острова – муташарридам, контрабанде, тёмной стороне Зеркала, но впервые сделала туда шаг. Прочитал ли Салах то, что она ему сбросила? Должен был, ведь там речь и о нём. Имеет ли это какую-то ценность? Заплатит ли и захочет ли купить и ещё? Придёт ли опять этот шейх? И главное, удастся ли уговорить мавританца перевезти её через море?
Взвинченная, Замиль почти не спала остаток ночи, нервно вертясь с боку на бок, вонзая ногти в ладони и прокручивая в голове различные варианты. Лишь под утро она провалилась в тревожный сон, так и не поняв сама, чего опасается больше: того, что её история с Салахом не приведёт никуда, или того, что она всё же приведёт… куда-то.
Едва проснувшись, с ноющими висками и чувством гулкой пустоты в голове, как будто и не спала, Замиль потянулась к наладоннику и проверила маль-амр. Она дала ему вчера свой номер, но… ничего. Он не написал ей ничего.
Со смешанным чувством облегчения и разочарования Замиль направилась в хамам, надеясь хоть немного взбодриться.
Но даже прохладный душ не привёл её в норму. И она решилась. Скользнув в свою комнатку, Замиль открыла тайничок и из-за подкладки своего халата вытащила неприкосновенный запас. Свёрнутую в тончайший рулончик палочку ката.
Кат. Как ни иронично, на Остров он в свое время пришел вместе с махдистами, на словах враждебными любому дурману. Они запретили алкоголь в первую очередь, но не были так однозначны касательно дурмана растительного происхождения. А туманить голову человеку всё равно надо, c усмешкой думала иногда Замиль. Попробуй-ка проживи в этом мире с постоянно трезвым разумом.
И на остров пришли зелья – разные. Марокканская дрянь, погубившая её мать и отца (по крайней мере, Замиль считала так), опиум и ещё более дурные травы, что доставлялись из Африки, пилюли, разжигавшие любострастие. И конечно, кат. Этот аравийский дурман стал для многих главным источником сил и проклятием.
В свежем виде он плохо рос в здешних краях, но его быстро научились обрабатывать и вместо листьев продавали тонкие пластинки или скатанную в рулончики вытяжку. Разжёванное во рту, зелье творило чудеса – заставляло сердце биться энергичнее, наполняя всё тело бодростью даже после самой дрянной ночи. Всё начинало казаться по силам, и человек с утроенной энергией брался за самые утомительные дела – бывало, впрочем, что встревал в бесплодные, но не менее энергичные споры.
Заёмная сила, которую давал кат, освежала разум и придавала телу крылья, но, как и всё заёмное, её приходилось возвращать с процентами. А процентами были – у тех, кто употреблял зелье слишком часто – слабость и апатия, иногда переходящая во взвинченность, потеря аппетита и запоры, бессонница и судороги.
Впрочем, это если слишком перегибать через край. Зарият вполне осознавала, что жизнь у её «ланей», как она в минуты умиления называла своих девиц, была довольно скучной и безрадостной, и что тоскующие красавицы неизбежно вызовут раздражение у гостей. Кат был дешёвым и – относительно – безопасным способом поддерживать силы и хорошее настроение. Замиль знала, что некоторые девицы не удовлетворялись им и тянулись к дурману покрепче… и заканчивалось всё это нередко скверно.
Но ей хватало ката.
Вот и сегодня. Не прошло и четверти часа, как усталость после почти бессонной ночи, муть в мозгах и тревога на сердце отхлынули, словно откуда-то из души вытащили огромную занозу. Спускаясь вниз, чтобы выйти поесть, Замиль ощутила уверенность. У неё получится, конечно, всё получится. И украсть любую информацию, и заставить Салаха перевезти её на другой конец моря. А там… там её ждёт совсем другая жизнь.
На выходе она столкнулась с Зуммарад. Немолодая, ей было не менее сорока, эта женщина пользовалась безусловным доверием Зарият. Говорят, даже делила с Зарият прямую прибыль от их байт-да’ара, который они основали вместе. Где она родилась – Аллах ведает, даже по выговору не понять. Диалекты сменяли друг друга в её речи, как облака на небе в ветренный день, либо мужчины в её постели за эти годы. Всегда прекрасно ухоженная – имела с клиентов достаточно, чтобы себе это позволить – Зуммарад, конечно, давно не танцевала, но оставалась для особых поручений.
И вот сейчас, столкнувшись лицом к лицу с Замиль, она одарила её долгим взглядом своих продолговатых, влажно поблёскивающих глаз.
– Жевала кат? – коротко спросила она вместо приветствия.
Замиль сейчас чувствовала себя слишком уверенной в себе, чтобы это отрицать.
– Я плохо спала, – отрывисто бросила она, – очень устала. До вечера ещё долго. Отпустит.
– Отпустит, – согласилась Зуммарад, – в этот раз. И в следующий. А однажды нет. Ты помнишь Голубку?
Замиль помнила. Девушку по имени Аиша очень любили клиенты, и она была им известна как Хамамат Мурах, Весёлая Голубка, за её постоянно радостный настрой, смешливость и острый язычок. Всё это было просто ловкой игрой, но давалась эта игра Аише нелегко. Девушка, как и многие из них, отчаянно одинокая, пристрастилась к кату. Большинство девиц жевали его время от времени, но для неё он стал постоянным источником сил, и большую часть денег она спускала или на тоненькие веточки, или на ещё более тонкие пластинки, которые запихивала за щеку. Замиль хорошо помнила её глаза, оживлённо блестящие под действием наркотика, её громкий смех и такие же громкие шутки. Но платить приходится за всё – и Весёлая Голубка платила. Сначала, как и другие, расстройством пищеварения, бессонницей, судорогами. Но потом зашло дальше. Девушку стали мучить навязчивые идеи: что товарки воруют у неё деньги, что они настраивают против неё клиентов. Однажды вечером она разбила кофейник о голову одного такого клиента – ей показалось, что тот хочет достать нож. Зарият с огромным трудом замяла скандал, Аиша-Голубка исчезла, и никто не знал, что с ней сталось. Но с тех пор за девушками, расслаблявшимися с помощью зелий, следили с особым вниманием. Ещё одну, слишком полюбившую затягиваться кефом, выгнали до того, как она успела что-то натворить – просто во избежание.
– Я помню Хамамат, – ответила Замиль, – но я – не Хамамат. Я редко жую кат, только когда правда плохо. Со мной не будет проблем, не волнуйся, Зуммарад.
– Я надеюсь, – Зуммарад кивнула и поправила рукой уголок хиджаба. – Зарият доверяет тебе. А она не любит, когда её доверие не оправдывают.
Наверное, эти слова должны были насторожить, но кат всё ещё будоражил её кровь, и Замиль только кивнула, сделав шаг мимо посторонившейся женщины. Она вышла во двор и застыла, думая, куда идти. В «Аль Куодс» поесть или просто пройтись к центру? В это время наладонник задрожал у её бедра как испуганное животное, и Замиль вытянула его из сумочки.
На экране мигал огонёк сообщения. Незнакомый номер и короткая фраза без приветствия:
– Приходи сегодня после обеда в «Куб мин аль-шей». Поговорим.
Поглядев пару секунд молча на это сообщение, Замиль спрятала наладонник и сжала руки, чувствуя порыв бурной радости. Он хочет видеть её! То, что она передала, для него важно! Может, он захочет получить ещё!
Каким-то уголком сознания Замиль понимала, что это действие зелья наполняет её диким, искрящимся оптимизмом, но не хотела противиться этой волне. Если она будет продолжать как надо, всё у неё получится, и прощай, смрадная клоака весёлого района! И ты сможешь только поцеловать меня в зад, Зарият!
Времени ещё оставалось достаточно, и, по-прежнему кипя энергией, Замиль решила пройтись, чтобы выпить кофе.
Она шагала по двору как на крыльях и не замечала, что Зуммарад не пошла дальше. Став чуть глубже в тени их крыльца, она, прищурив свои подведённые глаза, смотрела ей вслед.
Глава седьмая
Понимание того, что надо совершить намаз, пришло к нему внезапной волной. Странны всё же его взаимоотношения с Аллахом. Он вырос в семье хороших мусульман. Так говорил про них отец – хорошие мусульмане. Впрочем, как ему казалось в детские годы, плохих вокруг них просто не было. И с теми, кто принял Пять Столпов, всегда всё будет ясно и понятно. А потом…
Потом он потерял всё. Его отец был убит под крики «Аллаху акбар», его мать… Салах старался даже не думать о ней. Всё его отрочество, бедное и беспечное, было зачёркнуто людьми с закрытыми лицами, которые ездили под флагами с восходящим солнцем и убивали, провозглашая хвалу Аллаху. Но если они с Аллахом, то с кем же тогда он?
Салах так и не понял этого за годы своих скитаний. Годы, за которые он видел обман, лицемерие, грех, слепой фанатизм и хитрый расчёт с именами Аллаха и Махди на устах. Он давно не чувствовал ничего общего с этими людьми, с их липкой верой и дутым благочестием, с их восходящим солнцем. Но… он иногда ощущал Аллаха рядом с собой. Давно не следя ни за временем, ни за азаном, иногда посреди моря или в рассветной тиши своей конуры становился на колени, и, повернувшись лицом в сторону Мекки, просил Всеблагого дать ему мудрости и сил, чтобы не потеряться в этом обезумевшем мире. Сохранить его жизнь, а, если ему уготовано погибнуть, то душу.
Вот и сейчас. Эта белая девка идёт к нему. Совершил ли он ошибку, связавшись с ней? Но ведь именно она показала, что его смутные подозрения оправданы. Эти полоумные шейхи, кем бы они ни были, действительно хотят его гибели. И даже не потому, что он сделал им что-то плохое, а потому что помог и этим стал опасен. Он криво усмехнулся. Вот и посмотрим. И Салах вышел на улицу.
Этот район Мадины, Вуччирия, разительно отличался от центра, куда он, впрочем, выходил не так часто. Здесь стояли старые блочные дома, построенные ещё назрани – с желтовато-кофейного оттенка стенами и пёстрой вязью граффити на фундаменте. Здесь ещё можно было выпить кофе так, как его готовили местные, здесь… здесь было особенно понятно, каким причудливым варом кипит нутро Острова. Разноликая толпа: старые люди, потерявшие свой Остров, магрибцы, жители внутренней Африки… чернокожие и просто смуглые, одетые по-магрибски, по-нигерийски, по-западноафрикански и в кое-как подлаженной под новый фикх одежде назрани – жители Вуччерии сновали в разные стороны с утра, оглашая переулки многоязычным гулом, между произвольно припаркованными автомобилями, душными лавочками и надписями по-итальянски, по-арабски и на Аллах ведает каких ещё языках или их смешении. Как ни странно, но от этой жуткой дыры веяло чем-то родным, чего он не ощущал в лицемерно-прилизанном центре, чем-то, напоминавшим ему муравейник Нуакшота. Но дело прежде всего.
…дело, да, но оно сегодня не одно. И то, что предстоит, намного проще того, что останется на самый конец – решить. Что делать дальше? Бежать? До Марсалы он доберётся за полдня, и Таонга приютит. Ну, а дальше-то что? Долго там не просидеть – найдут. Да та же Таонга, честно скажем, и может сдать. Кто доверяет таким?
Но если не в Марсалу, то куда дальше? В Сус, в Магриб? Там проще потеряться, но можно и…
Роившиеся в голове мысли не помешали Салаху сделать всё как надо. Он оповестил братьев Беннани о девушке в непотребной платье, что будет идти по дороге, и уж «хвост»-то они заметят. Хвост – да, а маячок – нет.
Представив, куда Замиль могла бы спрятать маячок, Салах усмехнулся и толкнул скрипящую дверь, входя в помещение закусочной «Куб мин аль-шей».
– Салам, Шарифа, – бросил он с ходу, – комнатка с двумя выходами свободна?
Шарифа подняла голову, стряхнула указательным пальцем пепел с сигареты и недовольно произнесла:
– Салам. Свободна, но неприятности мне тут не нужны. Кого ждёшь?
Одетая в чёрное сухонькая маленькая Шарифа постоянно выглядела так, словно только что с похорон. Впечатление усиливали её пронзительные недобрые глаза, чуть седеющие волосы и голос с резким алжирским выговором.
– Всё будет хорошо, – бросил Салах и, подойдя к стойке, положил на неё карточку в пятьдесят истинных денаров, – сдачи не надо.
Аллах не любит расточительных, и он тут же обругал себя за это. Но что делать. Узкая, худая рука Шарифы с узловатыми пальцами сгребла купюру и исчезла, через несколько секунд появилась над стойкой вновь, бросив на неё ключ.
– Если что, я тебя не знаю, – её чуть слезящиеся чёрные глаза ничуть не смягчились после того, как она получила деньги. Как и всегда, впрочем.
– Конечно, – Салах кивнул. – Сюда придёт женщина в синем платье. Зовут Замиль. Пропусти её.
Шарифа молча кивнула.
Заведение Шарифы формально считалось кафе-закусочной, хотя все называли его «укромкой». Нет, чашечку скверного кофе и такого же жидкого чая здесь сделать могли, как и разогреть стылую картошку или то, что называлось «кебаб», но не этим зарабатывала на жизнь Шарифа, мрачная, равнодушная ко всему вдова-алжирка. За кухней шёл короткий коридор с тремя комнатками. В этом районе, как и везде, хватало мужчин, которых дома ждала опостылевшая жена, а хотелось свежего мяса. На байт-да’ара работяги обычно раскошелиться не могли, да и не хотели, вот и снимали на час комнатку у Шарифы или в паре других таких же «укромок», разбросанных в их квартале. Не то чтобы Салах часто захаживал туда – не было необходимости, но он про неё знал. Мало ли зачем может понадобиться.
Вот и сейчас. Последняя комнатка имела две двери: внутреннюю – в тёмный, освещённый парой мигающих лампочек коридор, и балконную – на противоположную улицу. Конечно, братья Беннани скажут ему, одна ли пришла Замиль, но, даже так, всегда надо иметь запасной вариант. Аллах наказывает беспечных. И Салах мрачно усмехнулся. Он становится набожнее, чем обычно. Значит опасность ближе.
Замиль всё-таки пришла одна – он знал это, уже когда она подходила к «Куб мин аль-шей». Скорее всего, обратный ход не понадобится, хотя расслабляться не стоит. Короткий, какой-то вкрадчивый стук в дверь.
– Заходи, – отрывисто бросил Салах, и дверь приоткрылась.
Древние жалюзи на окнах рассеивали свет, но даже так его хватало, чтобы рассмотреть пришедшую подробно. Хороша. Не скульптурной красотой Джайды, скорее, какой-то волнующей инородностью. Резко очерченные широкие скулы, полуприщуренные глаза удивительного болотно-зелёного оттенка, крупные нос и рот, светлая кожа с чуть проглядывающей смуглинкой – сливки с каплей кофе. Далёкая от тех представлений о красоте, что он впитал с детства, но при этом неуловимо дразнящая, Замиль стояла в дверном проёме, и лишь кривившая уголки рта усмешка показывала, что она вполне осознает, какое впечатление производит на мужчин.
– Ис-саламу-алейкум, – бросил он ей наконец, – заходи.
– Алейкум-ис-салам, – тут же откликнулась девушка, сделала шаг в комнатку и осторожно прикрыла за собой дверь.
Потом повернулась и посмотрела на него. Он так же смотрел на неё в ответ, не предлагая сесть.
– Ты хотела говорить, – сказал Салах, – можешь говорить.
Замиль улыбнулась – в первый раз с тех пор, как он её увидел. Но это была не та ласковая, многообещающая улыбка, которой девочки Зарият приветствовали гостей. От усмешки на него повеяло чем-то нехорошим.
– Ты муташаррид, – девушка начала без всяких условностей и оговорок, с которыми благовоспитанной махдистке полагалось обращаться к порядочному мужчине. Ладно, он порядочный мужчина не в большей степени, чем она – благовоспитанная махдистка.
Слова Замиль явно не были вопросом, но Салах кивнул.
– Возможно, – ответил он коротко.
– Возможно, – ему показалось, или в болотных глазах гостьи мелькнула насмешка? – Возможно также, что я точно это знаю. Как знают это и шейхи, приходящие к нам в дом отдохновения.
На последних словах в её голосе уже явно прозвучали насмешливые нотки.
– Знают, – повторила она, – а я вот не знаю, что ты натворил, и знать этого не хочу. Но…
И тут она замолчала, а Салах удивлённо прищурился. В дверях девушка казалась такой уверенной в себе, но сейчас сдулась на глазах, словно проколотый мяч. Не требовалось быть тонким знатоком душ, чтобы понимать – она собиралась сказать главное, нечто крайне для неё важное и сейчас судорожно подыскивала слова. Кровь от её и без того светлого лица отхлынула.
Салах молчал.
– Ты пересекаешь море? – выдавила наконец из себя Замиль, – так ведь? Бываешь… на той стороне?
Вот оно что.
– Я много где бываю, – Салах всё так же рассматривал её в упор. На улице послышались чьи-то голоса и смех, и он напрягся, но девушка не повела и бровью. Либо за ней не следят, либо она не знает, что следят, либо… она ну очень хорошо владеет собой.
– Салах, скажу тебе прямо, – она теперь не выдавливала из себя фразы, а словно выплёвывала их, – я давно хочу сбежать отсюда. На… на ту сторону. Мне нужен такой человек, как ты. Я могу заплатить, у меня есть деньги. Не так много, но кое-что есть. Кроме того… я могу лечь с тобой.
Перед последними словами она замялась едва на мгновение – видать, всё продумала заранее. Да и лечь с мужчиной – не великое событие для женщины её ремесла.
Но Салах только покачал головой.
– А ты знаешь, чего ты просишь? Ты хоть представляешь, что там – на том берегу? Почему его называют Беззаконные земли?
– Я знаю, что здесь, – девушка не отвела взгляд. – Послушай, Салах, я… я могу быть полезной тебе. Ты же знаешь, те шейхи – очень важные люди. И они взъелись на тебя за что-то. Я смогу выкрасть ещё – скопировать разговоры, все, что они носят с собой на наладонниках. Ты продашь это, заработаешь много денег. Но ты должен… взять меня с собой.
– Есть люди, которые хотят перебраться на ту сторону, – Салах больше не смотрел на неё и говорил рассеянно, – есть и те, кто за это платит. Но я… я не занимаюсь такими делами.
– Почему? – Замиль, видимо, хотела просто задать вопрос, но в голосе зазвучало отчаяние. – Разве это хуже, чем таскать оттуда всякий тахриб, непотребные книги и фильмы и…
– Ты не знаешь, о чём просишь, – он покачал головой, – и с кем начинаешь играть.
– Те разговоры, что я скопировала… – девушка заколебалась, – они ведь… важны, да? Я видела, что там говорилось про Газават, про…
– Тихо, – Салах не повысил голос, но девушка умолкла, – о таких вещах лучше не говорить вслух.
– Они продаются на тёмной стороне Зеркала, – сказала Замиль, и вновь ему подумалось, что её голос звучит едва ли не умоляюще, – я знаю… слышала… я могу сделать так ещё.
Он поднял руку, и девушка замолкла опять. Странно, всё очень странно. Что в действительности он доставил на ту сторону такое, что шейхи готовы убрать даже случайных свидетелей? Может, с Острова и правда лучше свалить по-быстрому?
Но Салах только сказал:
– Этот человек… шейх или кто бы он ни был… когда он придёт тебе, ты сможешь предложить ему покурить кое-что?
Замиль моргнула, и через секунду на её лице отразилось понимание.
– Одурманить? – сказала она. – Да, думаю, смогу. Зелья у нас предлагают другие девочки, но…
– Я скажу тебе, как надо это сделать, – Салаха накрыло странное чувство, как будто какой-то ком в горле, который он не мог проглотить, наконец скользнул вниз и стало легче дышать. Решение было принято. – Раз они здесь, и так падки на женщин и кеф – будут у вас и ещё. Они знают Зарият, по крайней мере…
Он прикусил себе язык, едва не сказав, как Хашим ему представился. Имя, конечно, ложное, но в любом случае, чем меньше Замиль будет знать, тем лучше.
– Ты сделаешь это? – спросил он девушку, и та, чуть побледнев, кивнула.
– Попробую. Это опасно. И раз я тебе помогаю – ты поможешь мне? Возьмешь меня с собой на ту сторону? Я заплачу.
Вот же упрямая баба…
– Возьму, – ответил он, – ты получишь что хочешь – хотя не пришлось бы потом пожалеть. Сделаешь вот как…
Глава восьмая
Зеркало. Плод человеческого гения, милость Аллаха или лукавство Иблиса? Никто толком не знал, но ещё перед Великой Войной через мир брошены были его незримые связующие цепи. Тогда же появилось и это слово – «Зеркало», хотя знавшие мир назрани называли его иногда «Интернетом». Людей пугает, но и притягивает всё новое, и Зеркало манило своей бездонной гладью. Несмотря на гневные проповеди имамов всё больше правоверных приобретали себе американские или китайские устройства – сначала громоздкие, занимавшие весь стол – и припадали к экрану. Там можно было гулять, не вставая со стула, по улицам далёких городов, читать книги и смотреть фильмы, которые бы привели в ужас истовых ревнителей веры, можно было говорить с людьми с разных уголков планеты, можно было…
Но это были времена начала «зеркальной эры», грубо и жестоко прерванные войной. Зеркало, бесстрастное к человеческому горю и ярости, отразило смятение первых дней войны, и безумные новости сменяли записанные на дешёвые камеры сцены ужаса: уродливые грибы ядерных взрывов, выжженые города, сцены фитна, сумятицы, уличных боев. Крах старого мира. А потом Зеркало развалилось на части, разбилось, словно по воле злого волшебника из забытой сказки. И им остался один его осколок, связывающий земли Даулят-аль-Канун и дружественные государства, а людям по другую сторону моря – другой осколок. Мир утратил единство, и по его туго перетянутым венам перестала циркулировать кровь. По крайней мере, так было сначала. А потом появились муташарриды – люди, дерзко пересекавшие морские границы и доставлявшие из земель упадка и беззакония их тронутые гнилью плоды. Фильмы и книги, закатанные, человеческими ухищрениями в тончайшие пластинки размером не более ногтя.
Разве можно допустить такое поругание имени Аллаха и законов Махди? И стража Зеркала, вглядываясь в мерцающие мониторы уставшими глазами за специальными очками со светло-жёлтыми линзами, отслеживала скверну неустанно.
– Так надо сделать, да, именно сегодня, когда они придут, – Замиль нервничала, но старалась держать себя в руках, понимая, что пугливая Джайда и без того в замешательстве.
– А если он меня увидит? – жалобно спросила она, и Замиль потрясла головой.
– Он почти наверняка снова будет обкуренный, не отличит тебя от тех гурий, что ему будут грезиться. Это важно, Джайда, поняла?
Малийка неуверенно кивнула.
Странно всё же выходило. Они говорили с Салахом в той дыре только о деле – о том, как пробраться ещё раз к этим жадным до ласк и кефа шейхам, как одурманить, как открыть их наладонник и что там искать.
То, что она скопировала в прошлый раз, представляло собой только обрывки информации. Интересно, вроде бы намекает на многое, но на «тёмной стороне Зеркала», объяснил ей Салах, такое не продать. Ему нужна информация, ей нужны деньги и расположение мавританца в объёме достаточном, чтобы он взял её на борт своего катера, когда в следующий раз поедет «на ту сторону».
– Я могу лечь с тобой, – повторила она ему, когда они закончили обсуждать что надо сделать, – тебе понравится. Я умею сделать так, чтобы мужчине понравилось.
– В этом я не сомневаюсь, – чёрные глаза мавританца только скользнули по ней, словно и беглого взгляда было достаточно, чтобы составить впечатление, – но сейчас женщина мне не нужна. В любом случае, не ты.
Вот же странно. Она уже не помнила, со сколькими мужчинами ей пришлось ложиться, и когда она стала воспринимать умение доставить им удовольствие как постылое ремесло, но тогда почувствовала себя уязвлённой. Она чуть не задала дурацкий вопрос «я тебе не нравлюсь?». Очнись, Замиль, ты шлюха, ты не можешь нравиться – тебя просто могут желать. Или не желать почему-то, как в этот раз. Но всё равно…
– Всё будет хорошо, – она улыбнулась Джайде, стараясь сообщить той хотя бы часть уверенности, которую сама не чувствовала, и ласково потрепала её по руке.
Солнце заливало улицы Мадины ядовитым жаром, и Замиль давно взмокла под своим плотным платьем. Бельё липло к телу, спину раздражающе щекотали струйки пота, в промежности свербело. Проклятье, и что это ей вообще стукнуло в голову прогуляться по городу?
Но она знала, почему вышла вместо того, чтобы сидеть под вентилятором в их гостиной, обмахиваться веером, цедить лимонную воду со льдом и сплетничать с остальными «ланями» Зарият. В другое время – да, так бы она, наверное, и поступила, но сейчас не получалось. Было страшно. Замиль знала этих девушек, а они знали её, некоторые – давно. И ей казалось, что просто по её лицу им сразу станет ясно – она задумала что-то нехорошее. Разговор с одной только Джайдой показал, что она не такая уж хорошая притворщица, а другие девушки куда сообразительнее малийки.
И вот вздыхая, отдуваясь и сквозь зубы ругая немилосердное солнце, Замиль тащилась вверх по проспекту Африки. Это центр, ну, почти. И даже сквозь окутывавшую мозги пелену липкой жары Замиль не могла не удивляться тому, как Город менял своих новых жителей и менялся сам. Да, здесь, в центре, несмотря на все усилия махдистов ушедший мир назрани просвечивал сквозь тонкую чадру вывесок на арабском, украшений в новолевантийском стиле и прочей мишуры. Тяжёлая брусчатка улиц, которая жгла ступни даже через подошву туфель, фасады домов, колоннады – отовсюду дышал Старый Мир. Пара новопостроенных минаретов выглядели как некий чужеродный объект, который причуда бури перенесла за много миль от краёв, где ему было место.
И люди. Их сейчас немного, конечно, какой же дурак добровольно станет расхаживать среди пышущих жаром камней? Только такие же бедолаги, как она. Курьеры крутили диски велосипедов, и Замиль, казалось, ощущала густой запах пота, шлейфом тянувшийся за ними. Мужчины, одетые как моряки, медленно шли в сторону порта, пара женщин в хиджабах несли полные сумки. И эти люди, и те, кто сидел в тени уличных кофеен и чайхан, бросали взгляды на проходившую мимо Замиль. Она кожей ощущала их пренебрежение, не менее осязаемое, чем бегущие вниз струйки пота. Пренебрежение пополам с похотью. Один из моряков свистнул ей вслед, потом окликнул, и, кажется, выругался, видя, что Замиль не останавливается. Сидевший под сенью навеса мужчина в широкой джеббе тоже отпустил сальную остроту не то в насмешку, не то предлагая ей что-то. Какая-то женщина сплюнула в её сторону и пробормотала непристойное слово на тунисском диалекте.
Неважно, всё это сейчас неважно. Если всё выйдет, этот липкий, потный, лицемерный мирок останется позади. Если всё выйдет…
На улице Бени-Меред, куда сейчас свернула Замиль, было немного прохладнее – сюда доходило дуновение с моря. Задыхавшаяся под никабом, она смогла вздохнуть с некоторым облегчением. Посидеть на парапете на набережной в другое время было бы заманчивой идеей, но нет, до неё ещё не меньше километра, и Замиль просто необходимо отдохнуть. Впрочем, на Бени-Меред она свернула не просто так.
«Байт-эм-Назих» – местечко, которое знали все «лани» города, как и все сутенёры и продавцы ката. Не то чтобы это была жуткая берлога. Формально он считался рестораном, но на деле представлял собой что-то вроде клуба, где можно было расслабиться, выпить чай или кофе на подушках, покурить шишу… конечно, здесь было два зала – для настоящих людей и для непотребных, кого следовало держать отдельно. Но в отличие от многих других заведений, в «Байт эм-Назих» к залу для клиентов второго сорта подошли серьёзно. Официанты там были безупречно вежливы, воздух охлаждался кондиционерами, еда и напитки не хуже, чем в зале для «настоящих». Неудивительно, что все парии Мадины (Замиль с усмешкой вспомнила, что слышала это слово от отца) давно облюбовали это местечко.
И вот Замиль толкнула разогретую ручку и со вздохом облегчения вошла в освежающую прохладу прихожей. Здесь царил полумрак, но кондиционеры работали исправно, и, сдёрнув никаб, Замиль несколько секунд просто стояла глубоко дыша, и ей казалось, что прохладный воздух обмывает её разгорячённую кожу как вода.
Когда её глаза привыкли к полусвету, она посмотрела в зал. Не так уж много посетителей, как кажется. В общем и неудивительно – людно тут обычно по вечерам. Из-за прикрытых жалюзи окон просеивалось мягкое свечение, в колонках модный певец гундосил слезливую песню на масри21, в воздухе стоял сладковатый аромат табака – кто-то явно курил шишу.
Отлично, здесь и посидим, соберёмся с силами. Кивнув стоявшему за стойкой официанту, Замиль двинулась, ища удобный столик. Свободно было, по меньшей мере, две трети, но ей хотелось сесть уединённо, так, чтобы…
– Замиль! Вот так встреча! – услышала она вдруг голос с лёгкой хрипотцой и подняла глаза.
За столиком у наполовину занавешенного окна сидела Рамадия. Её густые чёрные волосы, которые в таких заведениях разрешалось распускать, падали на плечи, несколько прядей прилипло к смуглой шее. В одной руке она держала длинную сигарету, вдетую в мундштук, другой рассеянно перебирала ручку веера. Веер и сигарета – странное сочетание. Впрочем, что ещё ждать от неё, ведь она…
– День добрый, Рамадия, – поздоровалась Замиль и скользнула глазами по соседним столикам – все, кроме одного, были свободны, значит кивнуть и продолжить…
– Садись, – здесь, у окна, к столикам были приставлены настоящие стулья на небольших гнутых ножках, и Рамадия, бросив веер, вытолкнула один такой стульчик в проход, – садись, я как раз хотела с тобой поговорить. Думала, где бы подгадать встречу. А оно вот как вышло… не иначе как помогает Аллах.
Последнюю фразу женщина сопроводила усмешкой, и Замиль вспомнила, что та ведь была из назрани, старых людей Острова, а сейчас… Во что верила Рамадия? И верила ли хоть во что-то?
Подхватив стульчик, Замиль осторожно опустилась на него, положила платок на стол.
– Что ты делаешь здесь? – спросила, не зная, c чего начать разговор и для чего вообще той понадобилась.
Рамадия только пожала плечами и затянулась сигаретой. Замиль заметила, что в пепельничке перед ней уже лежало два окурка. Некоторые девочки убивали себя кефом и прочими зельями, а Рамадия, похоже, намеревалась угробиться табаком.
– Да то же, что и ты, наверное, – пожала плечами она и, подхватив высокий прозрачный стакан свободной рукой, сделала глоток. Судя по тому, как растаяли льдинки, сидела она здесь уже давно, – надоело до смерти ошиваться в нашем доме. А гулять по такой жаре – это надо себя ненавидеть. Вот и посижу, думаю, в «Байт-эм-Назих», тут хотя бы прохладно.
Замиль кивнула и оглянулась, ища официанта.
– Фруктовый коктейль, лимонную воду, чай? – спросила её Рамадия.
– Кофе со льдом.
Выкрикнув заказ, Рамадия повернулась к ней, затянулась в последний раз сигаретой и несколькими резкими движениями затушила её о бортик пепельницы. Она смотрела Замиль прямо в глаза, и у той вдруг пробежал по спине холодок. Зачем вообще она ей понадобилась? Сказала, хочет поговорить… обычные сплетни?
– Знаешь, что, когда приходят важные гости, за нами следят? – Рамадия проговорила это, глядя ей прямо в глаза, без улыбки, и Замиль ощутила, как сердце проваливается куда-то вниз. Нет, это явно что-то серьёзнее, чем просто сплетня.
Она кивнула.
– И знаешь, кто? – продолжила Рамадия.
– Балькис, я думаю, – попыталась угадать Замиль, но в ответ Рамадия лишь покачала головой и откинула со лба упавшую прядь.
– И Балькис, конечно, тоже. Но правильный ответ – все. Мы все должны следить друг за другом, старшие за новенькими, новенькие за старшими. Так ведь?
Замиль неуверенно кивнула, ещё не понимая, куда ведёт её собеседница. Конечно, ябедничество и наушничество в их коллективе поощрялось – ту девушку, которая постоянно обкуривалась кефом, так и выгнали по чьим-то словам, но при чем тут…
– К нам нечасто являются высокие гости. К счастью. Проблем от них больше, чем денег, хотя и денег они оставляют немало. А опасные гости ещё реже. Но раз уж появляются…
– К чему ты всё это клонишь? – прервала её Замиль, ощущая растущее напряжение от намёков и изучающего взгляда женщины.
– К тому, что Зуммарад говорила с Зарият о тебе. Не знаю, что точно, не всё услышала… но что-то о том, что ты пытаешься встретиться с муташарридом, и что этот человек на очень плохом счету у шейхов. Один из них обещал даже, что его убьют, хотя, может, просто обкурился.
– Но я ничего… – вздрогнув, Замиль оборвала сама себя. «Ты оправдываешься, значит, ты виноват», – всплыли у неё в памяти слова отца. – Зачем ты мне всё это говоришь?
– Затем, что я не люблю их, – Рамадия пожала плечами, не желая пояснять, кого именно – «их», – и мне будет жаль, если ты по глупости куда-то встрянешь. Новости читала?
Замиль покачала головой.
– Беспорядки, фитна. И опять эти проклятые идиоты горланят на проповедях, словно всего, что они уже сделали, им мало. Так что будь осторожна, Замиль. Сейчас во что-то влезать…
Рамадия осеклась, потому что появился официант, который нёс высокую прозрачную чашку с охлаждённым кофе. Дождавшись, пока он поставит её на стол, она бросила:
– Шукран22, – и продолжила: – Не знаю, с кем ты там якшаешься и зачем. И не говори мне этого, не хочу знать. Но будь осторожна. На тебя здесь может донести не одна Зуммарад.
– Спасибо, Рамадия, – выдавила Замиль, изо всех сил стараясь не казаться напуганной, – мне нечего бояться, но я буду осторожной.
– Вот и славно.
Некоторое время они молча прихлёбывали каждая свой напиток, и Замиль пыталась переварить сказанное. Надо как-то сообщить об этом Салаху… но как, если он запретил связываться с ним при помощи коммуникаторов?
– Задумалась? – услышала она чуть хрипловатый голос и подняла глаза.
Рамадия постукивала пальцами по пачке сигарет. Неужели она опять будет курить?
– Всё в порядке, – с вымученной улыбкой произнесла Замиль и показала пальцами «угол»23. О чём бы таком спросить её, чтобы та не догадалась, как испугали её слова? – Послушай, давно было любопытно. А почему ты Рамадия?
Впервые за их разговор Рамадия улыбнулась, показав острые зубы, на которых, несмотря на все мази и ухищрения, тонкой каймой по краям проступала желтизна курильщика.
– Это очень просто, – сказала она, – фамилией моей матери, что воспитала меня, была Гриджо24. Я и оставила её как имя. Не хотелось совсем отрываться от корней.
Глава девятая
Абдул исчез. Просто не вышел на связь, как это было уговорено.
Они встретились вчера вечером за обычным чаем, и Салах осторожно изложил ему всё, что было известно – наниматели оказались с гнильцой, и, похоже, на какое-то время обоим стоит не отсвечивать. В их жизни всякое бывало, и Абдул сказал, что этим же вечером переставит их катер, а потом постарается замести и другие следы. И после этого он должен был написать ему через маль-амр. На всякий случай они условились, что, если почему-то не выйдет связаться, то встретятся в чайхане «Абу набиль», как всегда.
Он не написал. Ни тогда, когда они условились, ни часом позднее. Салах со всё нараставшим беспокойством проверил коммуникатор опять. Ничего. Более того, указатель времени говорил, что Абдула и не было в сети с половины десятого утра. В другое время он бы мог допустить, что тот забыл об их уговоре, пошёл к женщине или покурил кефа (водилась за ним такая слабость), но… вряд ли. В серьёзных ситуациях Абдул был вполне надёжен, и вчера явно воспринял его слова всерьёз. Отогнать катер и потом отписать, как всё прошло.
И раз не написал… ещё раз, в пятый или шестой раз посмотрев на пустое окошко маль-амр, Салах наконец решился. Он поддел ногтем крышку и вытащил диск батареи.
Всё-таки чудна судьба человека, и никогда не знаешь, что Аллах начертал ему в будущем. Разве мог подумать он, разносивший в отроческие годы багеты в родной Тиджикже, потерянной в песках времени, что ему придётся не просто бороздить море, но ещё и разбираться во всех шайтанских хитростях новомодной техники? Но захочешь жить… По работающему наладоннику стража Зеркала могла вычислить местоположение человека. Это было непросто, конечно, но, если нанять знающих людей… Судя по тому, с какими людьми им пришлось связаться, он не сомневался – денег и связей на найм лучших специалистов по поиску в Зеркале у них хватало. Потому лучше не гневить Аллаха беспечностью.
Выключив наладонник, Салах бросил на кровать сумку и на минуту задумался, решая, какие вещи унесёт с собой, если придётся бежать быстро. Деньги, конечно – то, что он накопил за эти годы. Не всё, как любой разумный человек, все яйца в одну корзину он не складывал. Но сколько-то наличности под рукой было. И первым делом он начал раскладывать пачки истинных денаров. Потом достал аккумулятор для зарядки наладонника, подложный паспорт (ох и дорого же тот ему обошёлся!), щётки и набор палочек для чистки зубов, «тычок».
Покачав в руке лёгкое матово поблёскивавшее оружие, он вспомнил, что Замиль тоже принесла его с собой в сумочке – он ясно видел корпус, когда она её открыла. На самом деле, не так и удивительно. Женщинам запрещалось покупать такие вещи, но запрещалось так же и много чего другого, что они, как и мужчины, постоянно делали. «Тычками» у них на Острове прозвали бесшумно стрелявшие пневмопистолеты, продукт условно (очень условно!) дружественного Нанкинского блока – союза стран, который на руинах Большой войны удалось сколотить Китаю. Оружие считалось несерьёзным – его округлые пули не могли нанести тяжелых ран, но благодаря электрическому заряду при попадании вызывали у человека мгновенную резкую боль, чего вполне хватало, чтобы получить преимущество в драке. Настоящий пистолет у него тоже был – на катере, но безопасно ли сейчас идти к катеру?
Салах очень в этом сомневался. «Тычок», конечно, оружие для женщин и подростковых банд, но всё же с ним лучше, чем вообще безоружному. И Салах осторожно укрепил его в поясной сумке. Может понадобиться. Широкий короткий нож с упором для большого пальца, купленный по случаю в Александрии, он аккуратно поместил в потёртые кожаные ножны и положил в пояс с другой стороны. Так, теперь одежда.
Через полчаса он стоял в своей коморке и оглядывался по сторонам. Жалко покидать, он уже сроднился с этой дырой, здесь стало даже как-то уютно. Но делать нечего. В голове быстро прокручивались варианты. Лучше всего, конечно, в Марсалу, там можно найти убежище у Таонги… наверное… и, если поговорить с Ситифаном, то можно переправиться в Сус или хотя бы на Мальту. Там-то затеряться проще. Но что же всё-таки намерены делать эти полоумные в безупречного покроя галабиях? И как получилось, что он, добрый мусульманин (во всяком случае, искренне желающий считать себя таким) истово ненавидит этих лощёных лицемеров с именем Аллаха на устах? Не потому ли, что за ними лежит тень Махди и тот день в Тиджикже…
Его размышления прервал стук в дверь. Насторожившись, Салах потянулся к ремню и высвободил нож. Быть пойманным в этой дыре будет совсем глупо. Он глянул на окно – удастся выбить без труда, но… стук в дверь повторился. Салах подошёл, держась в стороне, чтоб его не задела пуля, если стоявший там выстрелит.
– Кто там? – спросил он вполголоса на хассания.
– Я от Шарифы, сайиди25, – послышалось в ответ, голос как будто совсем подростка.
Салах немного расслабился. В конце концов, в ночлежку «Даккара» не проникнуть так просто. С другой стороны, кто угодно мог стоять и за подростком. Он повернул рычажок замка, старого, но вполне надёжного, купленного им как-то на барахолке, и потянул на себя.
За дверью стоял чернокожий пацан лет пятнадцати, одетый в потёртые джинсы и широкую рубаху на вырост.
– Салам алейкум, – проговорил он на островном наречии, – мне сказали, что тут живёт Салах из Мавритании… эй, сайиди, да полегче, я тут один!
Последние слова он поспешно добавил, когда увидел блеснувший нож.
– Салам, – коротко бросил Салах. Кажется, в коридоре и правда больше никого, – я тебя у Шарифы не видел.
– Так ты, наверное, и не на мальчиков туда смотреть приходил, верно? – осклабился пришедший, показав щербину на месте нижнего клыка. – Да расслабься, сайиди, меня знает Малик. Я тут для связи.
– Чего хочет Шарифа? – Салах чуть расслабился, хотя за паскудный намёк про мальчиков испытал секундное желание дать малолетнему засранцу хороший подзатыльник.
– Шарифа денег хочет, чего старая ведьма может хотеть ещё, – пожал плечами пацан, – но сейчас она отправила меня к тебе с этой вот запиской. Тебя там вроде как кто-то ждёт.
И он выудил из кармана свёрнутый в трубочку листок и протянул Салаху. Тот принял его и кивнул, не выпуская из другой руки нож. Подросток, однако, не убрал руку, а продолжал держать вытянутой, глядя на него с полувызывающей-полулукавой усмешкой.
– Разве Шарифа не заплатила? – сухо спросил Салах, и мальчик только пожал плечами.
– Сколько может заплатить эта грымза? – хмыкнул он. – Но дело, как я понимаю, важное…
– Тебе платят не за то, чтобы ты понимал, – буркнул Салах, отложил записку на лежавшую на кровати сумку, пошарил в поясе и нашёл пластиковый квадратик. – Иди, да не советую спускать всё на кат.
– Шукран, – с обезьяньей ловкостью мальчик спрятал купюру и, развернувшись, направился по коридору.
Шарифе-то он зачем понадобился? Вот уж от кого весточек не ждал. С нехорошим предчувствием Салах развернул записку. Через листик шла скоропись:
«Джайда ждёт тебя, где мы встречались, есть срочные новости, приходи, это важно».
Без подписи, но почерк похож на женский. Салах замер на секунду, размышляя. Писала ли Замиль? Может, и она, а может, и нет, тут уж не угадаешь. Её-то руку он пока не знал.
И всё же. Идти ли к Шарифе? Вряд ли это люди, посланные шейхами – слишком сложно для них, если бы они смогли послать пацана по его адресу, то смогли убить его и проще. С другой стороны, кто знает, что за новости могли принести ему две шлюхи? Называя их мысленно, Салах ощущал, что не воспринимает их просто блудными девками, не после того, как поговорил. Джайда показалась ему просто потерянным большим ребёнком, а Замиль… вот ей бы палец в рот класть не стоило. Хитрая, себе на уме, ни во что не верящая и мечтающая попасть в Беззаконные земли. Она сказала, что заплатит ему за это. Сколько же, интересно? И, если она и вправду сможет скопировать с наладонника одного из тех шейхов что-то важное, удастся ли это продать через тёмное Зеркало?
Размышляя так, Салах положил нож обратно в пояс, потрогал корпус «тычка» и понял, что пойдёт к Шарифе. Может, это небезопасно. Но просто сидеть и надеяться, что тебя не заметят, хуже, это-то он успел усвоить за свою жизнь в тени Закона.
До «укромки» Шарифы было две улицы – как раз достаточное время, чтобы что-то обдумать. Абдул исчез после того, как должен был идти к их катеру – значит, проверять катер сейчас будет глупостью. Его могли убить сразу (здесь он почувствовал, как кольнуло в сердце – ведь они так давно работали с Абдулом вместе, и он уже сроднился с ним), но могли и выпытать сначала нужные сведения. Например, как выйти на Салаха. Чутье говорило ему однозначно – нужно исчезнуть и чем быстрее, тем лучше. Что ж, он собран, сейчас посмотрим, что скажет эта девка, а там по обстоятельствам. В конце концов, может, даже получится сорвать на этом лишние деньги, что будет кстати, ибо он, похоже, лишился и катера, и заработка муташаррида.
На углу перед кафе Шарифы он заколебался на какое-то время. Могла ли там ждать его вовсе не Джайда? Исключать нельзя, но… у него мелькнула мысль поймать какого-то мальчишку и послать его посмотреть, но он прогнал её. Положимся на удачу. И он, остановившись, беззвучно прошептал слова дуа, после чего расстегнул карман на поясе и вытащил «тычок». Не его контрабандный кольт, что так и остался на катере, но некоторую уверенность придаёт.
От Шарифы, восседавшей на своём обычном месте за стойкой, он узнал немногое. Действительно, «черномазая девка», как она выразилась, пришла сюда утром и требовала позвать его едва ли не со слезами. Деньги у неё при этом были. Да, ждёт его и сейчас. Да, сама.
Шарифа сдала бы его за нужную сумму – он в этом ничуть не сомневался, но вряд ли полиции. Всё-таки, «крыс» в их квартале терпеть бы не стали.
Пройдя по коридору, Салах увидел номер нужной комнаты и без стука растворил оказавшуюся незапертой дверь.
В комнатке был всего один человек – собственно, Джайда, она в своём синем платье сидела на кровати и выглядела потерянной. Когда дверь распахнулась, она испуганно вскинула голову, но, увидев, кто пришёл, выдохнула с облегчением.
– Наконец-то, альхамдулиллах, – проговорила она быстро, – Салах, тут всё очень, очень плохо. Эти люди, шейхи, приходили в байт-да’ара опять, и Замиль… ох, Салах, во что мы впутались?
Глава десятая
«Этот мир будет миром меча, – говаривал её отец, глядя на неё своими вечно покрасневшими, чуть слезящимися глазами, – миром, где мужчины – это мужчины, а женщины – это женщины. Миром, где силы не стыдятся, а гордятся ей. Миром, каким его и задумывал Творец». Он много чего ещё потом говорил, сидя в дыму марокканского зелья, пока его речь на становилась лишённой всякого смысла. Замиль это помнила. И делала из услышанного выводы так, как их делает ребёнок – не умом, а сердцем.
Раз мир, который строится в аду Великой Войны, будет миром меча, миром силы, значит и ей нужно быть сильной. Во всех смыслах этого слова.
Родители, конечно, такого бы не одобрили – они видели в ней женщину нового порядка, женщину, воспитанную по всем правилам Обновлённого Учения… но мало что могли поделать, потому что всё реже бывали в здравом рассудке. И Замиль после уроков танца и курсов арабского языка всё чаще заглядывала в спортзал, который облюбовала её пёстрая уличная компания. И просила мальчишек научить её драться.
Мать, не говоря про отца, так и не узнала об этом, но её первый парень, увлекавшийся тайским боксом, воспринял просьбу своей девушки серьёзно.
И глядя на лежавшее у её ног тело Зуммарад, Замиль криво усмехнулась, ещё раз подула на отчаянно нывшие костяшки и мысленно проговорила «спасибо».
В заведении Зарият это был обычный день, ничем не отличавшийся от других. Так бы восприняла его и Замиль ещё месяц назад. Но не сейчас, когда она после разговоров с Салахом жила как на иголках. Он сказал ей не выходить с ним на связь через Зеркало и дать знать, когда шейхи появятся, послав Джайду. И она была готова.
Настолько, что решила заранее сложить свои вещи, самые необходимые на случай, если придётся исчезнуть как можно быстрее. Она ходила по лестницам, сидела на скамейке во внутреннем дворике, улыбалась другим девушкам, обменивалась шутками и сплетнями… с постоянным ощущением, что стоит на тонком льду, который готов в любой момент под ней провалиться. И тот же лёд, тянущий холодок, она ощущала внизу своего живота.
Неужели этот день вот-вот наступит? Все её мечты сбежать из байт-да’ара, из Мадины, с Острова, из Халифата, наконец – они же были мечтами. Их было сладко лелеять в ночи, зная, что проснёшься утром, и всё будет по-прежнему. Но теперь, когда день великих перемен был так близок, Замиль ощущала не радость, а ужас. От того, что ничего не получится, или, напротив, потому, что получится всё?
– Они будут сегодня вечером, – сказала ей Балькис, – важные гости. Ты знаешь, о ком я.
– Шейхи? – Замиль почувствовала, как кровь отлила от её лица и что-то оборвалось в груди. Каким-то чудом она всё же заставила свой голос звучать нормально.
– Шейхи они или нет, это не нашего ума дела, – отрезала Балькис, не сводя с неё пристального взгляда, – важные гости. Это то, что тебе нужно знать. Ты была с одним из них, и ещё, наверное, будешь. Так что будь готова.
О, она и была готова – и ещё как! Она просто знала, чувствовала каждой клеточкой своего тела, что её сегодняшний клиент будет тем самым шейхом, который – как считал и Салах – хранил на своём наладоннике важную информацию. Информацию, которую можно будет продать в «коридорах» тёмной стороны Зеркала, и… Замиль даже не хотела загадывать. Была убеждена лишь в одном – эта ночь даст ей шанс. И его нельзя упускать.
Она так старалась быть «обычной» со всеми остальными девушками, что её лицо словно стянуло улыбающейся маской. Вечер, дождаться вечера, а там уже всё готово. У неё есть то приложение, которое показал ей Салах, позволяющее скачивать данные прямо с устройства на устройство. И пилюли – тонкие пластинки, нагоняющие сон.
При мысли об этом у неё потели ладони и хотелось в уборную. Сейчас нельзя рисковать. Она должна убедить шейха проглотить одну такую пластинку или просто положить ему в рот, когда тот заснёт – пластинки рассасывались сами. Это отключит его и погрузит в приятные грёзы. Спать он будет достаточно, пока…
«Что может пойти не так? Что может случиться?» – вновь и вновь спрашивала себя Замиль, когда, едва ощущая вкус еды, глотала поздний обед; когда разминала тело перед танцем; когда стояла в душевой кабинке под горячими струями.
Как ни странно, но всё шло по плану – лучше, чем она расcчитывала. Шейхи пришли к ним в байт-да’ара, как и обещали. Она видела крутящуюся перед ними Зарият и с холодком осознавала – да, это большие люди. Даже Большие Люди. О Аллах, с кем же она принялась играть? И как странно, что сейчас ей приходится вспоминать имя Аллаха, она ведь верит не в него, а… в кого, собственно?
Замиль боялась, что не сможет танцевать из-за взвинченных нервов. Но оказалось наоборот – когда после завершения программы она стояла перед душевой, переводя дыхание, к ней подошла Балькис.
– Ты сегодня танцевала как гурия, – бросила она без улыбки, – умница. Шейх хочет тебя опять. Если всё сделаешь правильно, можешь немного разбогатеть. Ты ведь знаешь, что делать, да?
Ещё бы она не знала! Внутри у неё всё звенело от напряжения и предчувствия. А если не выйдет? Если у неё ничего не получится?
У неё всё получилось.
Шейх – тот же самый – уже был порядком накурен, когда она пришла к нему, сжимая вспотевшей ладонью ремень сумочки. И она делала, что могла, чтобы доставить ему удовольствие, дрожа не то от нетерпения, не то от отвращения. Потом он болтал, разомлевший от зелий и ласк, и, вслушиваясь в его несвязную речь, Замиль холодела. Нет, она много чего наслушалась за годы, что была «ланью», но… но в этот раз она нутром чуяла, что это больше чем хвастовство обкуренного мужлана. Он лежал рядом с ней, голый и скорее мерзкий, чем страшный, но её пробирала дрожь. В его руках, всё ещё потных от их любви, было достаточно власти, чтобы смахнуть её с лица земли и даже не задуматься об этом.
А потом его начал морить сон, и… он приказал принести ему чая! Замиль даже не могла рассчитывать на такую удачу, она ломала голову, как же дать мужчине пилюлю, перебрав все способы… а оказалось, всё так просто. Когда она протягивала изогнутый стаканчик, то видела, что её рука дрожит. К счастью, разум мужчины был слишком затуманен к тому времени, чтобы это могло его насторожить.
И самонадеянный дурак так и не додумался поставить пароль на свой наладонник! Её руки дрожали, когда она, одетая лишь в тонкий халатик, втыкала переходник и, не попадая пальцами по монитору, пыталась задать действие. Копировать. Что? Что здесь ценно? Да может, вообще ничего! Откуда ей знать? И она лихорадочно пыталась скопировать все – окошки диалогов, сохранённые в «сундучок» папки, какие-то картинки. Наверное, если бы в комнате раздался хоть малейший звук, сердце у неё бы разорвалось.
Но кроме сопения спящего мужчины не раздавалось ни звука.
Она знала, что едва ли заснет той ночью. Так и не заснула, конечно. Наутро, с чумной, противно ноющей головой, она проглотила кофе, едва почувствовав вкус, и сложила в голове некое подобие плана. Послать Джайду, встретиться с Салахом. Поставить перед ним условия, да… какие?
Девушки разошлись, кто куда, и Замиль осторожно достала свой наладонник. Говорят, есть люди, которые вычислят твоё расположение просто потому, что он включён. Говорят, можно заставить устройство подслушивать твои разговоры, даже когда оно просто лежит рядом. Говорят… Хватит. Paranoia, вспомнила она слово из родного языка её отца и криво усмехнулась.
– Замиль, мне этот не нравится, – в который раз повторила сидевшая на соседней кровати Джайда, – мне кажется, мы должны…
Уже потом она иногда вспоминала эти слова. Что же, интересно, они были должны с точки зрения робкой Джайды, которая жалась к ней, потому что боялась меньше всех остальных.
Ей так и не пришлось этого узнать, потому что на этом месте малийка осеклась, а на пороге появилась Зуммарад.
Замиль напряглась, хотя ни она, ни Джайда не делали ничего предосудительного. Но с чего бы ей вообще приходить в их комнату? Жила Зуммарад на другом этаже.
Войдя, она окинула их обеих внимательным взглядом своих подведённых чёрной тушью глаз. На Джайде не задержалась долго, зато на Замиль посмотрела в упор. С трудом, но та выдержала взгляд и даже заставила себя улыбнуться в ответ.
– Салам, Зуммарад, – сказала она, – рада тебя видеть.
– Я тоже, – Зуммарад улыбнулась, и Замиль не понравилась эта улыбка, – я хотела поговорить с тобой, но раз эта тоже здесь, тем лучше. Слушайте обе.
Под «этой» она имела в виду Джайду, но обращалась только к Замиль. Впрочем, неудивительно.
– Что-то не так, Зуммарад? – Замиль старалась, чтобы её голос звучал спокойно, но почувствовала, как стало вдруг тесно в груди.
– Смотря для кого, – женщина нехорошо усмехнулась. Она огляделась по сторонам, но видимо, решила не садиться и продолжала стоя:
– Ты крадёшь информацию с наладонников наших клиентов. Причём самых важных клиентов. Тех, которым легко приказать избавиться от почти любой из нас. Ты играешь в нехорошие игры, Замиль, и я пришла сказать, что тебе это не пройдёт даром.
В груди Замиль что-то оборвалось. Она слышала, как рядом охнула Джайда, но заставила себя не опустить взгляд.
– Что за сплетни ты слышала обо мне, Зуммарад? – спросила она, сама едва узнавая свой голос.
Зуммарад опять напряженно улыбнулась, и Замиль не понравилась её улыбка.
– Ты взяла с собой шнур для переброски данных в комнату к… к нашему гостю, дорогая. Зачем он тебе там был нужен? Привязать его руки к кровати, может быть? Говорят, есть мужчины, которым такое нравится. Но я знаю не только это. Например, знаю и то, что ты якшалась с этим мавританцем, который повадился к нам захаживать. И шнур для переброски данных тебе понадобился лишь когда ты поговорила с ним, а потом тебя отправили к… шейху. Замиль, ты правда думаешь, что все вокруг тебя слепые курицы вроде Джайды?
Она немного запнулась на слове «шейх» – видимо, до последнего не желала признавать, что знает, что за клиенты захаживали к ним. Бара наик, но кто же они такие и правда? Кровь стучала в висках у Замиль, и она поднялась с кровати, словно надеялась, что, стоя на одном уровне с Зуммарад, станет сильнее.
Та отступила на шаг и продолжала смотреть на Замиль с косой полуулыбкой.
– Если ты в чём-то меня подозреваешь, – у неё внезапно запершило в горле, и она скорее просипела, чем проговорила эти слова, – ты можешь всё сказать Зарият.
– Могла бы, – Зуммарад вдруг прекратила улыбаться, – могла бы, Замиль. И это бы плохо для тебя кончилось. Тебя бы выгнали – и это ещё в лучшем случае. В худшем – Зарият бы рассказала шейхам о том, что ты роешься в их наладонниках. И тут уж поистине только Аллах мог бы тебе помочь.
Она помолчала. Замиль судорожно пыталась придумать слова для дерзкого ответа, но язык и разум словно онемели.
– Помнишь, я сказала тебе, что за игры, в которые ты играешь, надо платить. И дорого. И ты будешь платить, Замиль. Мне. Если ты, конечно, не предпочитаешь платить шейхам, но они могут и не взять деньгами.
– Так ты хочешь денег? – Замиль почувствовала, как её сердце начинает гулко стучать, и не поняла, не то от гнева, не то от страха. Что ж, по крайней мере, Зуммарад ещё ничего не сказала Зарият. Значит она сможет что-то придумать.
– Но послушай, Зуммарад… – впервые подала голос Джайда, но та повернулась к ней, не дав договорить:
– Ты могла бы зарабатывать хорошие деньги своим личиком да черным задом, дорогая. Но тоже влезла в нехорошие дела со своей подружкой. Так что, Джайда, сказанное Замиль сказано и тебе. И ещё…
Тут она повернулась к Замиль.
– Про мавританца забудь. Человек он тёмный и нехороший, нам не нужны проблемы с ним в байт-да’ара. Думаю, ему в любом случае недолго топтать Мадину, он чем-то очень насолил важным людям.
– Зуммарад, – хрипло сказала Замиль, – насчёт денег…
– Да? – женщина снова повернулась к ней.
Как странно бывает: мгновение, которое решает жизнь, а ты потом даже не можешь вспомнить и понять – как? Как случилось то, что случилось?
Когда Зуммарад повернулась к ней с плохо скрытой самодовольной улыбкой, Замиль не понадобилось много времени, чтобы правильно встать. «Бьёт не рука, а плечо и весь корпус с поворотом, – всплыли в её голове слова Тони, – снизу, по самому краешку челюсти, как будто направляешь удар в самую середину черепа. Если ударишь правильно, человек вырубится». Правильно она ударила или нет? Что бы он сказал, если бы увидел? Глаза Зуммарад испуганно расширились, она приоткрыла рот, но вскрикнуть не успела – кулак Замиль ударил её как молот.
Уже потом, когда они ехали в Марсалу, она думала – а ведь на этот удар, изменивший её жизнь, она поставила все. Всё, ни о чем не подумав. А если бы Зуммарад не отключилась, если бы она подняла крик, позвала на помощь? Тогда они погибли бы, и она, и Джайда, впрочем, про Джайду Замиль тогда не вспомнила.
Но ей повезло – или уроки Тони все же не прошли даром. Челюсти Зуммарад ударились друг о друга с хрустом, мелькнули белки глаз, и женщина рухнула на пол. Джайда громко охнула, но Замиль не смогла ей сразу ответить, согнувшись и баюкая руку, которую удар обжёг горячей болью. Что это так хрустнуло, интересно, челюсть Зуммарад или её пальцы?
– Что ты творишь, Замиль? Замиль, она же теперь всё расскажет! Нас выгонят, нас…
Наконец, Замиль посмотрела на неё, гримасничая и тряся рукой.
– Мне кажется, Джайда, – выдавила из себя она, – наши дни здесь закончены. Мои и твои. Быстрее, чем я думала.
– Что?
– Беги к Салаху. Я дам тебе записку. А мне нужно тут кое-что закончить.
Марсала
Глава первая
Аль Джазира, как говорят правоверные, la Isola на языке назрани. Остров, настоящее название которого стараются не упоминать лишний раз. Один из самых маленьких вилайетов Даулят-аль-Канун, но словно очерченный морской лазурью мир, мир-в-себе. Уж ему пришлось чуток по Острову поездить – от шумной, крикливой, лицемерно-лощёной Мадины до сонного Агридженто, от орудийных вышек над северным проливом до рыбных рынков Марсалы. Но разве он знает его целиком? Разве вообще хоть кто-то знает?
И как же так вышло, что он, простой парень из Херглы, связал с ним свою судьбу? Впрочем, велик Аллах, и ни один человек не знает, что ему предначертано Созидающим. Теперь это его дом, а родная Хергла изменилась до неузнаваемости, затопленная человеческой волной из жарких глубин Африки.
Да и здесь тоже пёстрый люд с половины мира: назрани, старые люди и вместе с ними его земляки-магрибцы, и выходцы из Сахары, говорящие на гортанном наречии Махди, и чернокожие, курчавоволосые дети тропических лесов. И что самое удивительное, они даже уживаются вместе. Те, кто принял учение Махди, те, для кого единственной опорой остаются наставления пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и те, кто носит на груди знак веры в Иса-бен-Мариам26. И даже те, кто тайком жжёт в домах вонючие свечи, призывая в помощь мерзких демонов из влажных джунглей (да, все знают, что есть тут и такие).
И он судит их и мирит, говорит с ними по-арабски и по-итальянски (выучил-таки, благо с детства знал и французский), старается, чтобы их жизнь – жизнь людей, выросших на обломках Великой Войны – была спокойной и безопасной. Ведь этот Остров, этот город теперь и его дом.
И даже больше, чем дом – земля, за которую он в ответе. Нет, не все роисы, конечно, думают так – чаще смотрят на свою должность просто как на тёплое место, заняв которое, можно не думать о завтрашнем дне. Но он не может заботиться только о собственной заднице. Глупо, конечно – но уж таким его сотворил Аллах.
Стефано не считал себя стариком даже несмотря на угрожающе разраставшиеся залысины над висками. Скорее ему нравилось думать о себе как о зрелом мужчине. Так откуда же эта странная тяга к стариковским философствованиям и утренним прогулкам? У него, рыбака, человека дела? И тем не менее всё чаще, в те дни, когда не было необходимости выводить «Грифона» в море, он поднимался спозаранку, принимал холодный душ, а потом просто шёл по Виа Цицероне, сворачивая затем на Виа Исоле Эгади, и так до самого моря. Конечно, на табличках висели уже совсем другие названия, но большинство «старых людей» не трудилось ломать о них язык. А в Марсале они пока ещё составляли большинство (как надолго?).
Иногда он останавливался у Леопольдо, чтобы пожелать доброго утра и в два глотка, стоя, выпить его ядрёный эспрессо. А потом шёл опять, всё дальше и дальше. И думал.
В его жизни, пропахшей рыбой и машинным маслом от двигателя катера, было место книгам, хотя не все, кто были с ним знакомы, могли бы в такое поверить. Он читал, как иные пьяницы пили – редко, но запоями. И, как и пьяницы, долго смотрел потом на окружающий мир осоловелыми глазами, пытаясь понять, где он и что он.
А вокруг была та же Марсала – город, который знал финикийцев и их детей карфагенян, римлян, остготов, арабов, норманнов, Сицилийское королевство, единую Италию, Европейский Альянс и вот… снова арабов. Это Стефано тоже почерпнул из тех книг, что удавалось добыть. Он давно уже перечитал всё, написанное по-итальянски, что смог найти в бумаге, и был уверен, что никогда не привыкнет к чтению с экранчиков, как то делало всё младшее поколение. Ну, как «всё», те из этого поколения, кто читал, конечно, и не то, чтобы их было так уж много. Но вот же – необходимость победила, и крошечные, «пальчиковые», как их тут называли, диски, что привозили бородатые муташарриды (надо, кстати, ещё заказ Салаху сделать), открывали для него то, что крылось за истоптанными с детства камнями родного города. Потому что во время своего последнего «запоя» Стефано читал книги по истории Острова. Да, финикийцы, остготы, норманны… а вот и второй раз арабы. Но если Марсала пережила их тогда, то, может, переживёт и сейчас? Если…
– Доброе утро, Ситифан! – ворвался в его размышления глубокий женский голос, и Стефано поднял голову.
Он, задумавшись, забрёл на Джованни Берта и сейчас стоял возле двухэтажного панельного дома с открытыми балкончиками и грубым изображением пальмы на вывеске. На балконе первого этажа стояла женщина, чернокожая, высокая, полная, задрапированная в просторное платье кремового цвета, словно нарочно под цвет панелей. В одной руке она держала дымящуюся сигарету, на предназначенном для цветов держателе перил стояли пепельничка и чашка кофе.
– Доброе утро, Таонга! – махнул ей рукой Стефано. – Как идут дела?
Таонга затянулась и выпустила дым, её полные губы были подведены фиолетовым, придавая черному лицу немного гротескный оттенок.
– Не так плохо, альхамдулиллах, – ответила она наконец, – пансион заполнен наполовину, а значит, я ложусь спать не голодной.
«Это заметно», – подумал Стефано, но вслух спросил:
– Гости из Мадины?
Женщина чуть приподняла массивные плечи и качнула головой, луч солнца блеснул на её волосах, зачёсанных вверх на три пальца.
– И оттуда тоже, как не быть… но не только. Местечко у нас хорошее, людям нравится проводить здесь время. Почему нет?
«Потому что это один из немногих уголков Острова, где всё осталось по-старому», – вертелось на языке у Стефано, но он только пожал плечами:
– Местечко хорошее, да, но я не люблю, когда весь этот народ… топчется по пирсам, пока мы чалим суда. От их галдежа рыба тухнет.
Таонга улыбнулась, сверкнув белыми зубами:
– Вся не протухнет, что-то да останется. Зато рестораны заказывают втрое больше обычного, а значит, и спрос на рыбу растёт. Аллах не любит тех, кто жалуется.
«Мунафиков27 Он тоже не любит», – мрачно подумал Стефано, но только кивнул, вскинул вверх руку с двумя сжатыми пальцами и, бросив «хорошего дня», медленно двинулся дальше к морю.
Владелица пансиона «Аль Мусафир» вызывала у него странные и большей частью неприятные чувства. Не потому, что африканка – по крайней мере, ему нравилось думать, что не поэтому. Просто Таонга, даже чёрная, была из «старых людей», и он знал её в старые времена и даже близко, да. И её чёрное тело было весомым (и ещё каким весомым) напоминанием того, как изменилась жизнь в Марсале в течение всего одного поколения.
Родители Таонги приехали на Остров с одной из последних волн эмиграции, до Большой Войны и конца старого мира – из Нигера, кажется. Или из Нигерии? Да какая разница. Они, африканцы, оказавшиеся на Острове, поначалу честно пытались приспособиться. Болели за «Спортклуб Марсала», ходили на мессу по воскресеньям, жертвовали на нужды местной церковной общины, называли своих детей католическими именами… Он хорошо помнил и тогдашнюю Таонгу, которая ещё откликалась на имя Албина. Она училась в той же школе, что и он, но младше на два класса. Была молодой да ранней, в отличие от её родителей, всегда выглядевших так, как будто извинялись за то, что тут поселились. Но Албина ни за что извиняться не собиралась. Первой из своих сестёр она начала носить мини-юбку, первой стала открыто курить на входе в молодёжный клуб и, сверкая безупречными зубами, пересмеиваться с марсальскими мальчиками. Первой и дала понять, что белые юноши ей вовсе даже не неприятны. О, как ясно он помнил тот день, когда попробовал её – когда тебе девятнадцать, такое не забывается. Стефано тогда работал сортировщиком в порту, а Албина, бросившая школу – официанткой в местном баре. Уже задули ветра перемен, чёрные, как её африканская кожа, но не о переменах думал он, когда затащил её в комнатушку за баром «Альберто», впился в мягкие губы и едва не сломал в спешке змейку на её мини-юбке. Тогдашняя Албина, хоть и ещё с крестиком на груди, была горяча, как разогретая летним солнцем брусчатка Пьяцца ди ла Република.
Потом она намекнула ему, ещё не остывшему от страсти, что работает тяжело, её отец беден, а мать умерла, и… и Стефано понял, что дело было не в том, что он ей так уж приглянулся. Позже он узнал, что немало парней из портового района захаживало в «Альберто», чтобы помять в душной комнатушке её роскошные ягодицы и почувствовать себя настоящими macho. Но что с того? Жизнь ведь и правда не сладка у дочери иммигрантов, а концы с концами сводить надо.
Но, как выяснилось, помимо знойного африканского тела у Албины был ум – вёрткий и шустрый, мгновенно чуявший, откуда дует ветер. В хаосе дней Газавата, когда на севере росли грибы ядерных взрывов, а над мусульманскими кварталами Палермо взвились знамёна с чёрным солнцем, она сориентировалась быстрее, чем другие, появившись однажды на улице в длинном платье африканского покроя. «Албины нет, да и никогда не было по-настоящему», – объявила эта девушка двадцати лет отроду. Она Таонга, истинная дочь Африки, и свет на дорогу перед ней пролило учение великого Махди.
И больше всего Стефано разозлило то, что это было лицемерие с самого первого дня. О, нет, многие, конечно, подхватывали заразу по-настоящему. Дети переселенцев, которые росли как обычные марсальские ragazzi28 – подпирали спинами стены портовых баров, гоняли мяч, сколачивали юношеские банды и дрались вечерами – теперь слушали проповеди безумного пророка и ещё более бесноватых имамов и менялись на глазах. Их взгляды становились острыми и хищными, речь – тяжёлой и обрывистой. Даже походка, как он замечал, менялась. Вчерашние рыбаки, официанты, просто гопники вдруг начинали мерить улицы Марсалы тяжёлой поступью полицейских. Они теперь носили африканскую одежду, а самые ярые даже вывешивали из окон зловещий флаг с восходящим чёрным солнцем.
Такой ли стала и Албина-Таонга? Нет и нет – тут у него сомнений не было. Она постелила в приемной своего пансиона коврик для намаза, она куталась в не то малийское, не то нигерийское платье, водилась с чёрной и магрибской молодёжью, слушая их яростные речи и льстиво поддакивая. Но стоило ему увидеться с ней наедине, заглянуть в глаза, услышать, как и что она говорит, и всё встало на свои места. Таонга осталась всё той же, какой он знал её со школы – лукавой, вёрткой, неравнодушной к мужчинам и деньгам дочерью бедных иммигрантов. Просто изменился мир вокруг – и она под него подстроилась. А он, Стефано, меняться не захотел.
Глава вторая
Африка. Она часто повторяла это слово и себе, и другим. Таонга, истинная дочь Африки, рождённая в Африке, горячая и чёрная, ибо плоть от плоти горячей и чёрной африканской земли. Но что она, в сущности, знала о ней?
Ей было три годика, когда их семья покинула Кадуну, нигерийский городок, где она родилась, и где выросли родители, и в свои нынешние сорок шесть Таонга уже не могла точно сказать, что в её памяти правда, а что – ложный отзвук снов. Кажется, однажды она игралась на усыпанной картонными коробками улочке с тряпичной куклой и ударила голопузого мальчика, который хотел её отобрать. А еще ела какие-то фрукты – название теперь никогда не узнать, но они были кисло-сладкими, и она вгрызалась в мякоть, а щеки и подбородок были липкими от пота. И потом ей было плохо, от этих ли фруктов или других, и она сидела, скорчившись, над кучей мусора и стонала.
А ещё, кажется, было много мух. Или это были не мухи, а, скажем, осы? Или мухи, но не в Кадуне, а где-то ещё? Она уже ничего не могла сказать точно. «Таонга, истинная дочь Африки», как она представлялась мужчинам из Ордена Верных, Африку не помнила и никогда там не бывала с тех пор, как ступила нетвёрдыми детскими ножками на баркас в Ла Марсе.
Она много слышала об Африке с тех пор – о том, как всю её северную часть сковала воля Махди и знамя с восходящим солнцем, о том, как в бывшей Дагомее вырос огромный Котону – Вавилон под тропическим солнцем, где сталкивались сразу несколько миров, как во влажных лесах Конго вернулись к древним обычаям и едва ли не людоедству. Рассказы об этом вызывали в ней странное, необъяснимое даже для себя волнение – но она никогда не порывалась посмотреть, как же там, все-таки, по-настоящему. Она больше не бывала в Африке. Нет, иногда посещала Магриб по делам, конечно – обычно Тунис или Сус, хотя раз доезжала и до Алжира. Но это ведь совсем другое. Ту, настоящую Африку Таонга покинула в свои три годика навсегда.
Но Африка не покинула Таонгу.
Начать хотя бы с имени. Родителям еще в Кадуне христианский пастор велел назвать её Албина – они так и сделали. Себя они тоже звали христианскими именами, а, оказавшись здесь, отказались и от фамилий на языке иджо и взяли безликие итальянские. Они хотели порвать все связи с Африкой. Иногда ей, уже взрослой, казалось, что, если бы могли, они бы соскребли с себя и чёрную кожу, как клеймо своей прежней земли, земли крови и нищеты.
Но и их тоже Африка покидать не желала. И когда её мать всё-таки умерла в городской клинике (отец восторгался тем, что её там лечат бесплатно, даже когда стало понятно, что ничем эти хвалёные белые врачи ей помочь не могут), Африка вернулась к ним в дом.
В день после похорон она пришла домой из бара, где подрабатывала – незаконно, ибо ей было всего шестнадцать – и увидела висящий на двери пучок трав, ломоть хлеба на тарелочке и стакан молока, стоящие на кривом столике. На распятие, освящённое в местной церкви, отец тогда даже не смотрел – вместо этого тщательно окуривал дверной проём какой-то дымящейся веточкой и бормотал непонятные слова на позабытом ею языке.
И Албина поняла, что Африка по-прежнему здесь и никогда не покинет их до конца.
Прошла ещё пара лет, и мир начал меняться, или, как некоторые считали, разваливаться. Пришла война, даже нет – Война. Та, первая, сути которой Албина не понимала. Её начали большие люди, слишком богатые, чтобы быть разумными, и она видела, как жмутся друг к дружке мужчины в кофейнях и портовых барах, как переговариваются, понижая голос, как дрожат их руки и бегают глаза. Казалось, из них всех разом вытащили тот стержень, который позволял им быть мужчинами – пить ядрёный кофе и терпкое пиво, травить сальные анекдоты и щупать женщин. Теперь эти суровые, самодовольные белые мужчины напоминали нашкодивших детей, которые гадают, как теперь накажут родители. Их мир трещал и шатался, и Албина навострила уши.
Она не любила читать, вернее, не понимала, зачем это нужно, а от школьных уроков больше помнила хихиканье на задних партах и обмен пошлыми картинками через телефоны, чем то, что (без особого, впрочем, энтузиазма) пытались ей втолковать вечно усталые учителя. Но ей и не надо было знать историю, разбираться в политике или понимать экономику, чтобы чувствовать – грядут перемены. Большие перемены. И её сердце тревожно ёкало от предвкушения.
Албина уже успела понять, что та жизнь, которая так впечатлила её африканских родителей – настоящий дом, свой, хороший, настоящая школа и больница, всё как у других – это лишь жалкие крохи того, что может предложить мир за пределами Африки. Она, Албина, которая одевалась по-европейски, думала по-итальянски, а ругалась на сочном сичилиано29, смотрела на всё это уже не как африканская беженка. Их «настоящий дом» – просто бедная коммунальная квартира, их новая жизнь – прозябание в бедности, где они каждый месяц рассчитывают, как не потратить больше, чем у них есть, и всё равно постоянно залезают в долги. И другого у неё не будет. Жалкая социалка, чтобы не помереть с голоду, либо не менее жалкая работа официанткой или продавщицей. Или – она рассматривала и этот вариант тоже – торговля тем, чем так щедро одарили её предки (собственно, тело было единственным её стоящим внимания африканским наследством).
Но это старый мир, а как насчёт нового мира, того, который нарождается прямо на их глазах? Не найдётся ли там для неё местечка посытнее? И Албина тайком от отца начала захаживать на собрания африканцев, где вместо прежнего вялого муллы проповеди читал суровый, крепкий мужчина средних лет с чёрным кольцом на пальце и чёрным же значком-солнцем на вороте галабии. Он говорил попеременно на итальянском и арабском, Албина понимала далеко не всё, но главное ей стало ясно. Новая вера – и вместе с ней новая власть, новый мир, новые возможности – идёт из Африки, её родной земли, которая до того оставалась для неё лишь краем смутных детских грёз.
Для неё, но не для других, и она видела, как горят глаза у слушавших проповедника, как становится другой их речь, осанка, походка. В день, когда белые мужчины плакали на улицах (тогда в чёрном аду ядерного взрыва погиб какой-то особенно дорогой им город), она поняла, что Албина должна исчезнуть. Войдя в свою комнатушку, которую делила с сёстрами, она повесила на грудь медальон с черным солнцем и вышла уже Таонгой, истинной дочерью Африки.
Она вернулась домой.
Потом ей смутно казалось, что именем Таонга называли кого-то на улице в том африканском местечке, которое осталось в её памяти грязным, полным мух и липких, приторных фруктов, вызывавших мучительный понос. Когда Таонга объявила, что возвращается в Африку, то не имела в виду, что опять поедет в эту дыру, о нет. Это Африка должна была прийти сюда.
И она пришла. Следующие годы были страшными, но и великими для Острова и для неё. Таонга теперь ходила на собрания махдистов (в мечеть её, впрочем, имам не пустил, просто один раз посмотрев) и одевалась как африканка. Правда отец, не одобрявший её перемену, говорил, что одежду, которую она нашла, носят йоруба, а они иджо, но её это не волновало. Таонга усердно учила арабский (ох, как же тяжело он ей давался), она произносила слова, которые желали от неё слышать её новые друзья из африканцев и магрибцев, вдумываясь в них не больше, чем в прежние католические молитвы. Раз таковы правила этого нового мира, их надлежит знать, чтобы чего-то в нём добиться.
Дома же Таонга с облегчением снимала жаркое африканское платье и щеголяла неглиже, курила и наливала себе стаканчик красного… махдисты считали распитие алкоголя тяжким грехом, но её это ничуть не смущало.
Ведь главное было в другом. В возможностях, которые возникли, когда на Острове рухнули прежние триколоры, когда в портах швартовались огромные корабли, над которыми реяли жёлто-зелёные знамёна с чёрным солнцем, и новые островитяне оглашали улицы городов своим гортанным говором.
Бывшая Албина, а ныне Таонга видела всё это, и не просто видела – участвовала. Она уже поняла, что козырей у неё два (сумасшедшие махдисты и карточные игры пробовали запретить, да не вышло) – Африка в её крови и данное ей Африкой знойное тело. Таонга пользовалась им, ещё когда была Албиной, и не видела в том никакого греха. За то, что она убирала и наполняла стаканы пивом, разносила жареную рыбу и фисташки, терпя высокомерие и развязность хозяина, ей доставались гроши – так отчего бы немного не увеличить доходы, раз многих белых мужчин так распаляет её круглая чёрная задница? Тем более, что некоторые из них были вовсе не так уж плохи – и в любви, и просто с ними можно было весело поболтать, когда всё заканчивалось, а денежка лежала под зеркалом на её хромом столике. Хозяин, правда, забирал своё, но и ей оставалось.
Ну, а теперь появились другие мужчины, и Таонга быстро сообразила, что под белоснежными галабиями скрываются обычные мужские тела со всеми слабостями и потребностями мужчин. Махдисты казались суровыми, они любили нести заумную чушь об Обновлённом Учении, гибнущем мире, последнем Газавате и прочем, Таонга кивала и поддакивала, но ловила их на главном. Когда, обессилившие от страсти, они лежали рядом с ней, то становились такими же мягкими и податливыми, как прежние хозяева жизни. И получить от них можно было не меньше – да что там не меньше, намного больше.
В годы смятения, последовавшие за громами войны, Таонга ложилась в постель со многими из новых людей и старалась метить повыше. Она ублажала мужчин, раздувая их жар, а потом, не менее умело – самолюбие (почти каждый, едва отдышавшись, принимался витийствовать, а Таонга умела слушать не хуже, чем любить), и вот…
Она улыбнулась и сделала ещё одну затяжку. Вовремя всё-таки она познакомилась с Абдул-Хади, мрачным бородачом из Ордена Верных. Сурово сверкавший чёрными глазами и говоривший только по-арабски, так что едва понимала, о чем речь, он оказался не более суров, чем любой другой мужчина, когда предстал перед ней в том виде, в котором его сотворил Аллах. Абдул-Хади был мавританцем, темнокожим и высохшим под своим одуряющим солнцем. Может, потому он так и оценил её чёрную кожу и пылкий (сыгранный не менее умело, чем страсть) африканский патриотизм. И он навещал её вновь и вновь, пока ей не предоставилась возможность.
Все знали, что Эван Ч., хозяин пансиона «Дормире Марсала» ненавидит новые порядки, что он тайком слушает проповеди католических пасторов, что в его доме собираются старые люди, некоторые хорошо, даже слишком хорошо знакомые Таонге по прежним временам. Надо было лишь встретить дурака Стефано, по-прежнему пускавшего по ней слюни, и сказать пару слов, а потом передать Абдул-Хади и его цепным псам.
Она ожидала награды, но даже мечтать не смела, что пансион предложат ей (она тут же переименовала его в «Аль мусафир»30, подчёркивая полную лояльность новым правилам и мучительно трудно дававшемуся ей языку). И вот правильно ли, что согласилась?
И Таонга затянулась сигаретой последний раз, потом загасила окурок о пепельницу. К чему гадать? Она получила возможность жить настолько хорошо, насколько ей могла это предложить тихая и всё ещё полная «старыми людьми» Марсала. И ей больше не нужно было прыгать по постелям, да и годы, опять же уже не те, и Салиха, старшая…
От философского настроения женщину отвлёк перезвон колокольчиков. Ведь предлагала же ей Салиха поставить современный звонок, но ей нравилось так, по старинке. Кто-то пришёл, и значит, надо открыть дверь. Может, этот гость в кои-то веки окажется не скаредным и с деньгами?
Выйдя с балкона, Таонга пересекла небольшую комнатку с розовым диванчиком и кокетливым одноногим столиком, вышла в коридор, охнула, чуть не промахнувшись мимо ступеньки («вечно забываю про неё»), и открыла дверь, нацепив на лицо привычную улыбку радушной хозяйки.
– Ис-саламу-алейкум, почтенный… – начала она и осеклась.
На пороге стоял мужчина в рабочей одежде, с походной сумкой за плечом. Где-то в стороне маячила девушка в магрибском платье. Чёрные глаза мужчины были такими же колючими, как его жёсткая, короткая бородка.
– Салам, Таонга, – сказал он по-арабски, – мне нужна помощь. А за тобой должок.
Глава третья
Старые люди. Когда же он начал называть себя так? Когда они все начали себя так называть? Сейчас уже и не вспомнить. Всё, что Стефано знал – мир рухнул на его глазах, когда ему едва перевалило за двадцать, и, рухнув, продолжал падать. Большая Война, в которой он так и не успел поучаствовать, длилась недолго – ядерный дождь пролился там и здесь, телеэфир и только нарождавшийся Интернет вспухли волнами ужаса… а потом всё пропало.
И началась совсем другая война – начался Газават.
И опять почти всё прошло мимо него. Просто в знакомом до последнего обглоданного волнами причала порту Марсалы начали швартоваться странные корабли. Не слишком впечатлявшие внешне – местами ободранные и пошарпанные, капитанов надо было гнать к чёрту – они всё равно источали грозную, мрачную силу. На мачтах реяли жёлто-зелёные знамёна с чёрным восходящим солнцем – знак нового мира, что нарождался на дымящих и фонящих руинах старого. И с кораблей сходили люди.
Не то чтобы сами эти люди были ему так уж незнакомы – он нередко встречал магрибцев, особенно тунисцев, и в Марсале жило сколько-то эмигрантов оттуда. Но эти магрибцы выглядели иначе – первыми сходили солдаты. Бородатые, мрачные, в буро-зелёной форме, словно не замечая льющегося с неба жара, они деловито занимали сооружения порта. Не были грубы с местными, но в их глазах, застывших скулах, тяжёлом, чеканном шаге всё дышало мрачным фанатизмом. Командиры, прохаживавшиеся между подчинёнными, отдавали хриплые приказы на тунисском диалекте, их мизинцы были украшены чёрными кольцами.
За солдатами на берег сходили другие люди – «новые люди», хотя такого слова к ним тогда ещё не применяли. Они были одеты не так, как одевались прежние виденные им тунисцы. Не джеббы с потёртыми штанами, не одежда полуевропейского покроя – нет, они были по шею закутаны в белоснежные галабии, сидевшие на них как мундиры. Да и эти люди, хотя, кажется, не военные, вели себя неотличимо от солдат. И глядя, как они мерят улицы Марсалы, как заходят в мэрию поступью хозяев, как брезгливо косятся на уличные бары (закрытые в тот день, конечно), Стефано окончательно осознал, что старый мир исчез, а вместо него пришло что-то совсем-совсем новое и непонятное.
В Марсале не было боев в отличие от других мест Острова, где отчаявшиеся группки «старых людей», некогда бывших просто итальянцами и сицилийцами, ещё пытались отстаивать потерянную землю. У них же в тот день и сопротивляться было некому – про падение власти, про зону отчуждения с материком, про новые знамёна над Палермо и Катанией знали все. Вечером он слышал, что пара офицеров полиции пыталась собрать людей не то для боя, не то для герильи, но выглядело всё откровенно жалобно. Старый мир пал, за истёкшие полгода они успели это осознать.
Начался мир новый.
В общем, у них ещё вышло не так плохо, ну или скажем, не так катастрофически плохо. Сонная, провинциальная Марсала мало заинтересовала «новых людей», мрачную гвардию в застёгнутых под самую шею галабиях. Большинство покинуло её, направляясь на север – он слышал, как погибал старый Палермо под пятой новой Мадины, как топорщились минареты над Катанией и Агридженто.
А здесь их осталось не так много, в основном те, у кого и не было высоких претензий. Либо те, кто приехал раньше, но переметнулся на другую сторону, как вот та же Таонга. Впрочем, Таонга хотя бы чёрная, но как назвать, когда коренной сицилиец начинает падать на колени, и задницей кверху прославлять черномазого африканского пророка, когда он…
– День добрый, Стефано! – второй раз за день выклик оторвал мужчину от мыслей, и он поднял голову. Ну как же, Бартоломе.
– Привет, старик! – ответил он и не без удовлетворения заметил, как тот сморщился. – Я и не ожидал тебя увидеть здесь в такую рань. Муниципия31 ещё как? Закрыта?
Бартоломе, перед тем как ответить, поскрёб ногтем большого пальца бородку. Сколько они уже не виделись? Месяца три? Вроде не так много, но Стефано казалось, что Бартоломе успел ещё немного постареть. На полголовы ниже, чем Стефано, он в молодости был крепким и статным мужчиной, но сейчас порядком располнел. Круглый животик раздувал рубашку дозволенного светского покроя, седая клиновидная бородёнка скрывала дополнительную линию подбородка. Наверное, некогда бородка придавала Бартоломе мужественности, но сейчас она только делала его похожим на Babbo Natale. Его шевелюра, которую Стефано ещё помнил по юности чёрной, побелела и отступила морем во время отлива, обнажив блестящую лысину. Набрякшие веки лишь оттеняли болезненную слезливость глаз. Да, никто из нас не молодеет. Неудивительно, что Бартоломе коробит, когда его называют стариком. Тем больше причин называть его именно так.
– Фаик ещё не пришёл, – сказал он так солидно, словно отмеривал слова в аптеке. Бартоломе всегда так говорил. – Секретари на месте, но дел особо нет. Вышел вот свежим воздухом подышать.
– Выпьешь со мной эспрессо? – спросил Стефано. – Я, правда, уже пил, но могу и…
Бартоломе скорбно покачал головой.
– Не пью сейчас крепкий кофе. Доктор запретил.
«Лучше б он тебе жрать запретил», – подумал Стефано, с внезапной неприязнью окинув взглядом его круглое брюшко, и вспомнил, что недавно думал что-то похожее про Таонгу. Желчным становится, неужели старость?
Но вслух сказал:
– Можно и чай. У Родольфо делают и чай, для новых.
Слово «новых» упало с языка, и между двумя мужчинами повисла тишина, словно кто-то отпустил неприличную шутку там, где этого не ожидалось.
Бартоломе, казалось, некоторое время раздумывал, потом покачал яйцеобразной головой.
– Нет, дождусь Фаика, – сказал он, – он вчера говорил, что сегодня будет важное дело.
Стефано пожал плечами, а потом вдруг сказал:
– Коррадо получил ещё один диск от… друга. Говорит, там, на Большой земле, что-то… что-то странное.
Лицо Бартоломе пошло морщинами.
– Я не слышал этого, – сказал он уныло, – ты же знаешь, что мы… Должны бороться с муташарридами и следить, чтобы…
– Чтобы все было по фикху, – прервал его Стефано, – прекрати, а? Хоть ты прекрати. Или ты не из старых людей? Или мы не помним Марсалу до того, как мир рухнул? Или мы не ждали с тобой спасения, не ждали, что…
– Нечего ждать, Стефано, – Бартоломе опять покачал головой и вдруг показался очень старым, – я знаю, откуда ты берёшь диски. Да и все остальные это знают. Только не говорят, что мир по другую сторону, Большая Земля… она уже совсем не та, что была когда-то. Они не хотят видеть там нас, тех, кто остались по эту сторону, а сами… знаешь, я видел записи и… лучше буду жить здесь.
– Здесь?!? – Стефано вскинул голову, как боевой петух. – Где мы доедаем объедки за нашим прежним столом? Где эти поганцы в хламидах говорят нам, что нужно есть, что пить, смотреть и читать, и даже как подмывать задницу? Ты и правда так обабился за эти годы, Бартоломе? Может, и лишнее себе между ног урезал, чтоб быть похожим на…
Он поперхнулся, увидев, что Бартоломе смотрит на него взглядом, полным бесконечной усталости и безнадёжности.
– Здесь, Стефано, – тихо сказал он, – знаешь… Адриана собирается замуж. Давно пора. Она нашла себе хорошего парня, держит чайную. Из наших. Они будут венчаться, по-старому. И семьёй будут хорошей, по-старому. А много ли таких осталось на Большой земле?
Он печально покачал головой. И так же тихо продолжил:
– Я не понимаю. Этих, – он качнул головой в сторону, туда, где за кремовой стеной трёхэтажного дома с витыми балкончиками торчал минарет, над которым развевалось знамя Махди, – я могу понять. У них есть вера. Они хотят жить по ней. Они хотят строить мир по ней и даже согласны признать, что у нас есть своя. Но что осталось там? На Большой земле? Мужчины больше не хотят быть мужчинами, женщины – женщинами, они говорят, что детей можно выращивать в инкубаторах, словно кур, они пьют какую-то гадость и предаются… я даже не знаю, как это назвать. Там всё стало совсем иначе после войны. И я бы уже не смог там жить. И дочь говорит, что не смогла бы, она тоже… тоже смотрела диски с Большой земли.
Долго ещё слова Бартоломе звучали у него в ушах. Большая Земля. Старый Мир. Рим, где он однажды был ещё ребёнком, Неаполь, откуда приехала на Остров его покойная жена. Флоренция, Марсель, Париж. Старый мир, которого больше нет. Который остался только в книгах. Где их – осколки прежнего мира – уже не рады видеть, ведь иначе не сторожили бы так границы.
Что ж, тогда нужно заказать ещё книги и хотя бы почитать о чем-то другом… а для этого надо позвонить Салаху.
Глава четвёртая
Баба нла – так они назывались у её народа. Хорошо, по крайней мере, Таонга решила, что у её. На самом деле ей об этом сказали в Мадине (только что переименованной) нигерийцы-йоруба, но Таонгу мало волновала разница между йоруба и иджо. Отсюда, с Острова, обдуваемого средиземноморскими ветрами, всё её прошлое сливалось в жарком тумане, имя которому – Африка.
Мать никогда не говорила с ней о таких вещах, она была ревностной христианкой. Отец… ну, вроде бы тоже (он не принял и не понимал учения Махди), но она-то видела, как он ставил чашку с молоком для умершей жены и зажигал ароматные свечи с острым, пряным, как сама Африка, запахом, разговаривая с ней. И, в глубине души Таонга считала, что если кто-то и хранит её, то это они, баба нла. Ушедшие, но остающиеся рядом. В их помощь она верила больше, чем в того отвлечённого, непонятного ей до конца бога, которому молились в мечетях и на собраниях Ордена Верных.
И вот сейчас помощь баба нла, духов предков её народа, их совет, были бы ей как нельзя кстати. Ей не нравилась эта история.
Салах появился опять и, что хуже всего, появился не один. С ним были какие-то две шлюхи, и от этого её коробило больше всего. Не то чтобы она ждала от мавританца какой-то верности. Верность – дым на ветру, кому, как не ей, знать это. Уж сколько раз она принимала у себя степенных бородатых мужчин, которые стыдливо указывали свою пару как «моя помощница». Помощница, как же. Ну, то есть, может, и помощница – в том, чтобы снять зуд между ног и немного разукрасить постылую семейную жизнь истинного махдиста.
Впрочем, старые люди в этом отличались мало.
Но Салах – другое дело. Мавританец останавливался у неё иногда и неизменно один. И уже это одиночество, словно обволакивавшее его угрюмой пеленой, чем-то привлекло Таонгу. Он никогда не говорил точно, чем занимается, но сложить два и два оказалось нетрудно.
То, что Салах муташаррид, её не смущало – она и не таких навидалась. Пила кофе и делила постель с «отцами города», слушала разговоры о поставках ката и гашиша, видела и тех, кто управлял отрядами мелких рэкетиров в Марсале и округе. Таонга не пренебрегала никакими знакомствами – никогда не знаешь, когда и какое может пригодиться.
Но Салах был другим. Таонга не привыкла копаться в своих чувствах и искать для них правильные слова. Но это ощущение «другости», исходившее от него, волновало и раздражало её в равной степени. И ещё в его первое посещение пансиона она решила, что мавританец должен разделить с ней постель.
Не то чтобы это оказалось так уж сложно – он с готовностью взял то, что она ему предложила, всё так же молча, мрачно и спокойно. Таонга не знала, изменила ли та ночь что-то в жизни Салаха, но в её – изменила совершенно определенно.
Она никогда не оставалась без мужского внимания, даже сейчас, когда её зрелое, раздавшееся тело уже не помещалось в купленную пять лет назад одежду. Не впервой ей было и делить постель со своими постояльцами. Да только в этот раз было по-другому. Она это поняла, когда Салах появился в её пансионе опять. А потом опять. И вот уже как-то получалось само собой, что она, сидя в его постели голая, кивает, сжимая в руках стаканчик с крошечной порцией чая по-мавритански, а он ей о чем-то говорит.
