Шаги во тьме
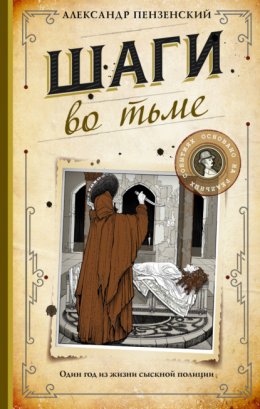
© Пензенский А., 2024
© ООО «Издательство АСТ», 2024
ВЕСНА 1910 года
Аптека, улица, фонарь…
Лужица крови, расплывающаяся вокруг головы лежащего на земле человека, в желтом фонарном свете казалась черной, будто мазутное пятно. Мужчина, стоящий у еле угадывающейся за пределами светового круга дощатой двери, наклонился к телу, проверил пульс, вздохнул и принялся собирать с земли сорванные с бельевых веревок не то пеленки, не то простыни. Методично, одну за одной, он поднимал их, встряхивал и аккуратно развешивал по местам. Закончив, он вернулся к бездыханному телу, достал из кармана ключ, отпер дверь, подпер ее каким-то чурбаком и, примерясь, чтобы не запачкаться, подхватил под руки труп и скрылся с ним внутри. Вернулся буквально секунд через двадцать-тридцать, огляделся, так и не попав сам под свет фонаря, и бесшумно закрыл за собой дверь. Где-то неподалеку начала отсчитывать время часовая кукушка, всполошив невидимую собаку, залившуюся истошным лаем. Тут же скрипнула дверь, и кто-то прохрипел сдавленным полушепотом:
– Цыган, едрить твою, прости господи! А ну, замолчь! Ей-богу, утоплю скотину!
Цыган обиженно всхлипнул, тявкнул в последний раз, погремел цепью, видно, прячась в будку, и вокруг снова стало тихо.
Осень пролетела в хлопотах – обустраивались на новом месте, привыкали к провинциальному ритму жизни, развешивали фотографии и занавески, наводили бытовые, но важные знакомства: с булочниками, модистками, цирюльниками – людьми хоть и не всегда спокойными, но мирными, к криминальной среде никоего касательства не имеющими. Вроде бы только разобрали узлы и чемоданы, а уже улицы замело непривычно белым для петербуржцев снегом. А вот первая зима тянулась невыносимо долго: в отличие от круглосуточно бодрствующего Петербурга, маленький и уютный Елец ложился вместе с солнцем, а оно, как всем известно, зимой работает в четверть силы. Вот и город редко гасил окна позже шести пополудни, и лишь уличные фонари, нахохлившиеся галки на заборах да поджимающие под теми же заборами хвосты бездомные собаки слегка оживляли ночной пейзаж. Потому Константин Павлович с огромным воодушевлением встретил грохот ломающегося на Сосне[1] льда – с воодушевлением и с надеждой на то, что вместе с рекой пробудится и местная жизнь, удлиняясь минута за минутой вдогонку за световым днем и за уплывающими вниз по течению седыми льдинами.
И в первую же елецкую весну, как только сошел снег, посветлела в реке вода и высохла бурая уличная грязь, сложилась у Константина Павловича традиция: после утреннего кофе он, если позволяла погода, выходил из дома, спускался мимо громадины Вознесенского собора по Миллионной к реке, кланяясь по пути знакомому, подолгу потом стоял на берегу, глядя на рыбацкие лодочки и ползущие через Сосну по дальнему мосту поезда, постояв, поднимался обратно к себе на Торговую, усаживался с утренней газетой на скамеечку напротив синематографа «Экспресс» и читал, вдыхая ароматы свежей выпечки. Дочитав, возвращался домой, предварительно забрав из булочной уже по обыкновению приготовленный для него сверток, а дома уж ожидали его привычный завтрак и неизменно улыбчивая Зина.
Нынче погода позволяла – ливший всю ночь дождь перед рассветом успокоился, а утреннее майское солнце на пару с ветром умудрилось даже подсушить тротуары. Лучше и не придумаешь для последнего весеннего понедельника.
Сегодняшняя газета была по-провинциальному скудной на интересные новости. Хвалили новую картину «Коробейники», показываемую в том самом «Экспрессе», перепечатывали столичную хронику, целый разворот посвятили елейностям относительно благотворителя, облагодетельствовавшего городской парк новшествами. Константин Павлович пробежался по объявлениям: Маршалы пока еще привыкали к новым реалиям, и Зина, к примеру, все никак не могла подобрать портниху. Половину газетной страницы занимала реклама Липецкого курорта – расписывались чудодейственные свойства местных минеральных вод, торфяных ванн и припарок, даже крупным шрифтом была пропечатана цитата профессора Боткина: «Грязь – это будущее Липецка». Константин Павлович мысленно пожелал приятному и очень ухоженному городу все-таки избежать такого будущего и поежился от воспоминаний о той самой прославляемой воде.
В самом начале мая, когда день уже подрос достаточно для продолжительных поездок, побывали они с Зиной в соседней губернии, в том самом Липецке. Городок произвел на Константина Павловича очень благоприятное впечатление – тихий, зеленый, покойный. Пожалуй, даже еще уютнее, чем Елец. На улицах удивительно чисто, будто ты не на тамбовщине, а где-нибудь в Саксонии.
Заселившись в курортную гостиницу (целью поездки были те самые воды и грязевые ванны), супруги прогулялись по местному «Невскому» проспекту, поотражались в витринах довольно приличных лавок, вышли к набережной канала, очень благоустроенной, без единой прорехи в мостовой и с электрическими фонарями, сделали небольшой круг через чудесный парк в английском стиле и вывернули к небольшому новенькому бювету с белыми колоннами. Внутри, в прохладе и под тихое, успокаивающее журчание, милая смотрительница в белом переднике и крахмальном чепце специальным ковшиком набирала из-под струи целебную воду в стеклянные стаканчики и подавала страждущим. Таковых было довольно много – то ли неожиданная жара способствовала, то ли и вправду вода обладала чудодейственной силой, но пришлось даже немного подождать своей очереди. Получив стакан, Маршал недоверчиво понюхал содержимое. Пахло серой. Посмотрел с сомнением на Зину – та уже свою порцию выпила, и явно с удовольствием. Но у Константина Павловича взаимности с липецкой лечебной влагой не случилось – он сделал осторожный глоток, вполголоса обозвал этот эликсир «водой с лягушками» и твердо заявил жене, что ни пить это больше не станет, ни в ванну с «будущим Липецка» не полезет. Особенно ежели после придется смывать грязь этой самой водою. Потому из приятных воспоминаний о Липецком курорте остались у господина Маршала только семейная фотография от ателье Цаплина, ужин в гостиничном ресторане да пьянящий ночной аромат цветущей черемухи.
Наконец, перелистнув последнюю страницу, Маршал поднялся, опустил газету в урну, щелкнул крышечкой часов, дабы удостовериться, что не выбился из графика, и повернул в сторону дома. Но тут же споткнулся о пристальный взгляд. На соседней скамейке сидел хорошо одетый господин лет пятидесяти, очень театральной наружности: большой благородный нос с круглыми очками в тонкой золоченой оправе, из-под шляпы были видны остриженные в кружок молочно-белые локоны, а завершала образ окладистая седая борода – вылитый Тургенев. И этот тип, ни капли не смущаясь и даже оперев для удобства подбородок о набалдашник трости, совершенно спокойно разглядывал сквозь очки бывшего помощника главы столичного уголовного сыска. Но стоило лишь Константину Павловичу вопросительно приподнять бровь, давая понять, что он не одобряет такой бесцеремонности, как незнакомец быстро и даже несколько суетливо вскочил, шагнул к Маршалу, протянул руку и представился:
– Антон Савельевич Ильин, управляющий делами коммерции советника Заусайлова Александра Николаевича. Наверняка вам знакомо это имя? Я к вам, Константин Павлович.
Жить в Ельце полгода и не знать фамилию Заусайлова было невозможно. Табачная фабрика, винодельческое производство, меценатство, благотворительность и близкое знакомство с венценосными особами. Да и в выброшенной только что газете целая статья, полная восторгов, была посвящена ботаническому саду, устроенному купцом Заусайловым на территории городского парка, – с павлинами, лебедями, миниатюрной копией Черного моря и оранжереей с экзотическими растениями (Константин Павлович как раз отметил для себя, что надо бы им с Зинаидой Ильиничной прогуляться там в ближайшее воскресенье). Удивительнее было то, что, судя по приветствию, и господин Маршал не являлся для Заусайлова персоной неизвестной, раз он подослал к Константину Павловичу этого господина со спокойным взглядом. Что-то одному из отцов города требовалось от его нового обитателя – что и не замедлило подтвердиться.
– Прошу прощения за такой способ знакомства, но мой патрон – человек деловой и условностям уделяет мало внимания, говорит, что они лишь мешают коммерции. И всем своим работникам данную привычку вменил в обязанность. Я бы хотел пригласить вас на завтрак. Уверяю, достойная еда – не единственная польза, которую вы можете получить, если примете это приглашение.
Константин Павлович «условностям» внимания уделял больше. Ему ужасно не нравилось свойственное многим его «прогрессивным» согражданам пренебрежение правилами этикета и чужой приватностью. С другой стороны, портить отношения с одним из самых влиятельных жителей города с самого начала собственного пребывания в этом городе тоже было не очень умно. Ну и имелась еще одна причина, пожалуй, наиглавнейшая, по которой Маршал отказался от желания указать «деловому человеку» его место, – очень уж скучал Константин Павлович в тихом и сонном купеческом Ельце. А здесь пахло какой-никакой, а загадкой. Потому вместо пикировки он пожал протянутую руку и сказал:
– Рад знакомству. Позвольте, я только предупрежу супругу, чтобы не ждала меня к завтраку.
В булочной он написал Зине записку и попросил доставить немедля вместе с заказанной сдобой, а после вернулся к Ильину. Они без разговоров дошли до переулка, где стоял шикарный черный «Делоне-Бельвиль» с опущенным верхом. Антон Савельевич распахнул перед Маршалом дверцу, сам уселся за баранку, запустил двигатель, и, спугнув голубиную стаю, они резко приняли с места.
Но путь оказался совсем недальним: буквально через пять минут они через арку въехали во двор довольно большого городского имения. Со ступенек белой птицей слетела юная девушка, очень милая, даже красивая, если б не опухшие и покрасневшие от слез глаза. Она бросилась было к Ильину, но, увидев постороннего, смутилась, замерла на дорожке, опустив голову.
Антон Савельевич нахмурился.
– Нина? Что ты здесь?.. Где мама? Я же велел тебе не покидать комнаты! Ступай. У меня гость. После поговорим. Идемте, господин Маршал. – И, ощутимо сжав Константину Павловичу локоть, провел того мимо дочери.
Передав в зеркальном вестибюле шляпы и перчатки дворецкому, Ильин с Маршалом прошли в небольшую столовую – судя по размерам, она как раз для завтраков в семейном кругу и предназначалась. Хотя как знать – может, прогрессивные граждане званых ужинов не устраивают. Из-за стола поднялся довольно высокий мужчина лет сорока – сорока пяти: безупречный пробор, чуть тронутые сединой волосы, аккуратные усы, чеховская бородка, очки без оправы – все очень строго, лаконично, как на часто появляющихся в газетах фотопортретах. Пожалуй, лишь бриллиант на пальце немного крупноват.
– Александр Николаевич Заусайлов, коммерсант. – Хозяин протянул руку.
– Константин Павлович Маршал, – ответил на неожиданно крепкое рукопожатие гость.
Пока подавали завтрак, хозяин задавал обычные вопросы: как понравился город, довольна ли супруга гостя выбором в лавках, может ли госпожа Заусайлова порекомендовать госпоже Маршал свою портниху. Ильин не проронил ни слова и, казалось, временами даже не слышал, о чем говорят за столом. Когда же принесли кофе, Александр Николаевич махнул обслуге рукой, сам разлил напиток по чашкам и пододвинул гостю ящичек с сигарами. Пришло время для серьезного разговора.
– Константин Павлович, мне нужна помощь человека, аналитические способности которого позволяют решать криминальные загадки. Вы любите рассказы о мистере Холмсе?
– Не очень. В настоящих преступлениях мало романтики.
– Да-да, конечно. Просто… тут очень уж похожий случай. Чисто английское преступление. Как в классической пьесе: единство времени, места и действия. Все участники на сцене, но при этом решительно непонятно, кто злодей. Наши местные полицейские только глаза пучат и щеки раздувают. Взяли первого попавшегося, тем и рады. Просто выслушайте. Антон Савельевич?
Дождавшись от Маршала сдержанного «хорошо», Ильин откашлялся и начал:
– Вы наверняка знаете, Константин Павлович, что мы управляем довольно большой компанией. Но помимо всего прочего, что у всех на слуху, есть у Александра Николаевича круглосуточная аптека. Прямо здесь, за углом.
– У меня часто случаются мигрени, так что, можно сказать, для себя завел, – встрял Заусайлов. – Но соседям тоже понравилась возможность забежать среди ночи за сельтерской или за порошком.
– Так вот, – продолжил Ильин, – позавчера ночью в аптеке убили провизора Евгения Бондарева, взломали конторку. Там в верхнем ящике я держу деньги на оперативные расходы. В аптеке, кроме Бондарева, был еще ночной сторож Степан Храпко. Он утром и нашел провизора с проломленной головой и вызвал полицию. Здесь полицейские записи осмотра аптеки. – Ильин протянул Маршалу бумажную папку с тесемками. – Проникли злодеи через дверь, аккуратно выставив стекло. Прошли мимо спящего сторожа, умертвили бедного Бондарева и вскрыли ящик.
– Так тихо раскроили череп и взломали замок? Что говорит Храпко? – Константин Павлович достал из кармана небольшую записную книжечку, коротенький карандашик.
– Ну, здесь все дело в плане аптеки. – Антон Савельевич поправил сползшие на кончик длинного носа очки, порылся в папке, достал листок. – Вот, смотрите. Первое помещение – сам торговый зал. Справа, собственно, кабинет аптекаря. Из него проход на склад, только, видите, уже налево. А уж за ним комнатка, в которой и отдыхал по ночам дежурный провизор. Храпко спал в зале, тут угол отгорожен ширмой, вот здесь. Так что услышать шум из комнаты Бондарева вряд ли мог, стены толстые. Убийцам надо было лишь тихо войти и выйти. Сторожу всего двадцать, сон молодой, крепкий.
– А квартира наверху? Там кто-то живет? Их опросили?
– Аптекарь с семьей. Но их уже неделю как нет: повезли дочь в Кисловодск. Она у них чахоточная, бедняжка. Я отпустил, – пояснил Александр Николаевич.
– Ясно. – Маршал кивнул, посмотрел на Заусайлова, посомневался, но все-таки спросил: – Вы же понимаете, что все это означает? Преступление совершил кто-то, кто знал и расположение комнат, и то, что в ящике есть деньги. Кто-то из своих. В противном случае убили бы сторожа и унесли кассу. И, честно говоря, я пока не вижу, почему вы не верите в версию полиции. Они же Храпко арестовали? Сторож выглядит первым кандидатом в злодеи. Он знал о деньгах в конторке?
Заусайлов кивнул дважды – сначала на замечание о «своих», а после на последний вопрос:
– Знал. Но в этом-то и его оправдание. В тот вечер денег там не было. Я дома больших сумм не держу, а ночью должна была состояться игра у уездного предводителя – для узкого круга, но явиться туда с обещаниями и расписками было бы нелепо. Когда я вспомнил, что не озаботился о наличности, банки уже оказались закрыты. Вот я и попросил Антона Савельевича принести деньги из аптеки.
– И все видели, что вы их забираете? – повернулся Маршал к управляющему.
– Ну конечно. Аптека круглосуточная, но двери запираются в семь вечера, после вся торговля только по звонку. А я пришел около восьми и цели визита не скрывал. Так что и Храпко, и Бондарев знали, что денег в конторке нет.
Маршал все-таки взял сигару, обрезал кончик, закурил от перламутровой зажигалки, выпустил ароматный дым.
– Получается, корыстный мотив отпадает. В каких отношениях покойный был со сторожем?
Ильин пожал плечами:
– Да ни в каких. Храпко – деревенский парень, тугодум, но старательный. Сын черной кухарки. А Бондарев – студент, он у нас стажируется во время каникул, уже второй год. Он дальний родственник моей жены. Седьмая вода на киселе, но тоже не чужой человек. Интересов у них общих не было, даже в аптеке я не замечал, чтобы они о чем-то помимо работы разговаривали.
– Что сказал врач? Когда наступила смерть?
Ильин достал из папки еще один листок.
– Доктор говорит, что в такую жару разброс очень велик – где-то между девятью и полуночью.
– И что же, сторож уже спал? Так рано?
Антон Савельевич поправил на носу очки, развел руками:
– Так я же говорил: двери закрывают в семь, для посетителей есть звонок. Чего ему сидеть-то пнем? Конечно, спал.
– Понятно. – Маршал немного запнулся, но кашлянул и продолжил: – Простите, господа, следующий вопрос будет неприятным, но необходимым. Где каждый из вас был в тот вечер с девяти до двенадцати часов?
Заусайлов кивнул, признавая резонность вопроса, медленно, будто вспоминая, сказал:
– Игра закончилась, дай бог памяти, часов около двух. Да, определенно – еще часы отзвонили.
Ильин потер переносицу под очками, нахмурил лоб:
– Я был в театре, все видели, у Александра Николаевича там ложа, и я, стало быть, там, вот. С девяти и до самого конца, до половины двенадцатого. А оттуда до полуночи в аптеку никак не поспеть.
– Я так понимаю, что вы, Антон Савельевич, тоже здесь обитаете?
Ильин кивнул:
– Да, во флигеле. С супругой и дочерью – вы ее видели.
– Ясно. – Маршал положил недокуренную сигару в пепельницу, записал пару слов в блокнот, спрятал его в карман и поднялся. – Еще раз извините. А теперь мне нужно поговорить с Храпко и осмотреть место преступления.
– Разумеется. – Заусайлов тоже встал. – Антон Савельевич прямо сейчас проводит вас в аптеку. А я пока позвоню в полицию, предупрежу, что вы приедете.
В фойе Маршал вдруг резко остановился, хлопнул себя по лбу:
– Вот растяпа, оставил зажигалку на столе. Я сейчас, подождите меня на крыльце, Антон Савельевич.
Но, как только за Ильиным закрылась дверь, Константин Павлович передумал возвращаться в гостиную, а направился к другой двери. Ему показалось, что она была чуть приоткрыта, когда они с управляющим выходили, а после закрылась. Загадка не бог весть какая: толкнув дверь, Маршал совершенно точно знал, кого за ней увидит.
– Если не ошибаюсь, вас зовут Нина?
Девушка вспыхнула и опустила взгляд, но кивнула.
– Мне, видимо, нет нужды представляться, раз вы подслушивали. Девичье любопытство или конкретный интерес?
Нина сверкнула черными глазами, зашептала быстро:
– Это не он, вы понимаете? Это не он его убил!
– Успокойтесь, пожалуйста. Кто?..
Но девушка испуганно округлила глаза, ойкнула, сунула Маршалу в ладонь клочок бумаги и захлопнула дверь. Почти тут же, жалобно скрипнув, распахнулась дверь гостиной. Константин Павлович быстро спрятал записку в карман брюк, обернулся – на пороге стоял хозяин дома.
– Вот, Константин Павлович. – Заусайлов протянул Маршалу его зажигалку. – Вы забыли. Красивая вещь.
– Подарок. Спасибо, жаль было бы потерять.
– Вас ожидают в участке в полдень. Отыщите там пристава Шаталина.
До аптеки и правда оказалось рукой подать – дальний угол соседнего дома. Маршал остановился у входа.
– Стекло уже заменили?
– Да нет, – пожал плечами Ильин, – вставили то же самое. Его аккуратно выдавили и поставили тут же у стеночки, между дверей.
– Отпечатков, я полагаю, не снимали?
– Что, простите?
Но Константин Павлович оставил вопрос без ответа и вошел внутрь. Торговый зал был небольшим: треть комнаты отгорожена стеклянной витриной с прилавком, левый дальний угол скрыт ширмой. Маршал заглянул за перегородку – узкий топчан с засаленной подушкой. Посреди правой стены была сплошная деревянная дверь, за ней задержались еще меньше – кабинет аптекаря оказался ровно такого же размера, в два окна: тяжелый стол с подтеками и подпалинами, стул, весы, спиртовая горелка да пара стеклянных шкафов с бутылками и пузырьками. Прошли в следующую дверь – склад, чуть не до потолка забитый ящиками.
– Что тут?
– Разное. В основном сельтерская да спирт, обычный и нашатырный.
– И что же, все это заносят сюда через две комнаты? Стена же внешняя, почему нет двери?
– Нет, конечно, есть дверца… Вот она, тут, за ящичками. Как раз для разгрузки.
– Так, – протянул Маршал, – а ключи от нее у кого? Не мог провизор впустить кого-нибудь? Подругу, например?
Антон Ильич скривил губы:
– Подруг еще не хватало. Не мог. Ключ только у сторожа.
– Всего один ключ?
Антон Савельевич пожевал губы, будто пробуя на вкус слова, прежде чем сложить их в ответ, и, запинаясь, выцедил:
– У хозяина еще есть… Свой… Он же рассказывал про мигрени. А так ближе, чем по улице обходить. На сто двадцать пять шагов. У него вот тут и шкафчик персональный, где всегда имеется все потребное.
Маршал подергал ручку, изучил замок, петли, бросил через плечо:
– С улицы потом надо будет осмотреть. Идемте дальше.
Комната, в которой убили провизора, была самой маленькой, с узеньким окошком во двор, забранным толстой решеткой, и с отдушиной у потолка, но тем не менее довольно уютной: пружинная кровать, тот самый конторский шкаф, покрытый кружевной салфеточкой, с выдвинутым верхним ящиком. В вазе томился букетик слегка увядших желтых одуванчиков, со стены игриво улыбалась креолка на вставленной в рамку картинке, вырезанной из конфетной коробки «Карамель» Рамонской паровой фабрики. Неширокий платяной шкаф в углу довершал меблировку.
– Где нашли тело? На кровати?
– Никак нет, вот здесь, на полу лежал, бедняга. – Антон Савельевич топнул по темно-бордовому коврику у них под ногами.
Маршал присел, внимательно осмотрел сам половик, паркет под ним, поднялся.
– Его что же, постирали? Крови не вижу.
– Да ее и не было почти.
– Где была рана?
Ильин ткнул себя набалдашником трости в левый висок:
– Вот тут вмятина с яйцо. А лежал он вот так. – Довольно проворно управляющий растянулся на коврике, раскинул картинно руки в стороны и снизу пояснил: – Да там в папке есть карточки, все было отснято – полдня потом магний оттирали. Может, тогда и кровь подтерли.
Маршал пошуршал бумажками, нашел фотографии, просмотрел – жертву Антон Савельевич изобразил похоже.
– Идемте. – Константин Павлович помог своему спутнику подняться, подал трость. – Осмотрим складскую дверь со двора, и я в полицию.
Савва Андреевич Шаталин встретил Маршала вроде приветливо и даже с поклоном, и о здоровье господина Заусайлова справился, и всячески заверил в полнейшем содействии, но глазами совсем не улыбался. Оно и понятно, и не ново – кому приятно, когда посторонние в твои дела суются? Особенно еще когда посторонние – столичные умники. Тем не менее Савва Андреевич распорядился Храпко в кабинет привести, а пока ждали, попробовал выяснить, что же от сторожа потребовалось Александру Николаевичу:
– Или сомневаетесь в чем? Так напрасно. Мы эту породу досконально знаем, не первый год служим. Сперва от скудоумия натворят делов, а потом слезы льют, рубахи на себе лоскутьями пускают да каются.
– И что же Храпко? Кается? Рвет рубаху? – не принял тона Константин Павлович.
Шаталин опять насупился, почесал затылок:
– Нет. Этот не кается. Но ничего, посидит еще денек-другой – сознается. Он это. Больше некому.
– Ну не знаю, – пожал плечами Маршал. – Мотива не вижу. Общих дел у Храпко с покойным не водилось, что денег в конторке не будет – знал. Бывают, конечно, выродки, которые себе высшую цель в оправдание придумывают или просто так, удовольствия ради могут убить. Но второе обычно с детства видно: слабых колотят, животных мучают. Храпко, как мне рассказывали, не из таких. А для высшей цели умом не дорос.
Шаталин кивнул:
– Так и есть. Болван, каких поискать. Ну а кто же, коли не он? Есть соображения?
– Имеются.
Савва Андреевич, как гусак, с готовностью вытянул шею, но тут открылась дверь, и ввели сторожа. На вид парню было около двадцати, невысокий, худощавый, с большими крестьянскими руками, которыми он наминал коричневый картуз, в пиджаке явно с чужого, более широкого, плеча. За сутки на щеках высыпал рыжеватый кудрявый пушок, не сочетавшийся с взлохмаченной почти черной шевелюрой и будто углем нарисованными бровями, сходящимися над переносицей. Темные глаза, острые скулы, нос средний – закончил про себя словесный портрет Константин Павлович.
– Садись, Храпко! – рявкнул Шаталин и для пущего эффекта еще и грозно прищурил левый глаз.
Эффект возымелся даже избыточный – бедный сторож не сел, а упал на стул, да еще и ноги под себя подтянул. Маршал нахмурился на рьяного пристава и, кажется, впервые за полгода пожалел о своем статском положении.
– Савва Андреевич, я бы чаю с удовольствием выпил. И вот Степану – как вас по батюшке? – повернулся Маршал к часто моргающему Храпко.
– Игнатич, – пробормотал сторож.
– Степан Игнатьевич тоже выпил бы чаю. Покрепче и с сахаром, будьте добры. И не спешите, дайте нам четверть часа.
Шаталин сверкнул из-под бровей, но вышел, даже дверью не хлопнул.
– Степан Игнатьевич, меня зовут Константин Павлович, и я здесь по просьбе господина Заусайлова. Он не верит, что вы виноваты в смерти Бондарева. И я должен доказать, что он прав. Он ведь прав?
Из глаз Храпко в два ручья хлынули слезы, он размазывал их по заросшим щекам картузом и невнятно бормотал:
– Барин… Ей-богу, барин… Христом-богом… Да я б ни в жисть… Собаку не пнул ни разу… Спасибо, батюшка Алексан Николаич… По гроб, ей-богу…
Маршал подождал с минуту, потом решительно тряхнул сторожа за плечи:
– Соберитесь, пожалуйста. У нас всего пятнадцать минут, больше нам Савва Андреевич не даст. Перестаньте стенать!
Храпко еще раз всхлипнул, но причитать перестал, с готовностью уставился на Константина Павловича.
– Расскажите в подробностях, что происходило в аптеке в ночь убийства. С того момента, как вы заперли в семь часов дверь. Кто приходил, кто что хотел – все.
Степан вытер рукавом последние слезы, затараторил:
– Так чего ж, все ж уже рассказывал. Ну, извольте, мы завсегда. В семь, значится, как положено, дверь запер. Ключ в карман, вот сюда. Женька к себе пошел, он со мной особливо не разговаривает, ученый больно. Я, значится, на склад сходил, дверь проверил. Потом девка прибегала соседская, должно, в четверть восьмого, для барыни своей капель валериановых взяла. Часов в восемь, не позже – я как раз чайник на спиртовке согрел, – Антон Савельевич заходили. Сказали, что за деньгами. Со мной чайку выпили. Они обходительные, не чураются, завсегда готовы словом перемолвиться. Потом ушли. Это уж половина девятого, значится. Я еще посидел чуть да спать лег. Прям сморило после его ухода. А проснулся уж засветло, на ходиках уж седьмой час был. Пошел Женьку будить, а там… он… лежит… руки раскинул… – По щекам юноши снова потекли слезы.
Маршал нахмурился, уцепился за мелькнувшую мысль:
– А после ухода господина Ильина вы Бондарева видели?
– Нужен он мне больно. Да и не любил он, чтоб я к нему ходил. Раз как-то заглянул, так он мне дверью чуть лоб не расшиб. Должно, боялся, что я его с мысли собью.
– С мысли? С какой мысли?
– Он почитай кажную ночь письма писал, по полночи свечи жег. И получал часто. Думаю, от барышни.
– Почему?
Храпко почесал лохматый затылок, пожал плечами:
– Дык как тут объяснить. Видно же все: читает он то письмо, а сам лыбится, как будто боженьку увидел. Ясно, что от зазнобы.
– А откуда вы знали, что он свечки жег и письма писал?
– Дык через окошко видел. Я курить на двор выхожу по нескольку раз за ночь. Так он чуть не до петухов сидит, перо кусает да пишет.
Маршал нахмурился, порылся в папке, нашел опись личных вещей Бондарева. Писем в списке не было. Ни одного.
Скрипнула дверь, пятясь спиной, вошел пристав, развернулся – в руках был поднос с двумя стаканами чая в серебряных подстаканниках и вазочка с колотым сахаром.
– Извольте, Константин Павлович.
Маршал взял стакан, протянул Храпко. Тот осторожно принял, опасливо глянул на грозного Савву Андреевича и, улучив момент, когда тот протискивался на свое место, быстро схватил из вазочки кусок сахара и сунул за щеку.
– Последний вопрос, Степан Игнатьевич. Вы во сколько обычно спать ложитесь?
Храпко судорожно сглотнул, протолкнул в себя не успевший растаять сахар, хлебнул горячего чая.
– Я-то? Дык по-разному. Обычно часов в десять, не раньше. А тут вон, вишь, до девяти не дотерпел, сморило.
Маршал поднялся, протянул руку приставу, задержал его лапищу в своей:
– Савва Андреевич, каяться господину Храпко не в чем. Но до завтра пусть у вас посидит: целее будет. А мне пора, благодарю за помощь.
Шаталин выскочил из-за стола, снова грозно зыркнул на бедного сторожа, открыл перед гостем дверь, спустился с Маршалом по лестнице, приговаривая:
– Кланяйтесь Александру Николаевичу. И ежели еще какая помощь, то мы завсегда со всем расположением. Опять же, ежели вдруг что – то сразу ко мне, можете господина Заусайлова и не утруждать. Афанасий Фаддеевич, какими судьбами?
В фойе нерешительно шаркал штиблетами по ковровой дорожке и оглядывался высокий господин в визитке и канотье, но довольно потасканного вида. Его-то Шаталин и назвал Афанасием Фаддеевичем.
– Вот, господин Маршал, позвольте отрекомендовать – господин Северский, наша местная прима. Видели бы вы, как он играл Тригорина. А как господина Тургенева изображал! – Шаталин закатил глаза и даже восхищенно цокнул. – Столичная театральная сцена много потеряла, не сумев разглядеть Афанасия Фаддеевича. А это, – Шаталин повернулся к Маршалу, – Константин Павлович, в некотором роде тоже знаменитость, только сыскного толка. Из самого Петербурга. По просьбе уважаемого Александра Николаевича Заусайлова помогает нам, сирым, разобраться в убийстве молодого провизора. Слыхали?
– Да, признаться, что-то такое… В газете, кажется… Рад, очень рад, – замямлил Северский, тряся руку Маршалу.
– Ко мне? – спросил Шаталин актера, но, не дождавшись ответа, опять обернулся к Константину Павловичу: – Не смею задерживать более, но обещайте, что ежели какая нужда, то уж непременно и безо всяких стеснений.
Коротко заверив, что «ежели», то определенно «непременно без стеснений», Маршал наконец-то вырвался на свободу. Шаталин же, только лишь за столичным гостем захлопнулась дверь участка, всю благостность с лица прибрал, зыркнул сурово из-под бровей на Афанасия Фаддеевича:
– Ну?! Опять чего набедокурил, пьянчуга кабацкая? Сколько раз я тебя упреждал: не прекратишь вино хлестать – околеешь под забором! Ей-богу, Афонька, перестану я тебе потакать, хоть ты мне и свойственник! Сестру мою в могилу свел – и меня тако же хочешь? Где опять обмишурился?
Во время всей этой отповеди Северский, подобно черепахе, медленно втягивал голову в плечи и так в том преуспел, что к финальному вопросу почти касался ушами ворота сюртука.
– Ей-ей, Саввушка, уже два дня в рот не брал. Я… – Афанасий Фаддеевич запнулся, замялся, посмотрел на захлопнувшуюся за Маршалом дверь. – А где ж этот господин жительствует? Мне, признаться, любопытно… Думал, к тебе, а если тут вон кто, из самой столицы… Мне для роли… И тебя не отвлекал бы от службы. Может, разузнаешь мне адресочек? Я уж по-простому бы к нему, коль уж ты нас представил, а тебе бы глаза и не застил, а?
Шаталин с подозрением посмотрел на родственника, но допытываться не стал, а степенно ответил:
– И разузнавать нечего. Я в своем городе обо всех все знаю, даже если кто еще и подумать не успел. На Торговой он квартирует, дом генеральши Стрешневой.
– Вот спасибочки, Саввушка, – снова забубнил Северский. – Не буду тебя более отвлекать. Машеньке кланяйся. – И бочком-бочком попятился, нащупал спиной дверь и выскочил на улицу.
А Константин же Павлович в продолжение своего неожиданного вояжа направился в больницу – там он быстро переговорил с врачом, проводившим вскрытие, и осмотрел вместе с ним покойного. Уже уходя, обронил:
– Верно ли, доктор, что крови было мало?
– Крови? – переспросил тот, натягивая на голову убитого Бондарева простыню. – Вы знаете, да. На удивление, почти что и не было. Даже странно для такого ранения.
– А вот тут, на щеке, не синяк ли? Прижизненный или нет?
– Сложно сказать. Может, уже и тление началось. Я, по совести говоря, на лицо-то особо и не смотрел.
Последней точкой маршрута Константина Павловича оказался особняк уездного предводителя дворянства. Но входить в приемную отставной сыщик не стал, а обмолвился парой слов со скучавшим у дверей привратником. Удовлетворенно кивнув головой на его бурчание, Маршал сунул в протянутую руку рубль, взял извозчика и поехал домой, щурясь на медленно спускающееся к горизонту солнце.
Зина вытерпела до конца обеда, хотя видно было, что загадочное исчезновение мужа ее заинтриговало. Но лишь подали кофе, она, дав супругу сделать глоток, выпалила:
– Рассказывай! Немедленно! Я вся как на иголках полдня!
Константин Павлович с сожалением посмотрел на дымящуюся чашку, отставил ее и самым подробным образом пересказал супруге и события дня, и грустное происшествие, послужившее им причиной, благоразумно обойдя стороной некоторые анатомические подробности. Зато, повествуя о разговоре в доме Заусайлова, хлопнул себя по лбу, полез в карман, достал сложенную вчетверо записку от Нины Антоновны Ильиной. Супруги склонились над листком. Послание было очень лаконичным:
«Сегодня в десять в парке. В беседке, что у пруда с лебедями».
Городской парк, который так расхваливали в утренней газете, произвел на Константина Павловича двойственное впечатление. С одной стороны, все ухожено, трава аккуратно пострижена, дорожки посыпаны битым камнем, фонтаны журчат умиротворяюще, а деревья жаркими летними днями, надо полагать, дарят прогуливающимся блаженную прохладную тень. Но с другой стороны, очень уж все было прилизано, причесано, приглажено. Слишком уж по-столичному. А хруст каменного песка под ногами через пять минут начал раздражать – будто по рыбным скелетам идешь.
Искомая беседка находилась в самом дальнем от входа углу сада. Лебедей уже видно не было, солнце почти оперлось о горизонт и еле-еле пробивалось сквозь стволы деревьев, местами подкрашивая воду багрянцем. Константин Павлович сел на скамеечку, закурил, посмотрел на часы – до десяти оставалось пять минут. Достал записную книжечку, поймал пятно солнечного света, перечитал дневные записи. Снова посмотрел на часы – четверть одиннадцатого. Спрятал блокнот, поднялся, обошел беседку. Дорожка вела дальше, вглубь зарослей сирени – судя по направлению, к дому Заусайлова. Прямо за благоухающими кустами оказался высокий забор с запертой калиткой, а поверх плотно подогнанных досок торчала крыша знакомого особняка – меценат и елецкий благодетель имел свой собственный вход в парк. Константин Павлович оглянулся, не видит ли кто, подпрыгнул, ухватился за край дощатой стены, подтянулся, быстро осмотрел пустой двор – и спрыгнул уже с другой стороны, присел на корточки, еще раз осмотрелся. Бесшумно пересек двор, прижался к стене одноэтажного домика – Ильин говорил, что квартирует с семьей во флигеле, следовательно, и Нину Антоновну логично было искать там же. В густеющих сумерках темно-серый костюм практически слился со штукатуркой, лишь белый воротничок сорочки немного демаскировал бывшего полицейского. К счастью, свидетелей этого странного поведения господина Маршала не было, иначе, конечно, скандала было бы сложно избежать.
Немного подождав, Константин Павлович начал медленный обход дома. Окна еще не заперли на ночь, поэтому особой нужды заглядывать в них не имелось, можно было просто слушать. Первая же комната отозвалась довольно тревожными звуками: кто-то тихонько всхлипывал и что-то бормотал. Достав из кармана маленькое зеркальце, Константин Павлович настроил себе обзор. Плакала немолодая женщина, а бормотание, судя по молитвенно сложенным рукам, оказалось разговором со Всевышним. Слов было не разобрать, потому Маршал двинулся дальше. Следующее окно молчало, лишь тюлевые занавески с легким шелестом касались подоконника. Зеркало тоже никакого дополнительного движения не обнаружило. Чуть помедлив, Константин Павлович аккуратно взялся за жестяной карниз, наступил одной ногой на цокольный пояс, заглянул в комнату. Это был кабинет хозяина: бухгалтерская конторка со счетами, стол, пара венских стульев да портрет императора. Сам хозяин отсутствовал. Бесшумно спрыгнув на отмостку, Маршал продолжил свою разведку. Свернул за угол, посмотрел на очередное окно – закрыто, света нет. Снова пришлось лезть на цоколь. Шторы оказались задвинуты, но не очень плотно: видно было кровать с пирамидой подушек, пуфик с ситцевой обивкой и половину распахнутого шкафа, из которого выглядывало платье. В таком, а скорее всего, именно в нем, сегодня днем он видел Нину Антоновну. Стало быть, дома ее нет. Для верности заглянув в последнее окно (там оказалась совсем крошечная столовая), Константин Павлович собрался уже совершить обратный маневр, примеряясь к расстоянию, разделявшему его и калитку в парк, как тишину майского вечера нарушил автомобильный клаксон – кто-то требовательно гудел у ворот усадьбы. Быстро переместившись за дощатый сарай, примыкавший почти вплотную к забору парка, Маршал снова опустился на корточки и затаился.
Во двор въехал тот самый черный автомобиль, на котором утром Маршала возил Ильин, осветил спасительную калитку одинокой фарой. В этот раз из-за руля выскочил сам Заусайлов, крикнул подбежавшему от ворот лакею:
– Вымыть начисто. Да утра не жди, прямо сейчас чтоб! Захар! И фару поменяй!
– Ох ты ж, – запричитал слуга. – Это чего ж такое-то приключилось, Алексан Николаич?
– Собак расплодилось, чтоб их. – Посмотрел на темные окна флигеля: – Что ж, Антон Савельевич еще не вернулся?
– Никак нет. Как Нину Антоновну увезли, так и не было еще.
– Странно. Дарья Кирилловна что?
– Заперлись и плачут.
– Понятно. Хорошо, занимайся.
Еще с четверть часа во дворе была суета. Хлопнул дверью Заусайлов, загорелся свет во втором этаже, замелькали тени. С ведром вокруг машины бегал Захар, причитая над разбитой фарой. Улучив момент, когда тот скрылся в гараже, Константин Павлович быстро перемахнул через забор и спустя полчаса уже поднимался по ступеням дома генеральши Стрешневой.
Зина еще не спала – ну да этого Маршал и не ожидал, был уверен, что жена не захочет ждать новостей до утра. Услышав, что встреча не состоялась, она разочаровано надула губки и протянула мужу записку:
– Вот. Еще одно рандеву, которое у тебя сегодня не случилось. Заходил тот самый артист, которого ты днем в участке видел.
– Северский? Интересно. – Константин Павлович развернул листок, пробежал по строчкам, повторил: – Очень интересно. Читай.
Зина взяла записку, прочитала:
«Многоуважаемый г-н Маршал. Жаль, что не застал вас дома. Имею что сообщить по интересующему вас делу о недавнем умерщвлении провизора. Буду ждать вас завтра в девять утра напротив синематографа „Экспресс“.
Ваш покорный слуга, А. Ф. Северский».
На следующее утро Константин Павлович, совершив свой привычный моцион к реке и успев даже купить газету, ровно за одну минуту до девяти уселся с ней на излюбленной скамейке, огляделся по сторонам – Северского пока не было видно. Что ж, артисты – народ не самый пунктуальный, подождем третьего звонка, тем более что занять себя есть чем. Первую полосу с объявлениями Константин Павлович читал избирательно, ибо с цирюльником уже давно определился, а встречаться с предъявителями банковских билетов за различными номерами для «романтических встреч с перспективой создания семьи» тоже не собирался. Потому, отметив лишь отсутствие неизвестной для Зины информации о портнихах, сразу перелистнул страницу – и между лопаток пробежал холодок. Со второй полосы на Маршала из черной траурной рамки смотрел Афанасий Фаддеевич Северский собственной персоной. В статье, перемежавшейся фотографиями разных образов актера, сообщалась скорбная новость – господина Северского сегодня на рассвете рыбаки достали из реки чуть ниже Воронежской площади. Естественно, мертвым. В целом статья была сдержанно-печального и уважительного тона, хотя и упоминалось о сложных отношениях покойного с зеленым змием и даже высказывалось предположение, что эта пагубная привычка и послужила причиной преждевременной кончины. Дочитав, Константин Павлович еще пару минут посидел, хмуря брови и тарабаня пальцами по колену, после резко вскочил и зашагал к дремавшим в конце улицы «ванькам». Спустя четверть часа он уже поднимался по скрипучей лестнице к кабинету доктора, с которым днем ранее осматривал покойного провизора, а еще через пять минут они уже вдвоем спускались в подвал, в ледник.
Афанасий Фаддеевич лежал на спине под простыней, гордо выпятив к потолку покрытый седоватой щетиной подбородок. Доктор бесцеремонно перевернул тело и указал Маршалу на огромный, почти черный кровоподтек на спине:
– Синяк указывает на то, что был сильный удар. Еще и три ребра сзади сломаны и разорвана селезенка. Смею предположить, что господин артист упал с моста. В легких и желудке воды почти нет, так что умер, получается, от удара. При такой высоте что об землю с колокольни, что об воду – результат будет схожим.
Константин Павлович внимательно осмотрел спину, даже пощупал холодную кожу:
– Об воду ли? Был ли пьян?
Доктор вернул покойного в исходное положение, чуть отодвинул простыню, так что стали видны грубые швы на груди.
– Следов алкоголя в желудке я тоже не обнаружил.
– Где его вещи?
Доктор указал на коробку на соседнем столе:
– Здесь часы, бумажник, запонки и прочая мелочь. А одежда вон там, отдельно. Пришлось разрезать сорочку и брюки, невозможно было снять.
Константин Павлович заглянул в коробку, достал бумажник, раскрыл, пересчитал банкноты – червонец и три рублевые бумажки. Небогато, но грабители и столько не стали бы оставлять. Прощупал карманы – ничего. Осмотрел пиджак, обернулся к доктору:
– А эти прорехи? Пиджак вы не резали?
Доктор поправил очки, посмотрел на надрезы в районе лопаток, покачал головой:
– Нет. Пиджак снялся легко. Как и жилет. Может, когда из воды тащили, зацепился за что?
– Может, – задумчиво почесал бороду Маршал.
Спустя два часа в малой столовой заусайловского дома собрались те же, что и вчера за завтраком: сам хозяин, его управляющий и Константин Павлович Маршал. Гость от кофе отказался, сигару с благодарностью принял и, с удовольствием выпустив первое кольцо дыма, заговорил:
– У меня для вас, Александр Николаевич, две новости. И все как водится – одна хорошая, вторая не очень. Хорошая в том, что Степан Храпко не убивал бедного Евгения Бондарева. Более того, бедного юношу смерть настигла отнюдь не на рабочем месте – туда его отнес убийца, инсценировав по ходу еще и ограбление.
Заусайлов сдернул с переносицы очки, потер переносицу, снова нацепил стеклышки:
– Что за ерунда? Вы вчера удивлялись, как преступник в принципе мог пробраться мимо спящего сторожа, а теперь утверждаете, что он протащил мимо него труп? От такого шума, простите за каламбур, и мертвый пробудился бы.
Маршал поднялся, заходил по комнате. Заусайлов с Ильиным не сводили глаз с сыщика, синхронно поворачивая за ним головы.
– Смею предположить, что в эту ночь мимо бедного Степана Игнатьевича мог пройти цыганский табор с песнями и медведем – и он бы мирно посапывал на своей кушетке. Но дело в том, что никто мимо него и не ходил – убийца проник в аптеку через заднюю дверь и уже с убитым на руках.
– Опять же ерунда! – Заусайлов тоже вскочил. – Ключ от задней двери есть только у меня! Или вы меня в убийцы рядите?
– Успокойтесь, Александр Николаевич. Будь вы убийцей, странным выглядело бы приглашение меня на роль дознавателя. Хотя, скажу честно, подозрения у меня все-таки были, за что приношу извинения. Виной тому некая молодая девица, которая сыграла хоть и невольную, но роковую роль в судьбе бедного юноши. Да и не только в его судьбе. Так, Антон Савельевич?
Ильин побледнел, открыл было рот, судорожно сглотнул – и ничего не сказал.
– Молчите? Ну что ж, тогда продолжу я. Ключ от задней двери имелся у самого Евгения Бондарева. Дубликат вашего. Думаю, что ключ помогла ему сделать дочь Антона Савельевича, Нина Антоновна.
– Господи, – опустился на стул Заусайлов. – Я уже устал удивляться. Это какой-то фарс.
– Нина Антоновна состояла в любовной связи с покойным провизором. Встречались они, как я полагаю, в аптеке. За что студент и лишился жизни. Доказать это в ее отсутствие мне будет затруднительно, если только… – Маршал подошел к белому как мел Ильину, наклонился почти к самому лицу, глядя прямо в глаза: – Письма, Антон Савельевич. Сожгли? Не думаю. Люди вашего склада слишком уважают написанное на бумаге. Александр Николаевич, извольте попросить кого-нибудь из слуг проверить кабинет вашего управляющего. Уверен, письма там.
– Какие письма? Господин Ильин, о чем он говорит? – бахнул по столу кулаком Заусайлов, да так, что перевернулась малахитовая пепельница и грохнулась об пол.
Ильин от звука вздрогнул, но опять промолчал. Тогда Заусайлов поднялся, подошел к дверям, что-то шепнул стоящему снаружи дворецкому. Судя по раздраженному «да, черт возьми, все верно», просьба была встречена недоумением.
– Продолжу. – Маршал снова мерно зашагал по комнате. – Как я уже говорил, в какой-то момент я подозревал вас, Александр Николаевич. Особенно после того, как Антон Савельевич сказал мне про ключ от задней двери. Вас от подозрений избавил дворецкий вашего предводителя – он подтвердил, что вы покинули дом после половины третьего ночи. Это, кстати, тоже можно считать хорошей новостью. Да и мотива я вам придумать не сумел, слишком уж вы положительный персонаж. Ваш любимый Конан Дойл наградил бы вас каким-нибудь пороком, честное слово. Но все-таки, для полноты картины, скажите: во сколько Антон Савельевич вернул вам вчера автомобиль?
– Вернул? Но откуда вы… Где-то в половине девятого. Он отвозил дочь в деревню, в усадьбу матери. Да что здесь происходит?!
Маршал поднял с пола пепельницу, поставил ее на стол, раздавил почти докуренную сигару.
– Здесь сейчас происходит установление истины. Вы же сами меня об этом просили, так что пенять вам, кроме себя, не на кого. Просто истина не всегда радует. Хотя вот только что мы выяснили, что ваши намерения были искренними и участия в убийстве вы не принимали.
– Отлично, – кивнул удовлетворенно Заусайлов. – Благодарю за оправдание. Осталось теперь услышать, кто же убийца?
– А чего уж тут далеко ходить… Антон Савельевич, не созрели для признания с покаянием? Присяжными зачтется в вашу пользу.
Заусайлов опять взвился, будто чертик из дурацкой табакерки, сверкнул глазами:
– Константин Павлович, вы хоть лицо и неофициальное, но все-таки!.. Это же очень серьезное обвинение! Антон Савельевич у меня уже лет десять служит, я за него ручаюсь!
– Двенадцать, – тихо подал голос Ильин. – Двенадцать лет. Теперь уже служил.
Заусайлов вытаращил на управляющего глаза, дернул рукой воротничок, да так, что пуговички горошинами застучали по паркету.
– Да ты что, Антон? Ты в своем уме? Да ты же… Да ты же в театре был? Есть же свидетели?
Ильин грустно посмотрел сперва на хозяина, после на Маршала, отвернулся к раскрытому окну, опустил голову. Константин Павлович кивнул:
– Ну что ж. Расскажу я. Это как раз та самая неприятная новость. Но вы уж поправьте, если где-то лишнего нафантазирую. Не берусь утверждать о степени серьезности отношений Нины Антоновны с убитым провизором, но в переписке они точно состояли. Думаю, что связь была серьезнее: за обычные, хоть бы и откровенные письма не убивают. Отношения эти отцу девушки явно не нравились. Думается, он рассчитывал на более выгодную партию, но это тоже из разряда допущений. А вот что я могу точно доказать, так это, во-первых, что сторож был напоен вами, Антон Савельевич, чаем со снотворным, после которого спал мертвым сном до утра, что дало вам возможность и совершить задуманное, и инсценировать ограбление. Вы же специально так топорно все обставили, чтобы даже ваши полицейские дуболомы не поверили во взлом. Во-вторых, я докажу, что в театре вас не было. В-третьих – что Евгения Бондарева убили во дворе аптеки, как раз у той самой задней двери. И последнее – кроме бедного юноши на вашей совести смерть актера Афанасия Северского. Мне продолжать, господин Ильин? Или все-таки сами все расскажете?
– Откуда про Северского узнали? – не поднимая головы спросил управляющий.
– Он приходил ко мне вчера вечером. Ровно тогда, когда вас не было дома. Думаю, хотел рассказать про ваш трюк с театром.
– А про это как догадались?
– Видите ли, я не верю в случайности. Когда человек назначает мне встречу, на которой хочет рассказать что-то важное об убийстве, а вместо нее оказывается в некрологе, я начинаю беспокоиться. Беспокойство привело меня в покойницкую, где, благодаря вам же, у меня уже имелся знакомый врач. Увидев круглый синяк и явно прорезанный пиджак, я вспомнил, что ваш автомобиль вернулся вчера домой с разбитой фарой – не спрашивайте, как узнал, главное, что это факт. Без особой надежды я осмотрел мост, под которым нашли тело несчастного Афанасия Фаддеевича. Расчет был на то, что ударить его автомобилем вы могли, только выехав на тротуар – в противном случае осколки фары растолкли бы в пыль телеги. Мне повезло, логика оказалась верной.
Константин Павлович достал из кармана узелок из носового платка, развязал и аккуратно выложил на стол осколки гнутого толстого стекла.
– Если Захар не выбросил старую фару, можем сличить. Не желаете? Ну, тогда после. Так вот. Беспокойство мое усилилось. Потому что раз вы решили устранить человека, который что-то знал об убийстве, стало быть, имеете к нему отношение. Вы уже были у меня на подозрении после разговора со сторожем, а теперь вся картина сложилась. Оставалось лишь найти доказательства того, что алиби ваше – фальшивка. И я его тоже нашел.
Из другого кармана Маршал вытащил длинный седой парик и такую же бороду.
– Это из гримерки Афанасия Фаддеевича. Ваш пристав говорил, что господин Северский был превосходен в роли Тургенева. Думаю, вас, Антон Савельевич, в театральной ложе, на изрядном удалении от свидетелей, он сыграл в тот вечер не менее блистательно.
В повисшей тишине было слышно, как во дворе садовник поливает из шланга клумбу. Заусайлов растерянно переводил взгляд с Маршала на Ильина и обратно, но те молча смотрели друг на друга. Безмолвную дуэль прервал вернувшийся дворецкий. Он бесшумной тенью скользнул к хозяину, протянул тоненькую пачку конвертов, перевязанных атласной лентой. Управляющий молча проводил его взглядом, а после закрыл лицо руками, взъерошил волосы, снова провел ладонями по лицу, будто пытаясь что-то стереть.
– Я не думал его убивать, – тихо, еще сквозь руки, заговорил Ильин. – Хотя… Наверное, не исключал такого варианта. Раз нанял этого пьянчугу Северского. Вы правы, я шел за письмами. Этот паршивец… Мало ему было того, что он с ней сотворил… Он угрожал мне, что я не смогу найти Нине жениха, что он сразу после объявления помолвки передаст ему ее письма… Я их не читал. Не смог. И вы не читайте, прошу. Вы правы, у меня не хватило решимости их сжечь. Я готов был заплатить. Честно. У меня и сумма при себе имелась, все десять тысяч. Можете проверить, я в тот день их забрал из банка. Я просто не верил, что он отдаст. Я же и про письма не сразу поверил, не думал, что Нина могла повести себя так неосторожно. Ведь было бы из-за кого!..
Антон Савельевич облизнул сухие губы, оглянулся на столик у зеркала – там стоял графин с водой. Маршал молча подал ему стакан, не торопил, пока Ильин пил. Вытерев усы тыльной стороной ладони, тот продолжил:
– Вы правы, у него был ключ. Не понимаю, как вы догадались, но это так.
Константин Павлович пожал плечами:
– Если б ключ был у вас, вы и говорили бы с ним внутри. А то, что убийство случилось в другом месте, не в комнате убитого, понятно стало еще по отсутствию крови на коврике. Потом при осмотре тела я обратил внимание на синяк на скуле. Предположил, что Бондарева ударили по лицу, тот упал и обо что-то раскроил череп. Вспомнил ограду палисадника во дворе аптеки – там как раз похожие шары на столбиках. Еще раз наведался, чтоб удостовериться – размер подходящий, да еще и кое-что нашел. – Константин Павлович в очередной раз запустил руку в карман, достал оттуда спичечный коробок: – Смотрите – кровь дождь, конечно, смыл, а вот волосы задержались в трещинах краски. – От вытащил из коробка тонкую каштановую прядь.
Заусайлов брезгливо поморщился, но все же приблизился, сощурился сквозь очки на улику.
– Признаю – цвет похож. Но если все так, как вы говорите, то тут нет преднамеренности. Ну повздорили два человека, один другого ударил, тот упал, а дальше на все воля Божья.
– Все так и могло бы трактоваться, если бы Антон Савельевич не подготовил себе алиби и не опоил сторожа. И вот это уже явно свидетельствует о преднамеренности действий. Да и устранение потом своего невольного соучастника тоже не похоже на случайность. За что вы его убили? Он тоже стал вам угрожать? Как он вас связал с убийством? Ведь вы же наверняка ему изначально что-то менее криминальное рассказали, объясняя, для чего вам понадобились его услуги?
Ильин снова провел рукой по лицу, ответил:
– Про роковую страсть придумал. Я же на встречу с ним ехал, чтоб сотню обещанную отдать – да и все. А он пришел заведенный, ершистый, начал кричать, что денег ему не надо, имя его честное ему дороже и что убийцу он покрывать не станет. Какого, говорю, убийцу, что ты несешь, проспись ступай. А он в ответ, что, мол, с вечера не разговлялся, глоток, мол, в горло не идет от осознания всего ужаса. И опять про имя Северского, которое он не позволит в крови марать. Я даже его за лацканы потряс, чтоб хоть чуть эту словоохотливость поубавить. Ну он и спокойно так мне прямо в лицо заявляет, что видел вас в участке, когда к брату жены покойной заходил, и на него озарение снизошло. Что я, может, и не убийца, а все ж дознанию нелишним будет знать, где я вчера ночью был и для чего он, артист, три часа с фальшивой бородой в театре просидел. И руки мои так аккуратно от пиджака оторвал и зашагал через мост. И я затрясся аж, в глазах потемнело. Пронеслось в голове, что из-за одного негодяя я дочь потерял и убийцей сделался, а из-за второго и меня семья потеряет, по миру пойдет, пока я на каторге кайлом махать буду. И как в тумане все. Помню только, как склонился над ним, а он уже и не дышит. Как через перила перевалил его – помню. Всплеск этот в ушах до сих пор стоит. Очнулся только у конторы уже. Александру Николаевичу про собаку сообразил сказать. – Помолчал, глядя на руки, продолжил: – Думал, не усну. А не поверите: только голову на подушку опустил – и как умер. Матушка-покойница снилась. Как будто сидит она в саду под яблоней, молодая, красивая, в белом платье и шляпке кружевной. Столик перед ней летний, плетеный, чай на нем, самовар, мед блестит, как янтарь. Помните, Александр Николаевич, янтарь – мы в Риге видели в девятьсот четвертом, когда станки встречать ездили? И сидит, значит, матушка за столиком этим в кресле и что-то на пяльцах вышивает. Оглянулась на меня, отложила шитье и зовет: «Антошенька, сынок». И рукой машет. А я маленький, в матроске, и с другого конца сада бегу к ней – а добежать не могу. Ноги как ватные, и будто не воздух кругом, а вода, не растолкать грудью, сил не хватает. И солнечный зайчик от самовара прямо по глазам. Так до утра и не добежал. Проснулся – солнце на подушке… Что же будет теперь?
Он смотрел не на Маршала – на хозяина. Тот растерянно вертел в пальцах незажженную сигару, не обращая внимания на сыплющиеся на пол табачные крошки. Видно, что нечасто этот сильный человек бывал в ситуации, когда не знал, что сказать. Молчал он долго, но наконец встал, бросил на стол вконец измочаленную сигару и заговорил короткими рублеными фразами:
– Знаю, что не про себя спрашиваешь. Но сперва о тебе. Адвокат будет лучший. Кони[2] или даже Карабчевского[3] выпишу. От каторги спасем. Теперь про то, что тебе важно. Дарью и Нину не брошу, не бойся. Флигель их. Жалованье твое им как пенсию платить буду. Бог даст, еще на свадьбе погуляем. Вместе. А теперь едем. Пока Шаталин обедать не ушел.
– Ушел, но не обедать. – Маршал удивленно смотрел на Заусайлова. – Если честно, я не был уверен в вашей реакции, потому пригласил его сюда. Он ждет в фойе.
Пока Савва Андреевич, извиняясь и кланяясь хозяину дома, уводил Ильина, Заусайлов молча смотрел на своего управляющего, хмурясь и будто надеясь поймать его взгляд. Но Антон Савельевич так и не поднял головы. Когда же за воротами стих цокот копыт, Александр Николаевич, глядя на закрытые двери, медленно произнес:
– Не постигаю. Хоть режьте меня. Если б он сам не признался, я бы вам не поверил.
– Почему? – удивился Маршал.
– Антон Савельевич – математический гений. Он мог бы преподавать в Московском университете, не меньше. Если бы он задумал убить этого Бондарева, вы бы в жизни его не вычислили.
Константин Павлович развел руками:
– Ну вы же слышали – оба убийства были не вполне запланированными. А когда человек в состоянии ажитации, всего предусмотреть невозможно, что-то да упустишь.
Заусайлов покачал головой:
– Обычный человек – да. Но не Ильин. Он – ходячий арифмометр. Он однажды на стройке три часа доказывал подрядчику, что тот привез не тот лес. Тот на него и орал, и ногами топал, даже плюнул на ботинок. Антон Савельевич вытер плевок, аккуратно засунул испачканный платок грубияну в карман пиджака и даже не прервал реплики. Хотя тут речь о чести семьи…
– Чужая душа всегда потемки. А уж когда речь идет о любви…
После обеда, рассказав финал истории Зине, Константин Павлович вышел в сад, сел под яблоней в плетеное кресло. В лучах перевалившего зенит солнца блестели маковки собора, мелькали в розовом воздухе запятые стрижей. С прибрежных лугов принесло горячий пряный запах каких-то степных трав. Почему-то вспомнился сон, рассказанный Ильиным, про солнечное детское воспоминание. Странно – каждый раз, разоблачив очередного убийцу, Маршал спрашивал себя: а каким был этот человек в младенчестве? Ведь не родился же он сразу извергом и врагом человеческим? Когда происходит та метаморфоза, которая отделяет одну дорогу от другой? И сколько таких развилок приходится преодолеть, прежде чем окончательно выбрать свой путь? Думается, что у всех свое количество перекрестков. Кому-то и одного бывает достаточно. Вот жил себе мальчик Антоша, вырос в Антона, потом в Антона Савельевича. Встретил девушку Дашу, обвенчались, родилась у них дочь. Служил – и не за жалованье, а потому что любил то, что делал. И вдруг – две жизни вычеркнул за два дня.
Теплая рука коснулась его щеки, взъерошила волосы. Он поймал Зинину ладонь, поцеловал.
– Доволен собой?
– Как всегда.
– Жалеешь его?
– Пытаюсь понять.
– А что тут понимать. Он защищал дочь. Я бы на что угодно пошла ради ребенка.
Маршал кивнул, достал портсигар, зажигалку, но так и не донес огонек до папиросы. Вместо этого вскочил, хлопнул себя по лбу:
– Черт! Какой же я болван!
Покой публики, чинно прогуливающейся после суетливого вторника, был самым бесцеремонным манером нарушен приличного вида господином, который вел себя совершенно невообразимым образом. Он не просто бежал – он несся по Торговой с непокрытой головой, задевая прохожих и даже не извиняясь.
Через двадцать минут красный от бега Маршал влетел в калитку заусайловского дома, чуть не сбив с ног Захара, крикнул высунувшемуся на шум дворецкому:
– Хозяин дома?
Из окна кабинета свесился Александр Николаевич:
– Константин Павлович? Что?..
Но Маршал бесцеремонно перебил:
– Куда Ильин увез дочь?
– Нину? Но зачем вам?
– Я идиот, Александр Николаевич! А вы наполовину правы! Ильин не убивал провизора! Актера – да, но не Бондарева! Он защищал дочь! И продолжает это делать!
Последняя весенняя суббота была по-летнему жаркой. Парило так, что воздух кисельно густел от предвкушения приближающейся грозы. Маслянистый запах сгоревшей на солнце сирени провоцировал мигрени. К вечеру небо над заливными лугами вдоль низкого берега Сосны потемнело, за дальним пролеском уже посверкивало и погрохатывало. Антон Савельевич подвел последнюю горизонтальную черту под дневной сводкой, аккуратно написал итоговое число, подул на чернила и переложил лист в бумажную папочку. В ту же минуту часы в столовой отыграли гимн и отзвонили семь раз. Пора. Он вышел из кабинета, прошел коридором к двери – ровно шесть шагов, три ступеньки, двадцать шагов до угла, от него еще тридцать, пять ступенек, фойе, четыре шага, левая дверь. Он замер на мгновение, восстановив дыхание, постучал ровно три раза.
– Входите, Антон Савельевич.
Александр Николаевич отложил перо, хлопнул крышечкой чернильницы.
– Ну как там у нас дела? Славно поработали?
Ильин протянул хозяину папку, ответил:
– И поработали, и заработали. Мне к девяти в театр, я предупреждал, помните?
Заусайлов кивнул:
– Конечно-конечно. Только у меня к вам просьба – принесите мне из аптеки рублей четыреста-пятьсот. Сегодня игра у Карла Арнольдовича, а я забыл в банк заехать. У вас же есть там такая сумма?
– Там как раз пятьсот. Сейчас переоденусь и схожу.
Спустя пятьдесят четыре шага и семь ступенек – то есть уже, собственно, на крыльце флигеля – со счета пришлось сбиться. Распахнулась дверь, и из дома вылетела Нина, чуть не сбив отца с ног.
– Ох, папа, прости.
– Ты к своим лебедям?
Дочь рассеянно кивнула, поправила шаль.
– Не сиди до темноты. И возьми зонт, кажется, будет гроза.
Сменив у себя серый костюм на фрак и белый жилет, он взял галстук и направился в комнату жены – за столько лет так и не научился справляться с этими удавками, а ее узлы были идеально симметричны.
В этот раз, правда, с первого раза у Дарьи Кирилловны не вышло. Антон Савельевич перехватил дрожащие пальцы, поцеловал:
– Такая жара, а ты все мерзнешь. Руки совсем ледяные. Завтра же отправимся к доктору, с твоей мигренью нужно что-то делать. Точно не поедешь со мной? Ну хорошо. Тогда ложись, не жди меня.
Антон Савельевич поцеловал подставленную щеку, отметил про себя, что жена серьезно потускнела за последние недели, и снова пообещал себе непременно свозить ее завтра в больницу. Постоял в прихожей перед вешалкой, все-таки перекинул через локоть плащ и взял большой зонт, постоял на крыльце, прислушиваясь к далеким раскатам и вдыхая посвежевший воздух.
До аптеки ближе было через двор – двести шестьдесят семь шагов против трехсот девяносто двух. Потому Антон Савельевич направился к калитке, отмеряя счет ударами трости. Взялся за скобу, потянул и нахмурился: невидимые за развешенным бельем, о чем-то спорили два голоса, мужской и женский. Последний показался очень знакомым. Антон Савельевич замер в нерешительности: возвращаться и обходить через улицу, теряя время, не хотелось, двигаться дальше и стать свидетелем семейной сцены тоже. Промедление же делало ситуацию и вовсе неприличной: выходило, будто он подслушивает. Разрешиться сомнениям помогло то, что спорящие стали ругаться громче, и женский голос был опознан. Решительно отодвинув тростью первую сохнущую простынь, Антон Павлович пошел на голос дочери.
– То, что вы подлец, я уже поняла! – звенел, подрагивая от сдерживаемого гнева, Нинин голос. – Верните письма – и больше меня не увидите!
– Нина, послушай! Успокойся! Почему ты веришь не мне, а этой дуре? Я люблю тебя! Ну хочешь, я завтра к твоему отцу пойду и попрошу твоей руки? Он не отдаст тебя за меня, конечно, но я пойду!
– Прекрати немедленно! Я вас видела в саду!
– Нина!
Пощечина в весенних сумерках прозвучала оглушительно звонко, за ней последовала возня, похожая на звуки борьбы, да еще и сопровождавшаяся сдавленными просьбами убрать руки. Антон Савельевич ускорил шаг, споткнулся, запутался в очередной то ли простыне, то ли пеленке, оборвал веревку – поднял невероятный шум, который прервал полный ужаса короткий девичий крик. Рванув изо всех сил пленившую его ткань, Ильин наконец освободился – и замер. У задней двери аптечного склада, раскинув руки, неподвижно лежал на спине мужчина, а перед ним, упав на колени и зажав руками рот, сидела Нина. Из-под головы лежащего растекалось черное пятно.
Антон Савельевич приподнял голову мужчины, автоматически зафиксировав личность – ночной провизор Евгений Бондарев. Посмотрел на рану, проверил пульс. Только после этого повернулся к дочери, взял за плечи, поднял. Та продолжала смотреть на лежащего юношу, не моргая и не отрывая ладоней ото рта.
– Нина! – Ильин решительно встряхнул девушку, заставил посмотреть на себя. – Нина, он мертв. Тихо! Это несчастный случай. Ты слышишь?
Кивнула. Ильин осмотрелся: слева и сзади глухой забор, окна наверху не горят. Точно, аптекарь на водах. До дома около двухсот шестидесяти шагов. Две минуты туда, минуту на инструктирование жены, минуту на звонок, минуту обратно, потому что бегом. Нет, обратно надо через улицу и шагом. Три с половиной минуты. Всего семь с половиной минут.
Дарья Кирилловна охнула, увидев дочь, но выслушала молча, без вопросов, и тут же начала исполнять. Антон Савельевич этого уже не видел, так как крутил ручку телефона, но был уверен – жена уведет Нину в комнату, отсчитает капель и просидит у постели, пока дочь не уснет. Пожалуй, что и дольше будет сидеть.
На том конце сонный голос побурчал:
– Афанасий Северский у аппарата.
– Афанасий, это Ильин. Слушай и не перебивай. Ты мне должен сто рублей. Закроешь этот долг и завтра получишь еще столько же. Надевай фрак, гримируйся в меня. Да, как тогда на юбилее. Тебе надо опоздать на десять минут, просидеть в ложе и уйти за десять минут до конца. Да, чтоб ни с кем не встретиться. К любовнице мне надо. Да, представь. Сто, не торгуйся. Отбой.
Посмотрел на часы. Черт, просил же не перебивать – разговор занял на полминуты больше. Открыл ящик стола, достал «Веронал»[4]. Ровно через три с половиной минуты он дважды нажал на кнопку звонка справа от двери аптеки.
– Меня подвели наука и жара – доктор ошибся во времени смерти.
– Что сказал Ильин? – Зина протянула мужу чашку мятного чая, села рядом в плетеное кресло, накинула плед.
– Стоит на своем. Все берет на себя.
Зина кивнула.
– А дочь?
– Нам призналась. Рыдала по бедному Бондареву. Но после разговора с отцом молчит. Заусайлов потом рассказал, что Ильин попросил его отправить жену с дочерью куда-нибудь на время суда. Боится, что она порушит его версию. Александр Николаевич ему пообещал.
Зина снова кивнула. Константин Павлович взял жену за руку:
– Что делать мне?
– Решай сам. Я бы оставила за ними право на выбор. Но думаю, он уже сделан. Хотя как Нина сумеет жить с таким грузом, я не знаю.
Вокруг подвешенной к потолку террасы лампы кружилась пара мотыльков, затрещали цикады. Пузатая луна осторожно карабкалась по черному небу, отталкиваясь от ненадежных ступенек просыпающихся звезд. Зина уселась мужу на колени, прижалась к груди.
– Костя. Пообещай, что ты не будешь меня бранить?
Он отстранился, посмотрел на жену – в ее глазах плясали чертики.
– Тебя? За что?
– Зажмурься. Крепко. И не подглядывай.
Легкие шаги прошелестели по молодой траве, скрипнула дверь, снова шаги.
– Открывай.
В плетеной корзинке, с голубым шелковым бантом на шее, тихо посапывал мокрым носом черный щенок. Константин Павлович посмотрел на застывшую в ожидании жену.
– И как мы его назовем?
Зина захлопала в ладоши, даже подпрыгнула.
– Умный у нас в семье ты, ты и имя придумывай.
– Да уж, умный…
На столике рядом с креслом стоял забытый с субботы набор для преферанса. Константин Павлович откинул крышку, не глядя вытащил карту – трефовый валет. Ну нет, Валет – слишком по-фартовому. Полицейскому, хоть и бывшему, не к лицу.
– Пускай будет Треф. Тебе нравится?
ЛЕТО 1912 года
Кошерное золото
Александр Павлович Свиридов погибал. Да что там погибал – уже погиб, и никакие превосходные степени, приставки и прочие грамматические конструкции не требовались для описания глубины этого несчастья. После возвращения господина Свиридова из безымянности и беспамятства прошло уже полгода[5], с благословения профессора Привродского и Владимира Гавриловича Филиппова он вернулся на службу – благо начальнику уголовного сыска столицы империи теперь как раз полагалось два помощника, и мир вокруг Александра Павловича только-только упокоился в некотором равновесии. Шумный Петербург убаюкивал своей суетливостью и видимостью беспорядка, работа в два счета привела в боевое состояние несколько заржавевшее сознание, еженедельные встречи с профессором уже носили больше формальный и даже отчасти дружеский характер, нежели в действительности были потребны для здоровья бывшего пациента. Но грянул гром! Тот самый спокойный, вертикальный и преимущественно прямоходящий мир совершил новый кувырок, будто акробат в полосатом трико под куполом цирка. Александр Павлович Свиридов, мужчина тридцати пяти лет, холостой, православного вероисповедания по рождению и атеист по убеждениям, влюбился!
Безусловно, ничего ужасного или предосудительного в самом таком положении нет – все мы когда-нибудь испытываем приступы особой нежности к какой-либо особе, теряя сон и аппетит. Порой это даже длится очень долго, переживая и «горе и радости, богатство и бедность, болезни и здравие» – и даже последующее восстановление потребностей организма. Несколько хуже, ежели упомянутая особа оказывается несвободна. Но натур пылких и это обстоятельство не всегда способно остановить. Совсем уж плохо, когда чувство ваше не находит ответа. Однако когда супругом вашего предмета обожания является ваш же близкий друг, то тут уж действительно погибель! Ни о каком поиске взаимности человек честный не смеет и помышлять, а лишь страдает одиноко, сгорает, выжигаемый изнутри то ли любовью, то ли чувством вины, то ли обоими этими огнями одновременно или поочередно.
И Александр Павлович пал жертвой именно такой болезненной страсти, приведшей к появлению под глазами темных кругов от бессонницы, рассеянного взгляда и увеличению каждодневных трат на папиросы. По долгу службы и долгу дружбы вынужден он был почти ежедневно встречаться и с той, что лишила его покоя, и с тем, к кому он изо всех сил старался не испытывать зависти. Встречи эти были и сладостны, и мучительны, делали Александра Павловича еще молчаливее и задумчивее, нежели его сотворила природа.
Вот и теперь, сидя в своем кабинете, он вдруг понял, что уже полчаса смотрит на фотографический портрет императора на стене, мусолит незажженную папиросу, но так и не перевернул первую страницу взятого из несгораемого шкафа дела.
– Черт знает что, – пробормотал Александр Павлович, сунул измочаленную папиросу в латунную пепельницу и расстегнул воротничок. – Любовь-морковь. Этак недолго и стишки начать сочинять.
Он поднялся, распахнул окно. С улицы, разгоняя по углам кабинета собравшийся сумрак, ворвались утренний свет, звуки города и сырой запах канала. Цокали по мостовой копыта, посвистывали и пощелкивали кнутами «ваньки», по тротуарам фланировали парами барышни, приятно шурша юбками светлых летних платьев. На Львином мостике два балбеса-реалиста[6] состязались, кто дальше плюнет в канал. Свиридов хотел было кликнуть городового, но пожалел лоботрясов и лишь тряхнул головой да глубоко вдохнул заоконные ароматы. После этого «моциона» он вернулся в кресло и снова взял листок протокола осмотра места преступления. Перечитывал Александр Павлович его уже раз в десятый, притом что составлял его сам, и все пытался найти в документе что-то новое, что-то упущенное. Дело было не просто странное – дело было мистическое. Хоть попа вызывай, даром что ограблен еврей-ювелир.
Вчера утром, явившись после шаббата в лавку в зеркальной линии Гостиного двора, ювелир Ицхак Шейман с младшим приказчиком, племянником жены Эзрой Симоновичем, увидели страшную картину: дверь отперта, стеклянные витрины выпотрошены («Господь, конечно, высушит руки этих непотребцев, но что там взяли, то ж дешевка для кухарок»), громадный напольный сейф бесстыдно распахнут и пуст («А это же полный гембель[7], пан полковник, там же не просто золото и камни, там же экспонаты Эрмитажа, предметы искусства, но для воров они ж просто цацки»), а на полу, прямо посреди комнаты, на куске беленой рогожи аккуратно разложен полный комплект медвежатника: и фомки, и отмычки, и ручные сверла, и даже масленка с тонюсеньким горлышком – в замочные скважины капать да петли от скрипа предохранять.
Александр Павлович, которого воскресным утром командировали на осмотр места преступления, не сильно обрадовался такому своему повышению до «пана полковника». Поначалу дело казалось и странным, и простым одновременно. Английский дверной замок без ключа открыть можно было только изнутри, и сам он оказался в абсолютном порядке: ни царапин, ни следов смазки. А драгоценностей на полмиллиона рублей как не бывало – выгребли даже простенькие запонки и булавки для галстуков. В воздуховод с трудом протиснулась бы средней откормленности кошка, а других незапертых ходов во внешний мир в лавке не имелось. Эти странности, казалось, должны бы решаться просто: обчистил магазин кто-то из своих. Всего-то выяснить у хозяина, кому он доверял ключи, да опросить пристрастно всех из списка. Но рушило эти стройные умозаключения одно обстоятельство. Все похищенные изделия – авторские. Шейман – ювелир известный и авторитетный, все, сделанное своими длинными пальцами, клеймил буковками «ИШ». Продать такие вещицы не просто сложно, а почти невозможно: после того как полиция возьмется за дело, никто из скупщиков просто не примет товара с клеймом. И свои об этом не знать не могли. И окончательно похоронил версию о «семейном» воре еврейский бог Яхве, что для атеиста Свиридова было прямо-таки ударом под дых: комплект ключей от входных дверей был всего один – у самого Шеймана! Хозяин всегда сам отпирал лавку по утрам и закрывал замки вечером. Ключи держал при себе, не доверяя ни жене, ни сыновьям, Лейбу и Меиру, ни молодому Эзре Симоновичу. И по субботам лавка не работала – шаббат! Все, баста! Круг замкнулся. Либо Шейман сам себя ограбил, либо вор был бестелесным духом. Но, как известно, духам материальные ценности ни к чему, да и перетаскать их через замочную скважину тоже не получилось бы. На окнах решетки, стекла и рамы целы, да и та самая отдушина с обеих сторон затянута частой сеткой, тоже нетронутой. Оставалось подозревать хозяина.
Александр Павлович решительно отложил протокол, захлопнул папку и зычно гаркнул:
– Дежурный! – У просунувшейся в дверь головы в фуражке спросил: – Явился ювелир? Заводи!
Невысокий сухой еврей, кажущийся еще меньше ростом из-за угодливо согнутой в дугу спины, замер на пороге, стащил широкополую шляпу и затряс головой, рискуя обронить с крючковатого носа очки в круглой оправе. При этом он, начав причитать еще в коридоре, не прекращал этого, оказавшись в кабинете:
– Ох, пан полковник, да уж неужели же у такого важного человека достает времени, чтобы гонять к себе старого Ицхака Шеймана и разговаривать с ним разговоры? Не щадите его, несчастного, так и бог с ним, но к чему же вы к себе так не жалостливы? Нет-нет, я не в обиде! Кто я такой, чтоб обижаться? Всего лишь тот, кого обокрали какие-то пакостные шлимазлы[8], дай всевышний их матерям покой и силы терпеть таких детей. Какие жалобы, пан полковник, я даже благодарен вам, что еще немножко времени меня не найдут жадные кредиторы, которые уже откуда-то прознали про горе несчастного Шеймана, храни господь их семьи.
– Сядьте, господин Шейман! – Свиридов хлопнул по столу папкой, прерывая эту словесную лавину, и показал на стул для посетителей. – И помолчите! Пожалуйста.
Ювелир просеменил до указанного места, уселся на самый краешек, сохранив изгиб спины.
– Скажите, вы уверены, что второго комплекта ключей не существует?
Шейман посмотрел на Александра Павловича поверх очков, всем видом своим показывая, что «пан полковник» не иначе как душевнобольной.
– Господин Свиридов, – грустно и даже несколько сочувственно улыбнулся ювелир, – мне шестьдесят восемь лет, и последние пятнадцать из них я сплю один. Вот этот мальчик, – он достал тяжелую по виду связку, выбрал длинный ключ, показал его сыщику, – стережет мой сон с тех пор, как мы с женой перестали делить спальню. Мы же оба понимаем, что он остается со мной внутри на ночь? И все остальные, что висят на этом кольце, тоже спят со мной вместе. Мне шестьдесят восемь лет, вы же не успели забыть? А я ни разу не забывал запирать на ночь спальню. Вы видели мою спальню? А знаете мой дом? Я вас приглашаю. Вы оцените и двери, и замки. Ицхака Шеймана не грабили даже в Кишиневе, когда он только привел в новый дом молодую жену, и никто еще не называл его Ицхаком Эфраимовичем, и папино имя было только папиным, храни господь его душу. Петербург – не Кишинев, скажете вы и будете правы, ой как вы будете правы! Мне ли теперь не знать! Но можете верить слову Ицхака Шеймана, а слову этому верить стоит. Я могу быть слаб на голову, но никто не скажет, что Ицхак Шейман слаб на язык. Слову Ицхака Шеймана можно верить даже немножечко больше, чем «Петербургскому листку». Так вот, верьте мне, что даже в шестьдесят восемь лет, даже в Петербурге Ицхак Шейман не будет помогать никаким добрым людям, которые соберутся его ограбить. Он не станет носить при себе много денег, он не станет совать по карманам нисколько своих товаров, и он никогда не оставит двери незапертыми. Ни в доме, ни в лавке! – Он гордо воздел к потолку хрящеватый нос и решительно обхватил себя за плечи.
Александр Павлович с минуту разглядывал это живое изваяние, затем встал из-за стола, сел напротив посетителя, побарабанил по сукну кончиками пальцев и, наконец, произнес:
– Ицхак Эфраимович, ну вы же понимаете, что следует из сказанного вами? Какие в первую голову напрашиваются выводы?
Еврей покачал пейсами, грустно сказал:
– Ах, пан полковник, если бы Ицхак Шейман был глупым, он бы никогда не заработал столько денег и так и остался бы в черте оседлости. Я не глупый. Где вы вообще видели глупого еврея, если только бог не наказал его при рождении расслабленным умом и усердным слюноотделением? Но даже тогда он не глупый, он просто идиот. Похож я на идиота? Спасибо. Так что я все понимаю. Вы хотите сказать, что вывод в том, что старый еврей сам себя ограбил. Я не идиот, но ума, что господь мне отмерил, все-таки не хватает, чтобы понять: зачем мне это надо?
Свиридов пожал плечами:
– Страховые выплаты?
Шейман всплеснул руками:
– Что вы такое говорите, пан полковник? Сразу видно, что человек вы очень умный, но совершенный дурак в коммерции! Простите дураку «дурака» и не вздумайте обижаться, иначе мне придется жертвовать на нужды полицейского управления, а меня уже грабили на этой неделе. Хорошо, на прошлой, если бы это что-то меняло. Скажите мне лучше так откровенно, как если бы вас спросил ваш православный раввин: разве кто-то застрахует бедного ювелира на справедливую сумму? Вы сами смотрели мои учетные книги. На четыреста девяносто шесть тысяч восемьсот шестьдесят три рубля и четырнадцать копеек было в лавке товара в пятницу вечером. А в четверг было почти на сто тысяч меньше! А сегодня я планировал принести только что законченную камею в пятнадцать тысяч ценою. И как прикажете это страховать? Ежедневно приглашать оценщиков? Да, у меня есть страховка. На жалкие сто тысяч. Этих денег не хватит мне даже на то, чтобы уплатить по векселям! Я разорен, а вы еще и грозите мне тюремными решетками. Да я с рождения живу за решетками, я сын ювелира и отец ювелира, мне не привыкать к вечно запертым окнам, чтоб вы знали и знание это было вам в радость!
Александр Павлович поднял руку, снова останавливая словоохотливого ювелира, вернулся за стол, покрутил ручку телефона:
– Роман Сергеевич? Свиридов. Как у вас сейчас со временем? Да. Да, по ювелирному магазину. Нужно произвести обыск. Но очень деликатно. Через сколько? Хорошо, зайдите прежде ко мне, я вам вместо адреса хозяина предоставлю. – Он повесил рожок, снова повернулся к настороженно слушавшему этот односторонний диалог Шейману: – Господин Шейман, вы же не станете возражать, если наши сотрудники проведут осмотр вашего дома? Чтобы полностью развеять мои подозрения в вашей почтенной особе? Ротмистр Кунцевич будет очень деликатен, ручаюсь.
– Я? Возражаю? Да я всем сердцем приветствую! Если вы отыщете украденное, то даю слово Шеймана – а что такое слово Шеймана, я уже объяснял, – я не пожалею ста тысяч на вознаграждение! И знаете что? Пожалуй, я не пожалею и еще несколько рублей на объявления во все газеты! Тому, кто найдет мой товар, – награда! Ровно сто тысяч! Как думаете, добавит это шансов? Не отвечайте, я сам все понимаю.
Когда за Шейманом и Кунцевичем наконец-то закрылась дверь, Александр Павлович шумно выдохнул воздух и будто бы даже уменьшился в кресле – столько сил отняла эта получасовая беседа. Что ж, идея с газетами, пожалуй, и в самом деле недурна: всех скупщиков, конечно, под страхом тюрьмы упредят, чтоб оповещали полицию обо всех попытках сбыть им украшения с клеймом, но страх страхом, а выгода, пожалуй, будет еще эффективнее. А может, и кто-то из бандитов позарится, когда поймет, что денег за добычу выручить будет сложно. Свиридов поймал себя на мысли, что, не дожидаясь результатов обыска, уже перевел ювелира из подозреваемых обратно в потерпевшие. Закурил, разогнал ладонью дым, откинулся на спинку. Как же все-таки преступники проникли в лавку? Неужели он что-то упустил при осмотре?
Александр Павлович решительно хлопнул себя по коленям, затушил недокуренную папиросу и поднялся. Стоило еще раз изучить все на месте. Заодно и поговорить с православными соседями еврея – их лавки были заперты как раз в воскресенье, опросить не удалось.
Он заглянул к Филиппову, рассказал, куда собрался, получил одобрительный кивок, сбежал по лестнице на первый этаж и столкнулся на пороге участка с той, что, сама того не ведая, терзала его бедную прямолинейную натуру своей недостижимостью, – на крыльце складывала кружевной зонтик Зинаида Ильинична Маршал.
– Александр Павлович. – Зина протянула руку в перчатке. – Вы с каждым днем все больше похожи на себя прежнего.
Свиридов коснулся губами белого шелка:
– А вы с каждым днем все прекраснее. Ваше положение вам очень к лицу.
Зина улыбнулась, невольно тронула аккуратный животик.
– К Константину Павловичу?
– Да, он обещал сегодня пообедать со мной.
– Что ж, – Свиридов дотронулся двумя пальцами до полей шляпы, – жестокий мир. Кому-то обед с прекрасной дамой, а кому-то воры да бандиты. Кланяйтесь супругу, мы как-то сегодня с ним разминулись.
Стеклянная дверь ювелирного магазина Шеймана была распахнута, но на ручке другой створки красовалась табличка «Закрыто», а вторая, внутренняя глухая дверь была плотно затворена. Александр Павлович вошел. На звук колокольчика от конторской книги поднял черноволосую кудрявую голову молодой человек в ермолке – старший сын хозяина, Лейб Шейман, он же старший приказчик. Был в воскресенье в лавке при первичном осмотре вместе с отцом, братом и Эзрой. Молодой человек сощурил близорукие глаза, узнал вчерашнего полицейского начальника, поднялся, поклонился и замер с вопросительной миной на лице.
– Добрый день, господин Шейман. Я решил еще раз осмотреться.
Юноша снова сел, заводил пальцами по строчкам, что-то выписывая время от времени в толстую тетрадку в клеенчатой обложке.
Магазин был небольшой. Шагов шесть в глубину и восемь-десять в ширину. По стенам полосатые типографские обои. Пустые стеклянные витрины по периметру, напольный сейф почти в человеческий рост, сегодня закрытый, отгорожен от посетителей той самой конторкой, за которой сейчас сидел Лейб Ицхакович. Там же, за спиной Шеймана-младшего, дверь во вторую комнату. Внутри только стол, стул да аптекарские весы с набором блестящих гирек.
– Скажите, – повернулся к Лейбу Свиридов, – а вы давно держите здесь лавку?
Молодой человек снова поднялся, чуть задумался, будто прикидывая что-то в уме, но довольно быстро ответил:
– Именно на этом месте открылись почти сразу после окончания беспорядков. В сентябре девятьсот седьмого года.
– Хм, – покрутил ус Александр Павлович. – А ремонт выглядит совсем свежим.
– Все верно, – согласно наклонил ермолку Шейман. – В этом марте перестелили паркет и заодно перелицевали стены. Тут всю линию ремонтировали после паводка. Батюшка сильно сокрушался, что такие расходы несет. Хотя сговорились на всех с одной артелью, очень недорого. Спасибо Сеньке Коту.
– Кому? – не понял Свиридов.
– Сеньке. Арсению Котову. Он приказчик в соседней лавке. Перья, чернила, бумага и прочие потребные канцелярскому человеку вещи. А у Арсения брат артельщик. Так что сторговался за всех с большой уступкой.
Свиридов еще раз обвел взглядом торговый зал, но ничего нового так и не усмотрел, потому снова вернулся к молодому Шейману.
– А кто закрывал магазин в пятницу? И во сколько?
Юноша понял, что вопросы не кончаются, промокнул бархатным валиком только что написанные строчки, закрыл книгу и повернулся к Александру Павловичу.
– Папа всегда сам открывает и закрывает лавку. В пятницу торговал Эзра. Папа пришел за ним в пять, потому что нужно было сверить записи и торопиться готовиться к шаббату.
– А соседи ваши до которого часа открыты?
– Слева цветочный салон мадам Савельевой, офицерской вдовы. На двери у нее написано, что они открыты до восьми. Но мадам часто заканчивает и в девять, и в десять. Цветы такой товар, ну, вы же понимаете, чаще всего требуются, когда уже темно. А справа та самая канцелярская лавка. Они закрываются ровно в семь: позже уже нет их покупателя, так чего зря жечь электричество и платить приказчикам?
– А по субботам вы всегда закрыты? Получается, злоумышленники вообще могли здесь чувствовать себя вольно с пятничного вечера и до утра воскресенья?
Лейб на вопросы степенно кивнул и пояснил словами:
– Папа чтит наши еврейские законы, и нам тоже приходится. Торговле, конечно, урон, но отец не поддается ни на какие уговоры. Сколько раз я предлагал нанять на субботы какого-нибудь честного гоя[9], но отец ни в какую.
– И вы, стало быть, всю субботу провели с семьей дома?
– Совершенно верно. С родителями, братом и Эзрой. С захода пятничного солнца до воскресной зари. Дремучесть, согласен, но с отцом сильно не поспоришь: останешься без средств.
Позади брякнул дверной колокольчик. Свиридов обернулся. На пороге стояла довольно миловидного облика дама, совсем еще не старая, скорее, того самого трудноопределяемого женского возраста, когда с равной вероятностью красавице может быть и тридцать, и пятьдесят, в модном, но, видно, не очень дорогом платье и соломенном канотье с веселым розовым бантиком на ленте.
– Мы закрыты, мадам Савельева, – с какой-то поспешностью проговорил Шейман.
Дама смутилась, забормотала:
– Да я, собственно, собиралась… Хотя, конечно, что уж тут… Я зайду в другой раз, Лев Исаакович.
– Позвольте. – Александр Павлович, приподняв шляпу, шагнул навстречу хозяйке цветочного салона. – Титулярный советник Свиридов. Я из полиции. Если не возражаете, я бы проводил вас до вашего магазина и задал несколько вопросов в связи с ограблением ваших соседей. – Не дав даме опомниться, он распахнул перед ней дверь.
– Савельева Марья Кирилловна, – пролепетала цветочница, умоляюще посмотрела на Лейба Шеймана, но тот уткнулся взглядом в обложку конторской книги и помогать гостье явно не собирался.
– Александр Павлович. Идемте, Марья Кирилловна. Я не бандит Дубровский, а совсем даже наоборот. Нисколько вас не обижу, все, что украду, – так это не более четверти часа вашего времени, а потом вернетесь к Лейбу Ицхаковичу и поговорите о том, о чем собирались.
Марья Кирилловна то ли не читала Пушкина, то ли слишком была смущена вниманием полиции к своей персоне, но она, совершенно не улыбнувшись, покорно оперлась на предложенный локоть и позволила себя сопроводить в соседний магазин.
Внутри абсолютно такого же по размеру помещения, что и ювелирная лавка, пустого места практически не наблюдалось. Цветы были повсюду: в гипсовых и стеклянных вазах на столах, в шкафах с прозрачными дверцами и без оных, и на самих шкафах тоже, на полу в ведрах, тазах и напольных вазонах, и даже с потолка свисало на тонких цепях несколько горшков, из которых интимно выглядывали лепестки фиалок. И все это эдемское великолепие дополнялось тонким свистом желтого кенара в стоящей на одном из шкафов золоченой клетке.
Из-за цветочного изобилия стен почти не было видно, но в редкие проплешины Александр Павлович все-таки разглядел бумажные обои в сине-золотую вертикальную полоску – ровно такие же, как у соседей.
– Симпатичные стены.
– Какие есть, господин полицейский. У меня не ювелирная лавка, чтоб бархатом их затягивать. Да и с типографскими-то и проще, и дешевле. У меня, сами видите, какой товар: и пыльца, и вода. Так что я сразу несколько рулонов себе выторговала, сама и подклеиваю, когда требуется. Да и сам ювелир-то после потопа с бархата на бумагу перешел. У всей стороны такие из-за его скупости – видали бы вы, как он тут с артельщиками брехал за каждую копейку. Ну да может, потому и богатый такой, что лишнего не платит. Цезарь, умолкни!
Последняя фраза была обращена к кенару, и, что удивительно, он послушался: спрыгнул с жердочки, подцепил с пола клетки зернышко, сосредоточенно прогнал его по зобу и принялся разглядывать гостя своими черными бусинами-глазами. Молча.
– Какой он у вас послушный.
– А иначе нельзя, с ума можно сойти за весь день от его трелей, – уже менее настороженно ответила хозяйка. – А так он у меня днем заместо колокольчика, а ночью собаку замещает. Коли чужой входит, сразу свиристеть принимается. Пока я не велю – не замолчит. Даже если клетку платком накрыть.
– И что же, в пятницу ночью он не верещал?
Савельева пожала плечами:
– Сторожа не докладывали. Стало быть, не тревожил.
– Вы позволите? – Свиридов указал на дверь во вторую комнату.
– Ну разумеется.
По размерам комнатка была совершенной копией своей соседки из ювелирной лавки, отличаясь лишь убранством. Помимо опять-таки цветов здесь стоял вещевой шкаф, используемый хозяйкой по прямому назначению: внутри на плечиках висело несколько платьев, а на полке поместились две шляпки, – да между шкафом и стеной приютилось несколько тех самых обойных рулонов.
– Мы, бывает, допоздна открыты, так что приходится держать для всякого случая, – пояснила Марья Кирилловна, кивнув на дополнительный гардероб.
– А в пятницу вы во сколько заперли?
– Ох, да почитай что за полночь. У нас же ресторация и кинотеатр напротив через проспект, и вечерами ближе к концу недели долго фрачные господа тянутся. В субботу так и вовсе в половине второго двери закрыла.
В первой комнате тренькнул колокольчик, такой же, как в ювелирной лавке. Свиридов выглянул и увидел зеркальное отражение буквально пять минут назад наблюдаемой им картины – теперь у двери переминался с ноги на ногу Лейб Шейман.
– Господин полицейский, – прямо с порога пробормотал он, – я, собственно, лавку закрыл и иду домой. Просто подумал, вдруг у вас еще остались вопросы.
– Сами закрыли? Отец доверил вам ключ?
Лейб пожал плечами:
– Так что уж теперь, все равно замки менять.
Александр Павлович кивнул:
– Согласен. О вопросах не беспокойтесь, юноша. Если вдруг что-то еще потребуется, я вас отыщу.
Молодой человек кивнул, еще потоптался, будто не зная, как попрощаться, опять кивнул и спиной вперед вывалился на улицу.
– Тяжело одной, поди? – вернулся к цветочнице Свиридов.
– А я и не одна, – с некоторым вызовом выставила подбородок Савельева. – Слава боженьке, доченька помогает, Настенька. В ночь, конечно, ее не оставишь, цветочек молоденький, а до обеда очень даже подсобляет.
Александр Павлович достал портсигар, вопросительно посмотрел на хозяйку.
– Курите, пожалуйста. Я страсть как любила, когда муж курил. Он трубку предпочитал. Очень мне нравился запах табачный. Даже сама курить пробовала, но не получилось: сразу кашлять начинаю, слезы, из носа даже течет, – хихикнула вдова, видимо, совершенно освоившись с неожиданным гостем. – И что же вы думаете, господин полицейский? Найдете бандитов? Это ж ужас, на какие деньжищи добра уволокли. На десять жизней хватит!
– Непременно отыщем, не сомневайтесь. Да и вещицы клейменые, сбыть не получится. Разве что как лом: камни и жемчуг отдельно, оправы да цепи в переплавку. Но тут уже совершенно иная сумма выйдет.
– Ну оно и так не дюже мало.
– Немало, – подтвердил Свиридов. – Но позвольте уж сперва я задам все свои вопросы. Итак, в пятницу вы были здесь до начала первого, так?
Вдова кивнула и попыталась даже изобразить книксен.
– На улицу выходили?
– Я каждого покупателя за дверь провожаю. Такое у меня заведение.
– И что же на улице? Ничего не видели? Не ошивался кто у соседней лавки? Может, наблюдал за дверью.
Савельева пожала полными плечами:
– Специально не примечала, но думается, уж не пропустила бы. Да и опять же, господин Свиридов, тут же сторожа ночные ходят по кругу вокруг всего Гостиного. Четверо внутри, четверо снаружи. Так и ходят всю ночь парами друг другу навстречу. Я потому и интересуюсь, поймаете али нет, что больно ловкие воры-то. Такие замки, как у жида Шеймана, много что за четверть часа отомкнули. Больше у них времени не было, хоть сами приезжайте да замеряйте ночью.
– Да уж… – Александр Павлович завертел головой, соображая, куда бы пристроить окурок.
Марья Кирилловна подвинула ему чистую малахитовую пепельницу.
– А в субботу тихо было у соседей?
– А у них всегда по субботам тихо. Малахольные, сколько денег теряют. Я уж предлагала старику, чтоб Настеньку мою к себе взял на субботы-то. Так старый пень только глазами сверкнул да под ноги плюнул. Вот вроде и умный, а дурак. Ведь куда как лучше было бы, коли девица красивая торговала бы его побрякушками, али нет? Ведь покупатель у него исключительно мужеского полу. А для кого, спрашивается, мужчины эту красоту покупают? Знамо дело, для нас, для женщин. Вот и куда как ловчее бы у евреев торг пошел, ежели б за прилавком моя Настенька стояла. И браслетик к ручке приложить, и кулончик, извиняюсь, на грудь, и сережечки к ушку. Вот и доплевался, образина. Небось патлы свои длинные повыдергивал от досады.
Снова ожил колокольчик, разбудив кенара, и в салон вошел мужчина в визитке со щегольски нафиксатуаренными усиками, поклонился хозяйке, принялся разглядывать готовые букеты.
– Цыц, Цезарь! – шикнула на птицу Марья Кирилловна. – Александр Павлович, вы обождете? Я мигом.
Но Свиридов, пообещав в случае необходимости зайти еще раз, приложился к руке, надел шляпу и вышел из лавки. Оставалось еще осмотреть канцелярский магазин.
Но со вторыми соседями вышла осечка – у приказчика, что работал в пятницу и субботу, того самого предприимчивого Арсения Котова, сегодня был выходной. Пришлось возвращаться в участок, не получив всего, что было потребно.
Александр Павлович вышел на Садовую, сощурился на желтый блин солнца, вскочил на подножку трамвая, сунул кондуктору монету, проехался с комфортом до Сенной, а там вдоль канала к знакомым львам, сторожащим мостик, – и двадцати минут не заняла дорога. И это он еще успел освежиться на площади стаканчиком абрикосовой воды.
Постоял на покачивающемся мосту, покурил, щурясь на солнечную рябь, послушал колокола, а после поднялся к себе. Взялся уже было за дверную ручку, но раздумал, постучался к шефу. Владимир Гаврилович внимательно выслушал все новости, закурил, открыл маленький стенной сейф, достал оттуда какую-то папочку, протянул Свиридову. Александр Павлович развязал тесемки, с удивлением уставился на содержимое.
– Медвежатник? Думаете, он? Но как?
– Не он. Это Федор Ролдугин, но зовут его все Федька Мальчик. Специалист экстра-класса. Но это точно не он. У нас с ним уговор: в центре он не работает.
– Уговор?
– Было дело. Сейчас не важно. Но он мне должен. Вот что мы сделаем…
Филиппов сел, оторвал клочок от сегодняшней газеты, написал что-то карандашом, передал Александру Павловичу. Записка оказалась очень короткой:
«Помоги человеку. В. Г.»
Свиридов непонимающе посмотрел на начальника.
– Сегодня часикам к пяти отправляйтесь вот сюда – трактир «Кочерга». Место не самое жуткое, там ошиваются картежники, мошенники и вороватые приказчики. Заглядывает туда и Мальчик, каждый день. Прямо с порога можете справиться о нем у трактирщика. Мальчика часто подряжают обиженные работники, когда решают хозяина обчистить, так что никто не удивится, что вы его ищете. И нарядитесь попроще, чтоб не глазели. Загляните к нам в костюмерную. А Мальчику покажете мою записку. И свозите его в ювелирный. Думаю, он поможет в этой мистике разобраться.
Обыск дома Шеймана, как и ожидалось, ничего не дал. Ни одно из заявленных украшений в доме не нашлось. Потому Александр Павлович подобрал себе наряд на вечер: синие шаровары в тонкую полоску, заправленные в смазные сапоги, малиновую рубаху с косым воротом, жилет да синий кургузый пиджачишко – и ровно в семь стоял напротив жестяной вывески «Кочерга». Посмотрел по сторонам, поправил картуз, одернул из-под пояска рубаху и решительно спустился по ступенькам. Внутри было сумрачно, пахло кислой капустой и потом. Верхнего освещения не было вовсе, над стойкой висела керосиновая лампа с прикрученным почти до самого минимума фитилем, да в центре каждого из десятка столов тлело по свечке, пристроенной на перевернутой оловянной кружке.
Свиридов подошел к стойке, поманил трактирщика, вполголоса спросил:
– Мальчик не заглядывал?
Трактирщик, продолжая натирать не самым чистым полотенцем стакан, равнодушно ответил:
– Чего тут мальчикам делать? Мужчинское заведение. – Но тут же осекся под суровым взглядом. – Вам по какой нужде Мальчик-то потребен? Он абы с кем балакать не станет.
– Со мной станет. Как появится – на меня укажи. Понял? – И положил на стойку для верности пятиалтынный.
Трактирщик ловко смахнул монету полотенцем, услужливо оскалился:
– Покушать чего изволите? Али чаю хотя бы.
– Чаю.
Александр Павлович уселся в углу, с сомнением посмотрел на принесенный стакан, отодвинул в сторону. В трактир понемногу тянулись люди, кто-то сразу плюхался на лавки, кто-то подходил к трактирщику, но нужного человека все не было. Свиридов все-таки решился, сделал осторожный глоток. Чай оказался на удивление душистым.
Федька Мальчик объявился только на третьем стакане чая. Маленький, узкоплечий, словно и вправду подросток, развинченной пружинистой походкой делового человека подошел к стойке, что-то тихо сказал трактирщику. Тот так же тихо ответил. Оба засмеялись. Мальчик вытянул руку, в ней моментально материализовался тонконогий лафитничек с какой-то темно-рубиновой жидкостью. Деловой выпил, занюхал шарфом. Трактирщик перегнулся через стойку, зашептал что-то медвежатнику на ухо, ткнув пальцем в Александра Павловича. Федька моментально сузил глаза, засверлил взглядом сидящего в углу Свиридова. Потом стукнул легонько ладонью по стойке, ухватил за горлышко появившуюся бутылку того же рубинового цвета, другой рукой подцепил две рюмки, медленно подошел к полицейскому. Вблизи он на мальчика уже не походил – и складки от носа к уголкам рта прорезались уже намертво, и борозда между бровей прочерчена глубоко, и лучики в уголках прищуренных глаз поселились навечно. Федька ногой подпихнул под себя табурет, сел, не говоря ни слова, наполнил две рюмки, взял одну. Свиридов тоже молча поднял вторую. В тишине выпили. Жидкость оказалась наливкой, да такой приторной, что захотелось запить водой.
– Нравится? Для меня держат.
Свиридов молча протянул записку. Мальчик прочел, спрятал в карман.
– Чего надобно?
– Меня зовут Александр Павлович. Прокатимся?
Мальчик откинулся на спинку, заломил на затылок картуз.
– А ежели я занят?
– Ежели занят, то прокатимся в другое место.
Федька помолчал, потом решительно закупорил бутылку, сунул в карман, поднялся и нарочито громко сказал:
– Ну поехали, побалакаем за твоего медведя[10]!
И первым двинулся к выходу.
Через полчаса в коляске тряслись уже трое – заехали по дороге за стариком Шейманом. Тот дрожал не столько от езды, сколько от соседства с человеком явно бандитской наружности, но молчал, лишь шевелил губами. То ли молился, то ли проклинал весь этот несправедливый и жестокий мир. Возле лавки долго возился с замком, гремел ключами, но подсветить себе так и не разрешил. Наконец справился, впустил гостей, вошел сам, зажег свет и встал черной согбенной тенью в углу, со скорбным видом наблюдая за происходящим.
Медвежатник осмотрелся, подошел к окну, подергал рамы, заглянул во вторую комнату, внимательно изучил вентиляционную отдушину и только после всего этого подошел к сейфу. Присел на корточки, сунул нос в скважину, буквально понюхал что-то, достал из кармана часовой монокуляр, долго разглядывал дверцу снаружи и изнутри. Наконец, поднялся, повернулся к Свиридову:
