Сброд
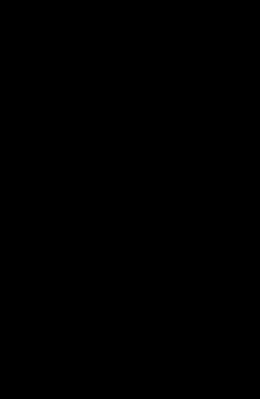
Во внутреннем оформлении использована иллюстрация: © karlovserg / Shutterstock.com Используется по лицензии от Shutterstock.com
В оформлении авантитула использована иллюстрация: © rudall30 / Shutterstock.com / FOTODOM Используется по лицензии от Shutterstock.com / FOTODOM
Иллюстрация на переплете и форзацах – pips
© Джек Гельб, 2024
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024
Сброд – сущ.
Устар. группа случайно собравшихся людей.
Устар. случайное и беспорядочное соединение, сочетание чего-либо.
Собир. перен., презр. преступные, морально опустившиеся, антиобщественные элементы.
Глава 1
Подсолнухи
В горячем воздухе дрожал след холодных чернил. Они самые стойкие. Солнце уже выжгло все, кроме бледно-голубого следа. От целой гармонии четырех основных красок на пыльном баннере остались только голубые тени. Угадывалась реклама строительных материалов. Баннер давно надо снять, но что вешать взамен? Пусть висит себе, есть же не просит. Что-то лучше, чем ничего.
Сонные глаза только-только привыкали к свету. Первое, за что они уцепились, – выцветший баннер. Аня не спешила вставать, хоть тело и затекло. Босые ноги уперлись в стекло окна машины. За ним плыло высокое-высокое небо, далекое, как мечта, светлое, как смех до слез.
Сев в машине и тихо поскулив, Аня размяла шею. Мама за рулем бросила взгляд-искорку в зеркало заднего вида. Черные раскосые глаза сразу оживили белое, широкое, бледное лицо с большими скулами. Вороная тяжелая коса лежала на плече, тянулась до самого пояса. Аня перебралась вперед и стала смотреть на далекие лужи-миражи, которые исчезали каждый раз, стоило лишь к ним подъехать.
Дорога тянулась с ее полуденными призраками, и из-за горизонта показалась заправка. Мама свернула, заглушила мотор, стала искать кошелек. В бардачке лежали документы на имя Рады Черных, бумажная карта, заляпанная сладким сиропом, пакет семечек вперемешку с шелухой. Пришлось еще немного повозиться, чтобы найти кошелек, завалившийся под водительское кресло. Проверив наличку, Рада вышла из машины. Порывы дрожащего горячего воздуха обращали длинную юбку черным пламенем. Мама сутулилась, и на округлой белой спине выступали бугорки. Резкое солнце подчеркивало каждую выпирающую косточку, особенно когда женщина нагнулась за пистолетом, чтобы заправиться. Аня сидела и наблюдала. Из белой двери вышел мужик с отупевшими рыбьими глазами. Он что-то хлюпал толстыми губами. Его затылок, покрытый складками жира, блестел от пота. Рада односложно ответила, расплатилась, села за руль. Толстяк не уходил, стоя прямо напротив маминой «Волги». Толстые губы сплюнули остаток сального остроумия, и только тогда местный хозяин пошел обратно в свою белую будку с грязным стеклом.
– Голодная? – спросила Рада, заводя машину.
– Нет. Дашь десять рублей? – спросила Аня и кивнула на туалет.
– На.
До дома оставалось минут двадцать. Полчаса, если сбавить скорость. Мимо проносились поля. Пустые чередовались с пышными рядами подсолнухов, пшеницы.
– Почему ты не поела? – спросила мама.
– Я же сказала, – ответила Аня, продолжая вытирать кровь с рук влажными салфетками. – Я не голодная.
Рада улыбнулась.
– Мы всегда голодные, – ответила она.
– Не настолько, чтобы жрать такое, – поморщилась Аня.
Рада взяла желтый одуванчик, разъединила стебель на три тоненькие полоски, надела сердцевиной на тонкий прутик.
– Прямые? – спросила мама. – Или пусть вьются?
– Вьются! – ответила Аня.
Рот девочки был набит конфетами. Пять минут назад она вернулась из деревенского магазина и набрала конфет с самыми красивыми фантиками, какие только можно найти в здесь, в Воронцовке. Рада опустила стебелек, разделенный на «пряди», в лужу, и у самодельной куколки тут же появились кудряшки. Аня стала обматывать прутик фантиками как учила мама: чем пышнее, тем лучше.
В этом саду строился целый мир: с королевой, придворными, с проклятыми ущельями, священным деревом – Аня очень любила огромное дерево орешника, самое крепкое во всем саду. Можно устроить дождь в любое время. Аня брала лейку, шланг, залезала повыше, даже выше какого-то провода (который вроде как нельзя трогать, но сколько ни трогай, ничего страшного не случилось). От спиленного толстого сучка остался отличный крючок, на который так удобно вешать лейку. Оставалось только спуститься вниз, открыть скрипучий кран, присоединить старый шланг. На пыльной резине появились трещины, как морщины. Какое-то время Аня думала, что шланг живой.
На участке был погребок. Снаружи он выглядел неприметно – побеленный домишко, как будто ему так и не хватило сил вырваться из-под земли. Домик-гриб, большая часть которого была скрыта там, под землей. Рада страховала дочь, пока та осторожно ступала по старой лестнице вниз. В тихом полумраке покоились бутыли смородинового вина. Когда Аня впервые попробовала, она почувствовала резкий вкус кислятины.
– Может, потом распробуешь, – пожала плечами Рада.
Мама отпила пару глотков, с полнотой чувств просмаковав.
Море беспокойное, купаться не хотелось. Если еще зайти в воду – нормально, но как высунешься, ветер окатит так, что вмиг пойдет гусиная кожа. Чтобы не мерзнуть от сильного (пускай и теплого) ветра, Аня вообще в воду не заходила, а значит, ни полотенец, ни сменной одежды не брала. Зато взяла бидон из-под молока с подсолнухами. Девочка собирала такой большой букет, какой только могла, а когда горлышко не вмещало больше ни одного цветка, Аня посыпала букет сверху желтыми лепестками.
– Так они еще более солнечные! – говорила она, забирая бидон.
Ясное дело, лепестки слетали по дороге. Аня ставила цветы, заставляла камнями, чтобы ни ветер, ни прибой не свалил. Каждый раз их встречала еще с улицы полоска желтых лепестков.
– Да, мы идем правильно! – радостно заверяла маму девочка, когда это, впрочем, и без того было очевидно.
Проходил день, два, иногда неделя. Аня приходила проверить свой бидон. Подсолнухи стояли грустные и поникшие. Иногда и вовсе ни сухих стеблей, ни даже самого бидона.
Аня все равно приносила цветы. Однажды лепестками выложила странный узор. Мама брела по берегу и прислушивалась к морю, чайкам, ветру.
– Что это? – спросила Рада, с любопытством разглядывая выложенный неровный пунктир.
– Это азбука морзе.
Это не была азбука морзе, Аня ее не знала. Рада улыбнулась, погладила дочь по голове, и они продолжили гулять вдоль моря.
До магазина идти минут двадцать. Аня любила ходить за покупками. Пыльная каменистая дорожка тянулась вдоль пустыря, где на углу обычно паслись две козы. Абрикосовое дерево цвело ни для кого. Потом эти ничейные плоды падали на ничейную землю. Козы не ели абрикосов.
День выдался особенно жарким, и Аня взяла себе мороженое. Через несколько минут все руки уже были в липком эскимо. Вторую половину пути Аня заметно ускорила шаг и шустренько добралась до калитки. Дверь была открыта. Затворив за собой, Аня кинула пакет в прихожую домика и побежала мыть руки.
У крана сгорбилась Рада, отмывая подол черной юбки. Из выжатой ткани хлынула вода с кровью.
– Черный Пес? Это был Черный Пес? – спросила Аня, подбегая к воде и отмывая руки.
– Нет, милая. – Рада набрала в ладонь воды, вылила себе за шиворот, растерла шею и отошла в сторону. – Будь это Черный Пес, ты бы увидела издалека фейерверк.
Тень орешника пятнышками скользила по бледной коже, смоляным волосам.
– Сейчас же день. – Аня прищурилась, глядя прямо на солнце до боли в глазах.
– Все равно увидела бы, – усмехнулась Рада. – Нет, это был какой-то упырь из Чертова Круга. Как обычно, хотят, чтобы мы вернулись. Думают, мы тут без них голодаем.
Аня отвела взгляд. Красные пятна забегали прямо перед носом, куда ни посмотри. Аня потерла глаза.
– Понятно, – тихо добавила она.
Рада поджала губы и вздохнула. Подойдя к дочери, мать опустилась на корточки.
– Прости. – Рада заглянула в глаза. – Прости, что ты здесь скучаешь. Здесь ни днем, ни ночью не бывает фейерверков, вместо диких зверей – несчастный плешивый тигр в ростовском зоопарке. Мне жаль, что здесь так тихо и поют разве что цикады по ночам да морской прибой иногда доносится или заладит горлица. Но поверь, солнышко мое, тут лучше, лучше расти здесь, чем среди тех тварей.
– Но я уже выросла, – осторожно, но четко произнесла Аня.
Рада печально улыбнулась, кивнула.
– Я знаю, – ответила она и поцеловала дочь в лоб.
Вечером накрыли пышное застолье. Такое всегда бывало после незваных гостей. Аня завязала глаза шарфом. Впрочем, она все равно бы не подглядывала. Скорее, Ане просто нравилась и эта часть игры. Более того, мама сохранила много платков и шарфов еще из Чертова Круга. Ане нравилось разглядывать узоры, трогать ткань, смотреть, как она летает. Рада показывала, как от одного взмаха парео ткань превращается на миг в птицу. Зачарованные ткани погружали в черноту, в которой лучше раскроются новые ароматы. Аня всецело отдавалась окутывающему уютному мраку, гадая, что же будет на этот раз. Она вдыхала аромат, закрыв платком глаза. Ноздри щекотал цитрусовый аромат.
– Лайм? – спросила Аня.
– Верно, – ответила Рада.
Пряность, горечь, цветы, свежесть моря, дымность проплывали один за другим, как караван откуда-то издалека, оттуда, где восходит солнце. Сегодня Аня наконец-то распробовала смородиновое вино. Окутанная ветрами со всего мира, с цветущих полей, знойной степи, душного алжирского базара, Аня уснула крепко-крепко.
Спала так долго и без кошмаров в гамаке с мамой. Когда глаза закрылись, была тихая ночь, как открылись – грибной дождь. Он барабанил по листьям винограда, стекал струйками. Редкая капля все же проскальзывала и к ним в гамак. Аня прижалась к маме, слушая ровное биение сердца.
Джинсы были велики – Аня наступала старыми черными вьетнамками на пыльный край. На узкой талии ремень держал джинсы, собранные складками. Желтый топ оставлял открытым живот, через который виднелся давно заживший шрам. Мама смотрела именно на него.
– Ань. – Рада отложила сумочку на тонкой золотой цепочке.
Дочка послушно села рядом с мамой и внимательно смотрела в глаза. Рада глубоко вздохнула, убрала прядь за ухо Ани, взяла ее за руку.
– Про Чертов Круг, – наконец произнесла мать.
Аня кивнула, готовая слушать.
– Ты действительно уже выросла, – признала Рада со светлой грустью в голосе. – Просто хочу, чтобы ты знала. Чертов Круг сожрет все. Он сожрал мою жизнь, мою любовь. У меня осталась только ты, солнышко. И то лишь потому, что я вовремя вырвала нас оттуда и сбежала. Захочешь – приходи в Чертов Круг. Захочешь остаться – хорошо. Но ноги моей там не будет. Проклятое место. Там нет ничего, кроме голодного сброда.
– Мне очень жаль! – Аня крепко обняла мать.
До города они ехали в тишине. Засыпающие поля безмолвно проносились за окном.
В Ейске уже загорелись огни. На входе в Парк Поддубного Рада остановилась, прищурила черные глаза, всматриваясь в одну из десятка афиш. Аня шла впереди и, обернувшись, увидела мать, но доска объявлений стояла к ней обратной стороной. Аня смогла лишь прочитать по губам два слова: «Адам» и «осень». Рада сорвала афишу, сложила, затолкала к себе в сумочку.
Так Аня стала ждать осени, не представляя, что их всех ждет.
Есть что-то обреченное в затихших местах. Не тех, которые были молчаливы и хмуры изначально, а тех, что запомнились шумными и по-праздничному суматошными. Аня помнит: когда впервые сошла с поезда, наступила на раскаленный кирпич перрона. Она заслышала крик птиц еще в дороге и тут же припала к окну. Здоровые пернатые ублюдки жадно сбивались в кучу, клюя наперебой жирный чебурек, глотая вместе с тем и промасленную бумагу. Сумеют ли они охотиться в дикой природе или уже безнадежно откормлены подачками? Крылья вздрагивали, поднимались и опускались с громким хлопаньем, пока клювы орали и жрали, клевались и рвали. Люди выходили из поезда, вываливая на перрон привезенные вещи и шум. Как много шума, который присущ всему живому. Зачем им столько? Неужели боятся приехать в другой город и не найти там криков, ругани, беготни, бьющегося звона, гулкого эха, лязга, скрипа, храпа, рыка, клацанья, воя? Этого-то добра везде навалом. Но сила привычки – видно, хотят шуметь, как привыкли. Пока что таможня не проверяет шум, и можно везти сколько угодно и самого разного.
Аня стояла, грызла семечки и слушала, как вдалеке плещется море. Ночной перрон притих. Птиц мало, а те, что были, держались поодаль. Как будто пернатые понимали, что нечего клянчить: Аня не собиралась никого кормить. Пусть сами ищут рачков среди мусора на пляже. На побережье всегда много тварей, чтобы поживиться.
О чем шепчутся черные волны? Не о звездах – в эту ночь их не видно, как и луны. О грязном глиняном дне и говорить нечего, как и о побережье. Бычки, жестяные банки, песок, камни и падаль. К летнему сезону может, и расчистят, но и замусорят больше. По мертвым рыбам ползает всякая членистоногая нечисть. Эти твари и летом никуда не денутся.
Зимний воздух делал лето каким-то несбыточно далеким. Аня стояла далеко от края, но холодный блеск рельс манил. Сначала показалось, что где-то заело жестяную дверь. Аня обернулась на полотна дверей. Металл был весь в кроваво-ржавых укусах морских ветров. Нет, это не скрип. Подняв взгляд, девушка все больше внимала хрустальному плачу и шла на него. Она остановилась у самого края платформы. Пролет разделял ее и одинокого скрипача. Ближайший фонарь находился достаточно далеко, чтобы музыкант отбрасывал длинную тень. Он был сосредоточен, не раскачивался, как часто видела Аня в кино или на улице. Создавалось впечатление, что лицо не выдавало экспрессии. Ане сложно представить этого человека громко смеющимся над шуткой про дерьмо. Неискренний он какой-то. Волосы и сухая кожа были одинакового блекло-желтого оттенка, большой чуть выпуклый лоб, редкие светлые брови. Черные сапоги, какие Аня часто видела у рыбаков и лесников. Длинная куртка темно-серого цвета. Руки, слишком белые и узкие для грубого и неряшливого образа, воспринимались не как часть тела, а как аксессуар, который не шел ко всему прочему. Не шла ему ни скрипка, ни музыка. Мелодия осторожно царапала воздух и тут же оплакивала нанесенные раны. Все вместе настолько нелепо и не вязалось одно с другим, что не отвести взгляда. Что точно шло скрипачу – сцена. Пустая и холодная, для которой время еще не настало или уже прошло.
Скрипка смолкла. Снова стал различим шум далекого моря. Аня скрутила пакет семечек и пару раз похлопала ладонью по запястью. Музыкант шевельнулся и поднял взгляд. Черные глаза без ресниц уставились на Аню через пролет. Смычок резко смазал по струнам, будто бы перерезал горло. Скрипку вырвало таким неблагозвучным воплем, что Аню передернуло. Музыкант медленно опустил инструмент и глядел на единственную слушательницу не мигая. Аня пошарила по карманам куртки. Желание хоть чем-то наградить музыканта жгло сердце. Как назло, в карманах ничего, кроме полупустого пакета с семечками. Аня скрутила пакет, бросила взгляд на музыканта и показала жестом, что вот-вот кинет. Скрипач решил не проверять, блефует ли случайная поклонница, опустил инструмент в чехол на землю и приготовился ловить. Короткий замах, и Аня кинула пакет. Сухие белые пальцы сжали целлофан, заставив его глухо вздохнуть. Неизвестно, что ожидал увидеть в пакете, но, очевидно, не настолько оценивал собственный труд. Больше или меньше – неясно. Он просто снова уставился на Аню.
В голову закрались сомнения: а не сделала ли она глупость? Вежливее просто пройти. Если бы он искал подачек, не приперся бы на пустой вокзал. Еще пара секунд, и Аню всерьез охватил стыд, но скрипач взял пару семечек, улыбнулся и принялся грызть, сплевывая шелуху. Аня с облегчением выдохнула, снова поаплодировала (теперь уже по-человечески, руки-то свободны). Тонкие губы скрипача скупились на улыбку, но что-то вполне добродушное заиграло на его лице. Аня тоже улыбнулась, да так широко, как не посмела бы улыбнуться еще пару лет назад. Щербинка, круто выдающиеся вперед несимметричные клыки не давали остальным зубам встать ровно. В итоге все шло вкривь и вкось, и Аня как будто забыла об этом переживать, и даже будь возможность, не стала бы ничего менять. Язык, губы, голос и манера говорить – все уже приспособилось к этому разнобою. Если бы все по какой-то чудесной причине встало бы на свои места, Аня привыкала бы слишком долго, а может, не привыкла бы вовсе. Главное, что улыбнулась она широко и искренне, махнула рукой скрипачу и пошла дальше вдоль платформы.
С каждым шагом она отдалялась телом и мыслями от одинокого скрипача и только через минуту заметила, что стоит у самого края. Метнувшись в сторону от платформы, Аня выдохнула с облегчением. Кожа ощутила поток холодного ветра, точно прямо перед ней проехал поезд. Пустой пролет лишь молчаливо блестел рельсами, по которым колеса застучат уже после восхода солнца. Ане нравилось говорить не «завтра», а «после восхода солнца». Какой смысл у этого «завтра»? Особенно ночью от него только путаница: «завтра» – в смысле через полчаса, как пробьет полночь? Или «завтра» уже имеется в виду через день? Мир в полночь и мир после полуночи не отличить. Никто не увидит, что завтра наступило, если не пялиться на часы. С солнцем не так. Ане слишком хорошо запомнилось, что все не так плохо, пока ты веришь, что солнце снова взойдет. Девочка вцепилась за эту истину всем сердцем, толком не разобравшись в ней, но всякий раз, когда можно сказать «после восхода солнца», говорила именно так.
Итак, осталось совсем немного до восхода солнца, и Аня пошла к маме.
Как будто Аня держала обрывок времени в руке. По клочку нельзя сказать, как она тут очутилась.
Пахло свежескошенной травой и морем, которое недалеко отсюда плескалось – грязное, с глиняным дном. Что-то не давало покоя. Это не похоже на страх невообразимого и жуткого. Скорее, поиск в кромешной темноте на ощупь чего-то важного, чего в панике не назовешь по имени. Как только рука наткнется на выключатель и свет озарит комнату, на ум придет объяснение, что и зачем искал, но пока слишком рано. Тьма не рассеивалась, воздух зловещ, пуст, холоден.
«Почему так тихо?» – подумала Аня и выглянула в окно.
Летняя ночь, а цикады молчат. Аня стояла на коленях перед пустым креслом.
– Мам? – вместо слов вырвался надрывный хрип.
Аня залилась кашлем, ударила себя в грудь, чтобы освободиться неведомо от чего, но не выходило. Нос щипало от едкого, неживого и губительного запаха. Сырой и тяжелый, он тошнотворно кружил голову. Аня поднялась на ноги, сделала пару шагов, едва не грохнулась, вовремя вцепилась в стол. Кувшин с сухостоем не шелохнулся, ни один листик не вздрогнул.
Нужно добраться до свежего воздуха. На крыльце Аня не смогла вздохнуть, удушающий приступ лишь сильнее сжимал горло. Мамы нигде нет. Ни в доме, ни в саду не осталось ни звука сердца, ни запаха. Аня обхватила себя, подбородок задрожал. Бестолковые попытки кричать о помощи превращались в тихий хрип. Сад беззвучно покачивал ветви ореховых деревьев и старой голой вишни, но Аня не чувствовала ветра. Пугающе громкий стук собственного сердца гудел в висках. Отчаянная жажда свежего воздуха завладела разумом и телом. Пробил озноб, ногу свела судорога. Аня оступилась и упала на каменную плитку, разбив колено. Хоть и выступила кровь, ничего не болело. Аня просто лежала на земле, сжимая кулаки из последних сил, но пальцы не поддавались. Глаза закрывались сами собой.
Шаги раздавались со стороны брошенного виноградника, захваченного бурьяном. Вот, оно уже топает по дорожке из каменной плитки, волоча по земле что-то грохочущее и тяжелое. Удар сердца, еще один. Нет, точно не сердце гостя с виноградника – сгусток холода и пустоты не издает ничего, кроме запаха промозглой тайги. Он скрипит, как морозные сосны.
Что, если сердце способно предчувствовать, что это последний удар? Что-то отчаянное и пылкое надорвалось, и все тело пронизывал жар. Аня перевернулась на спину, попыталась пошевелиться, но все тело разморило, а в глазах стояла пелена. Рот пытался уловить воздух, хотя бы глоток, но вокруг так пусто. Ничего, кроме запаха тайги и гнилой топи.
Жар становился невыносимым. Аня обезумела от боли и молилась, чтобы уже наконец сгорело дотла все, чем она способна чувствовать, все тело, душа и разум, пусть уже исчезнут. Аня мечтала, чтобы это уже закончилось, затихло. Пусть остынет, пусть больше не будет ни единого вздоха. Если это единственный способ унять агонию, которая пожирает изнутри, грызет кости и плавит виски, – пусть все закончится.
Тот, кто пришел из виноградника, остановился. Аня видела жилистые ноги. Колени гнулись в обратную сторону, редкая черная шерсть свисала клочьями. На земле лежал серп и блестел в отблесках луны. Свет казался таким чистым, исцеляющим. Она хотела окунуться, причаститься его, припасть к этому холоду и омыть в нем горящие раны. И вот лунный серп поднялся вверх, предвещая вымоленное избавление, ведь через миг адская симфония жара и безумия стихнет.
И точно назло по раскаленному сознанию резанул чудовищный звук. Не похожий на рык или вопль – такое вообще издать живому существу не под силу. Похоже на рокот грома поначалу, а через мгновение сорвался в свист бури. Серп лязгнул о камень, и лунный свет разбился. Осколки все еще покачивались на земле, когда разум медленно прояснялся.
Вдох больно расширил грудь, воздух, точно соль рану, полоснул легкие изнутри. Из носа пошла кровь, но у Ани не хватало сил вытирать. Зубы стучали, колено и локоть вопили неистовой болью при малейшем шевелении, ребра не давали спокойно вздохнуть.
– Дыши, – раздался голос рядом.
Взгляд прояснялся. Осколки лунного света таяли, издавая тихое шипение. Ане хотелось схватить их, не дать им исчезнуть: вдруг в них еще осталось то звонкое волшебное свечение, вдруг они помогут исцелиться? Протянув руку, она жадно вцепилась в тот, до которого смогла дотянуться. Он въелся в кожу, и то место, где должна была появиться рана, будто растворилось в иной реальности. Ладонь больше не ощущалась как часть тела, как плоть, которая может страдать и причинять страдание. Она хотела большего, хотела причаститься этого света, из которого пили лучезарные плоды, разбросанные по земле. Аня взялась крепче за осколок и попыталась проглотить, когда чья-то мертвенная хватка вонзилась в запястье. Рука невольно выронила осколок, но волшебный свет все еще слепил глаза, а на губах оставалась холодящая сладость. Не чувствуя в полной мере своего тела, Аня облизала губы, чувствуя, как эти несколько капель благословенного нектара возвращают ее к жизни. Вернее, к тому, что она до этого мгновения называла жизнью.
Свет тускнел, отдалялся, или отдалялась она сама. Спина прислонилась к грубой холодной поверхности. Прежде чем Аня вновь попыталась сделать новый вдох, студеная вода окатила лицо. Тело не поддавалось воле, но она уже могла оглядеться по сторонам. На футболку капали вода и кровь. Боль обгоняет мысли. Она закрыла рот руками, чем причинила себе еще больше мучений. Тут же сплюнула наземь. Кто-то был рядом.
Когда Аня подняла взгляд, увидела знакомое лицо. Тот скрипач с перрона. Темные глаза блестели, как будто высшие силы ковали и ночное небо, и эти глаза. Он еще переводил дыхание, оттого оскал выглядел еще более устрашающе. Он опустил на край колодца, к которому прислонил Аню, жестяное ведро. Раздался звон. Все звуки не походили на себя: далекое море, деревья, биение сердца, цикады, скрип сосен, плеск воды в глубоком колодце. Все звучало не так, как должно, все неправильно. Воздух вел себя так же, как кривое зеркало поступает со светом.
Пока Аня пыталась игнорировать вновь вспыхнувшую во рту и руке боль, незнакомец обернулся на виноградник. Лицо исказило презрение. Он принюхался и тихо прошипел себе под нос. Аня снова сплюнула и зажала себе рот. Озноб вернулся и пробрал с новой силой. Когда послышался стук зубов, незнакомец обернулся и встревоженно осмотрел Аню. У него был взгляд человека, совершившего ошибку, но если бы был шанс все исправить, он бы все сделал точно так же.
– Не уходи! – пробормотала Аня, заикаясь и давясь собственным дыханием.
Порыв ветра пробудил шум средь сухого бурьяна и деревьев. Аня вздрогнула от неожиданности. Она сидела одна у колодца. Кругом – мир, в котором снова есть место шуму. Разум медленно распутывал догадки, что именно пришлось пережить этой ночью, а сердце тревожно билось, чувствуя, что кошмар еще не закончился. Ведь каждый шелест, каждый шорох до пугающего похож на настоящий, но…
Мысль обрывалась на полуслове.
Верила тому Аня или нет, но солнце все-таки взошло. Девушка сидела под орехом и глядела в одну точку – на хлипкую калитку виноградника, поросшую уже высохшим, мертвым плющом. Выглядело все так, будто никто ее не открывал. Будто никто не приходил.
Когда Аня в детстве получала раскраски, она спешила. Пустые контуры казались застывшими, замороженными, она спешила их растопить, первым делом раскрашивала нос и глаза, чтобы зверушки могли дышать. Тогда тревога чуть отступала. Оставшаяся картинка раскрашивалась все равно быстро. Лишь когда рисунок был заполнен, Аня могла закрыть раскраску до следующего раза. Сейчас она слушала собственное сердце, которое не оправилось от ночи. Аня чувствовала себя тем самым контуром, который это утро медленно заполняет. Хотя бы можно дышать – что само по себе так много! Свет наполнял жизнью уснувший зимний сад, которому суждено цвести и плодоносить. Раз солнце взошло – значит, все не так плохо! Свет льется на сухой виноградник, на заросшую тропинку, по которой никто не ходил. Ведь если бы ходил – следы остались, а следов нет, значит, никто не ходил и калитки не открывал. Ни шагов, ни серпа из света, ни скрипа стволов сосен. Плитка рядом с домом до сих пор пахла хвоей. Поэтому Аня и сидела здесь, подальше от крыльца, пряталась от того запаха. Это не помогало, но она старалась просто не думать об этом.
Глава 2
Черный Пес
– Не представляю, что случилось, раз ты позвонила после убийства одного из наших.
В голосе ни жизни, ни всплесков, ни ряби. Строгое сухое желтоватое лицо, будто бы обклеенное старой выцветшей старой бумагой. Русые волосы казались стеклянными нитями, которые переняли цвет черепа. Серый пиджак, коричневые брюки, чистые ботинки.
– И не надо представлять, – ответила Рада. – Знаю, что воображение не твой конек.
– Ближе к делу. Кормилец будет в ярости, если узнает, что мы виделись.
– Мне давно плевать, что думает Кормилец. Мне нужен ваш врач.
– Исключено, – резко отрезал Ярослав.
Рада проглотила ярость. На руках выступили жилы – до того сильно сжаты кулаки. И в следующий миг глубокий выдох. В душном придорожном кафе повеяло сырым туманным лесом.
– И все равно, ты же не желаешь мне смерти, – прошептала Рада.
Ярослав обернулся к выходу.
– Заходила Лена. Из-за Частокола.
Глаза Рады вспыхнули, как у полярной совы при виде мыши.
– Что она сказала? – Когти птицы были наготове.
– А кто-то видел Кормильца?
Все за столом переглянулись. Рты, набитые кровью, чавкали, комки проскальзывали в глотки и тонули в ненасытном чреве под гнусное хлюпанье. Слюнявые пасти вытирались грязной скатертью, рукавами и липкими от сока и жира ладонями.
– А Матвея? – вновь раздался чей-то вопрос и снова потонул под жестяным куполом ангара.
Но кому какое дело, когда вокруг так много голодных ртов? Все вопросы потом. Хотя бы с голодными сравняться.
– Что-то не так, почему их нет?
Ответ пришел сам собой, буквально упал с неба. А если точнее – из открытой дыры в крыше. Что-то дымящееся один раз ударилось о стол и разорвалось. Оглушительный залп огня и едкого дыма заставил каждую тварь пасть ниц, пряча лицо и глаза. Громовой удар – стальные двери отворились настежь. От свежего воздуха огонь осатанел. В ослепительной жажде он пожирал кожу, рвался до плоти тварей. Пламя и багровый дым рыскали как спущенный, нет, сорвавшийся с цепи зверюга.
Слепые, обезумевшие от боли твари метались, бились друг о друга, ранили и ранились, когда на пороге появилась тень с длинным самодельным штыком. Красный дым клубами валил наружу, жаждая новой плоти. Лицо полностью закрывала маска, спасающая его самого от того ада, который он обрушил на чертов пир. Как скотину, он забивал одного за другим. Откуда-то из красно-дымного воздуха прилетел тесак, едва не расколов череп надвое. Озверев еще больше, напавший разделывался с тварями с жестокостью, что ужаснула бы ад. Тела падали, и их кожа продолжала шипеть, таять, стекать липким соком на грязный пол. Сквозь плоть всплывали островки костей, и те покрывались черными пятнами. Когда копье пронзило очередное сердце, хлынул яд, прожигая огнеупорный плащ.
Исчез копьеносец так же быстро, как и появился. Уже на утренней заре одинокий и хмурый призрак сидел под мостом и глядел на руку. След того ада, который он сеял, теперь въелся в кожу ожогом. Из черных жестких волос не выветрились гарь и едкий запах красного дыма, пряди слиплись от крови. Рана на голове хоть и ощущалась, но быстро затягивалась.
«Вот так-то, сукин сын, последние крохи багрянца-то и пожег…» – стиснув зубы, глухо смеялся Черный Пес.
Больше не будет ни огня, ни дыма, ни праведного очищения багрянцем – иссяк. Не так уж бездарно, а все-таки корил Пес, что до Кормильца так и не добрался, растратив все на мелочь. Всякая тварь заслужила расправы, всякую тварь жечь и гнать, сечь, рубить, измолотить, разорвать в клочья, вымарать любую память и вытравить последнюю каплю яда в крови людской. Пир стал последним для десятка тварей, авось и более – счета Черный Пес не вел. Да не, больше десятка. Отрадно… и все ж слаще, если бы с главарем уже расправиться. Там будто и помирать не страшно.
Бледное лицо поднялось к солнцу, медленно и лениво восходящему над черным лесом. Тяжелый вдох хрипло вышел из груди. На какое-то время нужна нора, где бы зализать раны.
Каждый раз странно вспоминать людское имя, когда уже стал тварью. В эту ночь была передышка, которая позволила по крайней мере притвориться человеком. Федор Басманов. Имя смотрело на него, на призрачную тень былого, и не хотело подходить ближе, как зверь, который подозрительно принюхивается. Голубые глаза выцвели, стали светло-серыми. А как иначе? Ветер выводит и обесцвечивает целые эпохи, конечно, душа и тело потеряют былую насыщенность. Хоть сколько-нибудь живой взгляд сразу бы увидел отпечаток потерь, перемен, скорби.
Лежа в палате, он не включал свет, не расшторивал окна. День тянулся бесполезно и нудно. Федор смотрел в потолок, думал, что в Москве творится. Представлял, как Кормилец кривит и без того уродливое лицо, кипятится, как старый чайник, от злости, сжимает кулаки, а все без толку. Тварей уже пожрал огонь, а яства размазаны по полу, смешались с останками пирующих. Отголосок пламени все посвистывает в воздухе, бесит старого черта до пены у рта.
А может, Кормилец попросту пожал плечами – сам-то ублюдок не явился на пир, а значит, что-то прознал. Гадство! Но даже такое упущение не омрачало мыслей Черного Пса. Он явился в сердце сатаны и предал аду столько тварей, сколько смог. Дух бы перевести – и вновь за дело. И так до скончания времен. Авось там уж забрезжит последний рассвет, за которым не суждено будет взойти ни солнцу, ни месяцу. Может, рассвет уже отгорел свое, пока все ученики спали. Почему-то от этой мысли становилось легче. Разум так и нашептывал что-то доброе, бодрое, а из глубины сердца все еще доносилось отчаяние, которое будет пить кровь до конца жизни.
Сколько бы это ни продолжалось, глаза сами собой сомкнулись. Уставший от яда и огня разум стал легкой мишенью для сна о далеком прошлом.
– Уедет батюшка, и что ж? Скокма ждать?
Жеребенок фыркнул, наклонил голову и продолжил щипать травку. Улыбнулся мальчонка да погладил лошадку молодую по шее.
– Вот и я не знаю, Данка, вот и я… – бормотал он, поглаживая вороную гриву.
Ночь была тихой, отрадной. Небосвод нынче разукрасился редким бисером звезд. Глядел на них Федя, глядел, а в груди так и металось. Нечаянно лошадь толкнула его не глядя.
– Права ты, права, – решился Басманов.
Преисполнившись твердой решимости, Федор поднялся к отцу наверх. В темном углу пред образами сидел Басман-отец. Татарские черные глаза понуро да грозно горели думами, кустистые брови сошлись на переносице. Тут-то Федор и забоялся порог переступать. Отец шевельнулся, поднял взгляд на сына. Пути назад уж не было. Пересилив и страх, и холод, и дрожь, мальчишка поклонился отцу да подошел ближе.
– Чего не спишь, Федя? – спросил отец.
– С того дня, как Черных опальные стали, не спится. Все об Игорюше душа болит. Тебе ль, батюшка, не знать, что росли мы как братья? Мы ж с ним вскормленные одною мамкой.
Токмо о проклятых Черных вспомнилось, так нахмурился Басман-отец пуще прежнего. Тут-то со страху Федор язык и прикусил.
– И что же? – спросил отец, выждав.
Федор дышал глубоко, ровно.
«Ну же, трусливый грязный заяц!» – корил себя мальчишка, не в силах молвить ни слова под суровым взглядом отца.
– Пришел за Игоря просить? Чтобы я пред государем вымолил? – спросил Басманов-отец.
Тут же выдох облегчения сорвался с уст Федора. Закивал часто-часто, да недолго радоваться. Как-то Басман-отец недобро, хмуро ухмыльнулся в густую бороду.
– Это ж оттого, что мы с царем во свойстве? Оттого, что я во первом круге при государе? – заговорил он. – А знаешь что, Федюш. Вот гляжу на тебя – эх и славный же ты молодец-то вымахал! Вот что. Поехали со мной под Рязань?
Пробрало до мурашек. Федор стоит ни жив ни мертв.
– А что такого? – спросил отец. – Шашку держать навострился – рындою во дворце ты уж служил, и служил славно. Озорник, да озорничай, покуда детина беззаботная. От на службе будет не до смеху. Не скрою, тяжко будет, тем паче поначалу, да ты парень смышленый у меня, быстро уму-разуму научаешься. Вона, Степка доложил, что наездник ты лихой да ловкий не по годам. Поди, со всем управишься, что накажут. Поехали со мною. Вот выслужишься – сам пред государем будешь просить за брата своего по духу.
Мысль о царе дыхнула лютым холодом, аж все нутро пробрало. Вспомнил юнец, как еще на службе рындою завидел мрачного старца в пыльном рубище убогом. Все сторонились да кланялись. Научен был Федор: при дворе царском все с ног на голову и ничему не верь на слово. И ежели видишь уродца, так ты поклонись да похвали его красно личико, и чем уродливее харя, тем пуще восхищаться должно. Сама царица тогда вырядилась в мужской кафтан и такими речами поучала молодого рынду:
– Гляди на рубище как на парчу, а на парчу – как на рубище.
Вот и порешил Федор, что нищий – один из многих скоморохов. Вот и ждал, как к пиру явится государь. Идет время, а царя не видно. И вот убогий и грязный оборванец с острой красно-рыжей бородой садится за стол. Федор, неся службу, хотел согнать, да видит: все на пиру пересмеиваются, в том числе и отец. Стало быть, пущай сидит себе. Со скуки и решил Басманов обратиться к убогому:
– Отчего же, великий царь всея Руси, – с насмешкой резвой спрашивал Федор, – ты в лохмотья рядишься?
– Так отчего же не рядиться? – ответил государь.
– Ну вот же, грязь же!
Ох и вытянулись же тогда лица боярские! Пуще всех Басман-отец взволновался.
– Царе, уж не…
Но царь велел жестом смолкнуть. Вот юный Басманов и понял, что к чему. Выступил холодный пот.
– Так дороги, откуда замараться-то, – мои. И лошади, что копытами пыль подняли, – мои. И люд, что ходит да ездит по земле сей, – мой.
Тогда Басманов посмеялся от души, не ведая всей силы сих слов.
Помнит Федор первую казнь. Лошадьми разорвали несчастного за ересь какую-то. Уж вину-то забыл Федор, да не забыл, что земля была липкая от крови. Руки не дрожали, сердце и душа одно и твердили: «Словом и делом!» Да глаза отчего-то малодушно рыскали. Так и встретился взором с государем.
– Оттого это земля и моя, – молвил царь Иоанн.
Загулял тогда пир честной, и столько меду выпито, что никто и не припомнил, кроме Федора. Все с опаской поглядывал, когда государь с советниками обменивался знаками али перешептывался. Все боялся, как бы в сей самый миг на него самого не обрушился царский гнев.
Видел юный Басманов, как отец евонный с государем через рукав пьют, разнузданные песенки слушают от уродцев-калик, а иной раз присвистнут да подпоют. И веселился царь, и смеялся от всей души, светло и отрадно. А всяко вот едва-едва от чаши отстранится, так что-то в очах черных сверкнет. Зимняя гроза. И вновь добр да беспечен государь. Да ежели приглядеться, чаша царская не пустела. Долго пир гулял, а царь не сделал ни глотка: подносил к губам, но не вкушал.
Не стал тогда Басманов об том никому говорить, а вот как с отцом толковал, все разом и припомнилось.
– С тобою ехать? Прям завтра? – точно сквозь сон бормотал Федя.
Вздохнул воевода да сам призадумался. Смутная тревога дрогнула в сердце отцовском. Застучали пальцы тяжелые по столу, заметалось сердце отцовское.
– Вот что, Федя. Коли просишь: «Тятя, тятя!» – так знай: как от дитя малого отмахнутся от тебя. И уж буду с тобой не как с сыном, а как с равным. Нету боле веры князьям Черных. И вступаться за них – дело гиблое. Служил я при батюшке евонном, великом князе Василии Иваныче… Ох и много воды утекло… Рос Иоанн Васильевич у меня на глазах. Это нынче великий Грозный царь, а мне-то ведомо: и тревог, и горя, и боли испил сполна владыка, еще будучи отроком. Сделался жестокосердным, гневливым драконом и в зверствах своих безумных топит боль и тоску по всем потерям своим. Авось по страданиям своим вымолит прощение у Господа за пролитую кровь. За душу Иоаннову молюсь. Несчастен владыка и тяжко его бремя. Не виню, не проклинаю. И все же не забыть мне того взгляду, с каким Иоанн отдал приказ о расправе над Черных. Ежели очи закрою, все предо мною как наяву. Чуйка верная, ни разу не подвела. После приказа, после взгляда я знал: Черных надо изжить. Что-то государь о них знает, что нам, простым смертным, неведомо.
От одного рассказа отцовского Феде стало не по себе, аж обернулся он: не глядит ли кто из темного угла? Ох и пожалел же, что дверь настежь оставил открытою. Чрез нее будто и лился мрак лукавый, шептал проклятые молитвы.
– Я еду, – молвил Федор, и твердость его юного голоса поразила отца.
– Вот что… – Басман-отец решительно опустил руку на стол. – Так-то все одна тебе дорога: придешь на службу, познаешь дело ратное, прольешь много крови – и своей, и чужой. А иначе-то как? Токмо кровью, сынок, границы и чертятся. Вот сидел, молился пред отбытием. И думал, что ведь придет день, и ты со мною отправишься. Быть может, я уж старею и проморгал, а день-то и минул? Ежели ты готов духом, поехали. Но езжай не ради меня али кого-то. Жизнью рисковать будешь своею, бремя твое. То же и с Игорем. Я просить ни за Игоря, ни за кого из Черных не стану.
– Мы с Игорем всем делились, что горело на уме да на сердце! – пылко воскликнул Федор.
– Вот чтобы ни в полку, ни при дворе никто не слышал, как ты знаешься с опальными, – наказал отец.
На том благословил сына, а там уже и заря наступила чистая, бодрая.
Федор спать уж и не ложился. Простоял на коленях пред образами. Не молился. Мятежная душа кричала о тишине, будто бы предсказала, как оглушительно скоро взревет весь мир.
Как солнце показалось вдалеке, вышел Федор во двор – а там уж люд ратный. Притаился он за крыльцом, да решил не показываться без отца. Мало ли, вновь что ляпнет, да еще и по шее отхватит.
«Трус», – с ненавистью думал про себя Басманов.
Сборы шли вовсю. Отец уже был на ногах, стоял у конюшни, о чем-то договаривался, да не слышно ни черта. Заместо того прислушался Федя к ратным, что поближе были.
– А дохляк этот нам за коей надобностью-то? – басил один из голосов.
– Видать, Алешка наплодил ублюдков, а об законном спохватился уж ближе к седине. Тут уж не выбирать – какой уродился, глист бледный, такой пущай и поезжает.
Оскалился Басманов. Гордость его больно щадили. И пущай не так уж много лжи таилось в ядовитых пересудах, а все ж в тот миг поклялся себе Федор испепелить в себе трусливую слабость – и будет он, безбородый еще, приказывать этим мордам псоватым.
– Эй.
Тяжелая рука рухнула на плечо, мигом выбив из ступора. Мутный, точно вырванный ото сна взор заметался по конюшне. Данка фыркнула, тряхнула гривой, да не была ничуть вспугнута. И Федор, как пришел в себя, признал отца, приветственно кивнул, потирая глаза.
– Чего ж ты? – спросил Алексей.
– Славно, славно. Разойдусь, – кивал Федор.
Нахмурился Басман-отец. Чуяло сердце неладное. Федор заглянул за плечо отцу. Отряд опричников стоял уж наготове, лошади били копытами. Покуда Басман-отец главенствует над сворой проклятой, а посему ждут, как приказ отдаст отбывать. Да неспокойно на сердце Алексея со вчерашних гуляний кровавых.
– С казни все не отошел? – спросил Басман-отец.
Казнь – не то слово. Топором башку – раз! – вот и казнь. Оттого и думал Басман-отец: будто бы Федя уже бошек не рубил? Стало быть, пора бы и за это браться. А то кровавое пиршество, безбожное, отвратное. Тянулось время как жилы, и не видно конца и края. Кожу не срывали – после кипятка та сама сходила. Неведомо, что пылало жарче: угли, с шипением лижущие плоть, али черные очи безумца на троне, ряженого в рубище, с крестом на шее и такой властью в руках, что каждый смертный страшится собачьего вою. Сперва страшился Басман, кабы сын его, белолицый, безбородый, не струсил, не предал бы клятвы, не навлек гнева царского.
– Поди, силенок у щенка-то нет, не сдюжит! – шептались по коридорам, конюшням под звон оружия пред тем, как ехать на дело али по возвращении.
Ежели те мысли обличили речью, морды языкастых тварей уже собирали бы по шматочкам, перекошенные, с выбитыми зубами. Свора – тварь брехливая, злобная, да пугливая. Оттого вслух и не решались про сынка Басманского ничего ляпнуть: токмо эдак, взглядом али смешком, намеком, полузнаком.
Накануне казнили чернокнижника несчастного, все спозаранок приготовили. В тот-то миг и сделалось Алексей Данилычу не по себе, как сына родного увидел, охваченного духом драконовым. Черты исказились до того, что отец родной остолбенел, не мог взгляду отвести.
– А говорили, бледный глист… – хрипло прошипел царь.
Больше всего боялся Басман-отец, что сей дух так и не покинет сына. После казни во дворце гуляли пир, и весел был Федор, и буен, как гроза майской ночью, и пел не своим голосом, горланил птицей неземной. Как пробегал юнец безумный, схватил Басман-отец за руку. Федор и не глянул, рванул с такой силой, что немудрено и руку поломать. В тот-то миг мороз и сковал сердце Алексея.
«Какой бы дух ни овладел им, плевать на тело. Это износит – новое найдет», – с ужасом разумел Алексей.
Ушел с пиру еще до темноты, чего давно уж не бывало. Поехал в церковь. Как у ворот заметили Алексей Данилыча, видного, сурового, так убогие попрошайки тотчас же в стороны разбежались, позабивались в щели, а не щели – под землю зарылись, пусть бы земля и промерзла, окаменела. Так-то напомнилось Басману-отцу, как страшатся на Руси пасти волчьей, своры черной.
Снял шапку, перекрестился, зашел в церковь. Долгое время на ум не шли слова молитвы. Меха пропахли кровью, гарью и медом. Всюду дух из царских палат следовал по пятам. Будто бы в обители Господней лишь резче стал голос ангела. Все эти годы скорбно хранитель взирал на беззаконье, и всякое слово трескалось на морозе как хрупкое стекло али таяло от жары. Лишь под сводами церкви ангел подал голос, твердя: «Вспомни святые слова». Отмахнулся Басман и воздал молитву как сумел.
Отче наш, Царь Небесный! Ты же, Владыко, отправил Сына на землю, чтобы искупить грехи. Содрогаюсь, недостойный, при мысли о сем. Неужто не устрашился участи уготованной? Во Спасителе сбылось и божественное, и людское, и дух, и плоть. Отче, как же позволил? А если бы людская часть оказалась оскверненной? Ты бы дал Ему продолжить идти по неверному пути? О, Всевышний и Всесильный Владыка Небес! Вопрошаю я, скудоумный, червь навозный! Не устрашился ты, Владыка Всеблагой! Со Спасителем вечно пребудет Светлый Дух! Как же ему сойти с пути уготованного? Ведь Твоя благодать вечно пребывает в сердце. А мне же, мне, жалкому басалаю, мне, нечестивцу, грешнику, пьянице, развратнику и разбойнику? Мне-то как быть? Как поверить, как не страшиться участи, уготованной сыну моему? По грехам отцов воздается сынам, повелось испокон и будет, покуда солнце встает! С меня уж спросишь! Чай, не так уж долго – вон, седой уже! А Федька? Ему ж как быть-то здесь? Может, время дурное? Быть может, повременить надобно, придержать мальчонку? Напьется еще крови, надышится гарью. Быть может, годок-два… и все, и все, вот и будет время! Да разве есть время, чтобы спускаться в ад? Видать, есть! Потерян я, Отче, потерян! Не сыскать пути обратного, ежели и есть дорога эта… Да и не об том прошу. Неча мне возвращаться – неча. Прошу об одном, Господи. Не прошу отвернуться от пролитой мною крови. Ведомо и тебе и мне: покуда на земле я, покуда связан клятвою с Иоанном Несчастным, Безумным, прольется еще немало. Взымай с меня как решит суд Твой праведный. Но не взымай с Феди за мои грехи. Аминь.
Воротился Алексей, взошел в покои и уснул. Сей ночью послан был недолгий, да крепкий сон. Все дурное отступило. Как поутру воевода открыл глаза да уставился в потолок. Ничего не смущало ум. Тишь да покой. Как озеро на безветрии. Вода холодная, не заходит никто, даже самая бойкая детвора. И лошади отчего-то не идут воду пить. Ну и пусть. Еще у скотины королобой выведывать, где вода вкуснее. Не пьет – и ладно, видать, нету жажды. Ничего, нынче погоним, там и посмотрим. Уж не ждет – с утра на дело ехать надобно.
Как спустился во двор, так стал Басман-отец сына выискивать. Стоит Федор бледной тенью в конюшне да треплет лошадь по шее. Вот и подошел отец разбудить молодца своего да поглядеть, не покинул ли дух безумный. Глядит Алексей в глаза – померкли.
– С казни все не отошел? – спросил Басман-отец.
Федор скрестил руки, вскинул голову, зубы оскалил пуще зверя, залился смехом звонче птицы.
– Вот же потеха была! – лучезарно воскликнул Басманов.
Пробил былой холод.
«Ни черта… все там, все там сидит, упырь…» – сплюнул наземь Басман.
– Дурак ты! – с глухой усмешкой молвил Алексей да толкнул сына в грудь. – Давай-давай, дело уж не ждет.
– Что нынче-то за дело? – спросил Федор.
В голосе проснулась былая резвость.
– Грабастик. Пустяк, – пожал плечами Алексей. – Живым али мертвым брать – все равно. Главное – краденое воротить али сыскать, куда сбыл.
– Вот тебе на… – присвистнул Федор. – Отчего ж какого-то басалая и дружков евонных без гроша вона как, всей сворою, а казнокрад – так пущай, хоть на месте прибить?
– Ну ты поди еще прибей! – хмыкнул Алексей. – А так подь сюды, покуда всякий сброд не подслушивает. Пущай князек недалекий монетку заграбастил, хмыстень. Так и пущай. Жаль, конечно, жалко алчного полудурка. Отделаем на месте, чего уж… да покусился на золото царское. А его-то уж у государя, э-хех! А уж еретики чертовы покусились на что, сам-то подумай? Поди-ка ближе, Федя. Толки ходят, что твари по земле нашей рыщут, что сильнее да ловчее всякого человека, что нынче проклятая земля проклятому князю принадлежит, а вовсе не доброму владыке.
Кивнул Федор, внимая глухому полушепоту отца.
– Ежели тебе средь людей нету равных, – продолжал Алексей, – бояться будешь не за золото. А за то, что Бог пошлет кого-то пострашнее да поклыкастее.
– Государь боится, яко Ирод, что придет Господин над евонным людом? – спросил Федор.
– Так что об сем ни слова, – наказал Алексей.
Басмановы вышли из конюшни, направлялись к прочему отряду. Стегнули лошадей, вырвались из-за ворот.
Федор оставался в седле.
– Как знаешь… – сплюнул Степан, сидя на поваленном дереве. – Все равно, покуда Данилыч со своими не догромит, неча делать. Велено сторожить так, для виду.
– Неужто никто не пытался сбежать? – спросил Федор.
– Пытаться-то пытались… дык это летом. А нынче мороз какой, кудой бежать-то? В лес, к зверям? Ну валяй, валяй! Это ж каким дуркой надобно уродиться, чтобы… Вот черт!
Федор погнал лошадь, прежде чем смекнул, что к чему. Как нарочно, на сих словах князь прорвался из окружения. Упрямая лошадь евонная не боялась броситься в самую чащу. Беглец гнал и гнал – токмо бы скрыться. Федор гнался следом. Ох с Данкою и наглотались морозного воздуха. Каждый шаг – в сугроб, и неведомо, не лед ли, не камень али коряга. Вот так, вслепую, и забирались оба всадника в глушь лесную. Уже не слышно опричников – струсили али сами, али кони ихнии.
Так забирались все глубже в лес, и вот удача наконец отвернулась от беглеца. Рыхлый снег обвалился под тяжелыми копытами. Думал князь, от края оврага довольно отступил, а нет! Оступилась лошадь, рухнула, покатилась вниз кубарем. Тут-то Басманов и погнал Данку пуще прежнего – только бы успеть! Видать, леший дремучий решил уравнять шансы и, как нарочно, князя оградил упавшим деревом от опричника. Не перепрыгнуть Данке, хоть и молодая, и резвая, да уже пена у рта от устали. Ежели объезжать и дерево, и валуны и ежели там под снегом чего доброго не кроется – все равно что упустить князя. Вот конь копытами воздух бьет, вот-вот подымется на ноги.
– Умница, Данка! – хлопнул Федор, спешившись.
Под деревом был просвет разве что для звереныша какого. Разрыл Басманов колючий снег руками и оказался прямо перед лошадью, которая уж успела подняться.
– Прочь, убью! – прогремел осипшим от мороза и погони голосом князь.
Федор взялся за шашку на поясе. Злостно цокнул князь, поднял лошадь на дыбы. Копыта били морозный воздух. Данка суетливо металась, не в силах преодолеть преграду. Федор уперся спиной о дерево – отступать некуда. Зверел вражеский конь – дышал злобно.
– Каково ж по ту сторону, пред зверем-то оказаться? – воскликнул князь.
Вспышка – и что-то пробудилось, хлынуло в жилы, разгорячило, растопило, зарычало, заметалось, забегало по кругу. Будто кости треснули и из раскола ударила сила, точно горячий пар. Слепящая ярость затмила все, и Федор бросился прямо под ноги лошади и в один удар вспорол живот. Разом раздалось два пронзительных крика, и ни один не донесся до слуха Басманова. Первый вскрик издала лошадь, второй вырвался из его собственного горла.
«Уже не встанет…» – пронеслось в голове Басманова.
Снег радостными цепочками передавали капельки горячей крови. Пар клубами валил из раны. Невольно мутный взор опричника обратился на голос любимицы Данки.
– Я здесь, здесь… – Едва Федор наклонился к лазу, так голова пошла кругом.
Его стошнило на снег. Руки ухватились за ветви поваленного дерева, по ногам прокатилась судорога. Косой случайный взгляд на князя, на его лошадь усугубили дело. Тошнота вернулась, скрутила нутро. Глаза заливало. Федор коснулся лба.
– Ох ты ж… – Последняя вспышка, и разум стал угасать.
Точно слепец, Федор касался пальцами рассеченного лба. Не пришло боли от удара, да и был ли? Копытом княжеской лошади? Горячая кровь все выступала, так что уже одним глазом не узреть ни черта. Все мечется за преградою Данка верная.
– Не подымайся, а то и тебя вспорют… – бормотал Федор, крепко жмурясь.
Слышится али и впрямь братия подоспела? Мутные пятна, черные пятна, точно проталины.
«Далеко ж до весны…» – подумал Федор.
Сон уж нашептал, что снег мягок, да не так уж и холоден. Ничего не отсыреет, ничего не сделается, приляг, покуда боль не пройдет. А как же пройдет, окаянная, коли и удара-то не было? Так тем и лучше, что удара не было! А кровь глаза слепит – да и что? Все равно в сон клонит, пущай и слепит. Приляг, приляг – снег не так уж и холоден!
– Кобыла твоя вопила как резаная, так и нашли, – рассказывали Басманову.
Федор слушал вполуха. Клонило в сон, знобило.
– Князька-то взяли? – спросил Басманов.
– Взяли. Отоспись.
Тревожный сон – рваный, прерывистый. Перевязь на лбу оказалась слишком тугой. Басманов сорвал ее, бросил на пол. Вновь пошла кровь. Спать уже не хотелось. За окном занимался новый день, и Басманов воротил, прятал лицо в тени.
«Неча тебе глядеть на свет!» – твердило что-то в лихорадочно бьющемся сердце.
Федор грохнулся на пол, земля уходила из-под ног. Он упал в земном поклоне, прижавшись лбом к холодному камню. Плеча коснулась заря, над ухом раздалось злостное шиканье. Отполз Федор в угол темный, вжался спиной в камень, голову запрокинул, остолбенел. Наверху, на потолке, стояли и ложе, и сундуки, и шкуры медвежьи. Зажмурившись, Федор рухнул на пол, хотя и думал, что и без того все это время на полу-то и сидел. Боль пронзила все тело, окатила ледяным огнем. Басманов ждал, и буря стихла. Медленно поднял голову, убирая волосы с лица, осторожно, мал-помалу встал на ноги. Холодный ветерок шептал под дверью, и Басманов боялся, кабы все сызнова вверх дном не стало.
Взял зеркало серебряное с сундука – и глядит на лоб свой, а там уж совсем худо. Все в крови, синяк разросся, и даже ныне, в тусклом свете еще сонного солнца, ясно: скверно, скверно. Стиснув зубы, Федор коснулся запекшейся полосы, тут же шикнул, отдернул руку.
– Ну и черт с ним… – прошипел Федор, стиснув кулаки.
Всю силу воли призвал Басманов, чтобы трезвый ум сохранить, унять звон, шум, круговерть чертову. Оттого и не сразу поверил, будто бы стук и впрямь раздался в покоях евонных, а не в разбитой черепушке.
– Федор Алексеич? – раздался голос.
Басманов подошел, отворил дверь, и даже когда воочию узрел пред собой человека из плоти и крови, не унимал безумия сердца своего.
– Федор Алексеич? – Холоп мял шапку и отступил назад.
– Чего? – Басманов выдохнул, смягчился.
Раз явился Микитка – дело славно. Частенько благую весть нес али подарок, бывало, из рук самого государя.
– Великий князь Московский и царь всея Руси требует, – с поклоном доложил Микитка.
Басманов с кивком отпустил холопа, затворил дверь да сполз на пол.
«На ногах едва стою, тошнит, воротит – и от те на, перед царем ответ держать…»
Посидел-посидел да решил: чему быть, того не миновать. Умыл кровь, напился студеной воды, улеглось. Переменил наряд и поспешил к государю.
Рынды расступились, и Басманов вошел в палату светлую. Играла, дурачилась заря молодая, бегала по злату, по сводам расписным. Коли притомилась, отсиживалась в прохладной тени да вновь плясала по скатертям, по трону резному. На посохе дрожало солнце, вилось ужом. Камни-самоцветы на перстнях царских заискрились, когда владыка подал руку. Басманов припал устами к руке государевой, не смел взору поднимать.
«В камнях больше жизни, нежели в руке самой, будто бы та и не из плоти вовсе, бескровная», – подумалось Федору.
Тут же Басманов ужаснулся помыслу. Рука государева сжалась, короткий рывок, точно пред ударом. И хоть за тем ничего и не последовало, Федор отступил назад. Ночная тошнота вновь проснулась в груди, поднялась к горлу. Заулыбался царь.
– А мне было напели, что Басманов сын уже совсем рехнулся.
– Видать, про всех при дворе одно и то же брешут, – ответил Федор.
Владыка постучал перстами по посоху.
– О ком же еще брешут? – вопрошал владыка.
Басманов зажмурился, взор потупил, защелкал да рукой в воздухе какую ловкую мошку ловит.
– Да про этого… как же звать-то… Эх, запамятовал! Да этот, как его! Не низок, не высок, седой как лунь, да мой ровесник, сам-то немой, а что ляпнет – хоть стой, хоть падай! А руки не подаст – сам правша, да руки обе левые. Вот про него и говорят, что совсем уж сдурел. И чего при дворе такого держать?
Вновь улыбнулся царь.
– И не таких уродов держу, – ответил царь. – А это он, седой-немой, под буйну лошадь полез, та ему копытом чело расшибла? Чуть не убился вот так, ни за что. Про него ль сказывают?
Убрал волосы смоляные с чела да с гордостью явил государю рану. Долго смотрел государь. Тень легла на лик владыки. Кивнул, мол, полно.
– Добрую службу несешь, Басманов сын. Не посрамил отца. Вот, право, как увидал тебя впервой, худого да бледного, и впрямь призадумался: на кой черт при дворе тощий заяц?
– Чтобы под лошадь вражескую лезть, пока богатырская братия сквозь сугробы спешит на подмогу, – ответил Федор.
Засмеялся владыка. Лишь в тот миг Басманов выдохнул свободно: все славно сделалось, не погубила немощь, слабость.
«Добро, добро…»
– Проси же за службу свою честную, – расщедрился царь.
– Князь Игорь из рода Черных, добрый государь. – Федор упал в земной поклон.
Долго не подымал головы Басманов. Нутром чуял морозный гнев, сковавший лик царский. Вздрогнул Федор, услышав удар об пол подле себя. То государь поднялся с трона и мрачной тенью прошелся по залу к высокому окну. Решетчатая тень упала на лик, на одеяние. Парча золотая вдыхала каждый кусочек небесного светила, но стоило грозной фигуре отвернуться – все меркло. Федор остался на коленях у трона.
– Открылось мне видение, – молвил Иоанн, неведомо к кому обращался.
То ли гулкое эхо, то ли воротившаяся, как назло, слабость и муть в рассудке – что-то извратило голос царский, и звучал он едва ли по-человечески. Если бы истукан, высеченный из камня, молвил слово, было бы больше в нем крови и жизни, нежели в царе всея Руси.
– Заходит князь Черных, щурится с мороза, рука об руку. Шубу отряхнул – слева, справа дважды. Трясет и трясет, а снег не тает… и шныряют москолуды, трескочут, грохочут, ржут, а воздух до того душный, до того жадный, что пожрал все, до последнего писка. И стряхивает снег неталый, стряхивает, а из-под длани выплывает морда, а затем и сам черт. И прирос к Черных, горб уродский, и пьет кровь евонную, и ест все, чем князь себя потчует…
Царь Иоанн прервал бормотание так же резко, как и начал. Басманов застыл, боялся шевельнуться. Глаза невольно косились на порог. Будто бы и впрямь лежит неталый снег.
– Неча бисер метать, – хрипло усмехнулся Иоанн.
Дыхание не успело вновь сделаться ладным. Федор осенил себя крестным знамением.
– Я верю, владыка, – прошептал Басманов тихо, но пламенно, как на исповеди.
– Ежели так, не смей просить за сына еретика, – пресек государь, возвращаясь на трон.
– Сын несет бремя отца? – вопрошал Федор.
– Ты несешь бремя своего отца, Басманов? Я ли не несу бремени отцов своих? Пущай же Игорь Черных и юн, но всяко отец его на плече черта выхаживал. Нету мне никакой отрады ни в гибели князя, ни в изгнании сына евонного. Справедливость принадлежит тем, кто вершит ее.
– А милость – тем, кто явит ее ближнему. – Федор вцепился в парчу золотую и тут же руку отдернул.
Злато ли пламенем горело али заря лучезарная, да длань ошпарило. Стиснул кулак Басманов да прошипел сквозь боль:
– С бременем судить неправедных, великий владыка, на твоих плечах и власть, и сила, и свобода миловать, светлый владыка!
– Прочь, Басманов, – сквозь злость и горечь велел государь.
Федор вновь вцепился в одеяние царское. Жжение вновь пронзило длань. Басманов припал губами к золотой парче, упал в земном поклоне. Вся боль, поднявшаяся в сердце, пламенно взывала, как взывают припадая к мощам чудотворца. Последний раз Федор вознес молитву в душе своей, не смея вымолвить вслух. Как можно бросать слова священной молитвы в тот же воздух, которым дышит черт? В тот же воздух, в котором не тает снег?
Вознеся последний раз молитву за ближнего, Федор вышел вон, уповая на чудо. Голова раскалывалась.
Сон неохотно подступал, да, как назло, под дверью занялась возня, а затем и брань, кому-то смачно дали по лбу. Федор приподнялся, а голова будто на подушке и осталась али куда дальше закатилась – иначе отчего все потемнело? Как прояснилось, на пороге отец стоял. Из-за свирепого воеводы выглядывал холоп, рожу потирая от оплеухи.
«Не к добру…»
– Ты просил за Черных?! – Басман-отец захлопнул дверь.
Грохот стряхнул сон, который и так не шел, так что даже не жалко.
– Владыка сам молвил, чтобы я просил… – не успел договорить Федор, как отец выругался.
Пот холодный выступил, а голову разбитую, напротив, в жар бросило.
– Коли государь велит: «Проси!» – так лоб расшибай в земном поклоне, – поучал Басман-отец, – да клянись, остолоп несчастный, что ничего тебе не надобно! «Твоею добротою, светлый владыка!» И в пол!
Вскинул Алексей руки к небу, а на землю вновь сплюнул ругань, брань, да такую едкую, что будь подле молоко – скисло, пасись скотина – подохла.
– Рассудил царь: виновны, стало быть, так и есть! И неча гадать, в чем грех да вина. Не твоего ума, и Бога благодари в утренней и вечерней молитве, что не тебе судить! Приговор царский… эдак тебя кобыла-то лихо! Совсем башка твоя бестолковая надоела, вот и ищешь, как расправиться с нею, чтобы на плечи не давила?
Голос ослаб, дрогнул. Федор все слышал, и даже боле. Выдал себя Басман-отец и страх свой выдал. Ну и неча уж юлить. Перевел дух Алексей да заглянул сыну в глаза и молвил наказ главный:
– Не вздумай, не вздумай, чтобы я тебя хоронил.
И отец, и сын вовсю ощутили силу сих слов.
– Не для того мы с женою вымаливали тебя, наследника, чтобы язык твой бескостный навлек беду! – продолжал Алексей. – Ежели помрешь раньше моего, считай, и меня погубил. Не страшусь смерти, покуда знаю, что бьется сердце твое и кровь наша, Басманова, не остыла. Токмо об том и прошу, Федь. Не помирай раньше моего.
Федор кивнул, ударил в грудь:
– Клянусь, отче.
Обессилел Басман-отец, и плечи могучие, богатырские опустились.
– Как я предстал пред государем, так увидел, что вопрошает владыка не ради глумления, – молвил Федор. – В очах…
– Адашевы, царствие им небесное, тоже в очи догляделись, – прервал Алексей. – Не туда глядишь. Я токмо и остался от всего круга ближнего. А потому, что смотрю да прислушиваюсь где надобно.
– Неужто все так скверно, что я за Игоря просил? – каялся Федор, проводя рукой по лицу.
Горела кожа бледная, потом исходила. Алексей пожал плечами.
– Царь меня вызвал. Вот сам и суди: скверно ль?
Федор глаза как вытаращит. Отец так и глядит в упор.
– С чем же? – наконец решился спросить Федор.
Притих двор, затаился. А звезды озорные так и знай себе хохочут там, на небосводе, хороводы водят, заливаются. Жаль, что отсюдова не слыхать. Чистое небо, ясное, но такое далекое. Не ждал Басман-отец добрых вестей в столь поздний час. Оттого ли стоял, глядел себе на хороводы серебра в ночи.
В палате свету был лишь жалкий клочок свечи. Сидел государь во главе широкого стола, как на пиру шумном, да пустовали скамьи. Толстая свеча таяла, напоминая развалившееся жирное животное. Царь в черное облачился. Сидит, глаза застыли, точно черной смолой налитые.
Мгновение – и Алексей опустился бы в земном поклоне, но Иоанн жестом упредил, велел сесть по правую руку. Басман тотчас же подчинился.
– Федя за Игоря Черных просил, – молвил владыка.
Алексей промолчал. Неслышно, как ручища вздрогнули, кулаки сжалися.
– Неужто не сдох, сквернодей псоватый? – спросил Алексей.
– А это уж откудова знать? – молвил царь. – Свора-то опричная ни живого, ни мертвого сыскать не может. Чай, и не сдох.
Басман склонил главу.
– Тебе же наказано дело Черных. – Слова, вываливаясь во мрак, обрастали крылами и клювами.
Кружили стаей под самым потолком, хлопали, стращали, стрекотали.
– Ты упустил мальчишку, Басман. Нарочно ли? – Сверкнули когти.
Ударил Алексей в грудь с такой силою, что вся нечисть крылатая разом струсила, расползлась.
– Словом и делом, владыка, служил отцу твоему и тебе, владыка. Ежели и есть вина моя, так в том, что смягчилось сердце старое. Вина моя, сжалился над мальчишкой, как сжалились Небеса пред молитвами моими, когда послали мне сына. Многое переменилось, как милость Божия коснулась рода моего.
– Столь много переменилось, что Басман, гласивший: «Словом и делом!»… – сипло вдохнул государь.
Будь в его груди воздух, сорвался бы смешок, да ничего там не было, кроме камня и мокрого песка. Глаза смоляные шевельнулись, заходили в глубоких впадинах.
– …возгордился, одерзел, пес, кусающий руку, что кормит? Переменилось – и таперича приказа ослушался? – вопрошал Иоанн.
– Не ослушался, царе, нет! – отсек Алексей. – Изгнаны ли Черных с земли твоей, царе? Да, ибо слово государя – свято, яко воля Господня. Велено изгнать, не казнить – и изгнаны подонки прочь. Нету здесь ни ноги их, ни слуги, ни скота ихнего. Кто не сбежал, того…
Вновь сверкнули когти. Умолк Басман. Во мраке тени пьянят и плавят воздух. Сквозь эту брешь и разглядел Алексей лик минувших лет. Отпрыск четырнадцати лет – щуплый, пальцы длинные, да кривые – поломанные, черти как сросшиеся. На брови – корка черная. Очи распахнуты, а в них чернота. Шептались тогда что Шуйские, что Бельские: что зяблика изловить, и тот грознее будет! И сидит дитя на троне высоком, и шапка велика, и шуба не по плечу. Глядит Басман и ничего, кроме сироты, не видит. Есть бремя, к которому невозможно быть готовым. И всяко оно настигнет. Так и настигло Иоанна Васильевича царствование над всею Русью. Стало быть, так оно и должно, аминь.
И брешь срослась. В воздухе смешался мед и кровь, смех и вопли, звери с людьми, москолуды, уродцы кривые, освежеванные, девицы белотелые, брошенные на мороз, отрубленные носы, языки, губы, щеки, уши, и тут же скоморохи подбирали добро, чтобы на маски свои приделать. И гремят бубенцы на морозе, и валят клубы пара от плоти раскрытой, и лошади топчут и тащат, и стрекочут по темным углам погремушки. И ладаном окутаны одеяния, что черны от крови, и все разом кубарем мчится, и все разом померкло. Все пожрала смоляная чернота очей царских.
«Догляделись…» – подумал Алексей, отводя взгляд.
Молчали оба, да не как владыка со слугою, а как два друга старинных.
– Ты ведь и сам не желаешь мальчишке смерти, добрый милосердный владыка, – молвил Басман.
Иоанн бессильно усмехнулся.
– Вот что, моркотник. Знаю язык твой змеиный. Ты мне людским отвечай. Ежели велю казнить подонка Черных – казнишь? – вопрошал владыка.
– Казню, – твердо ответил Алексей. – И ведомо тебе. Оттого и приказал изгнать. Тебя страшит то зло, которое несет на себе отец евонный. Но в мальчишке-то вины нету.
Будто бы впервой за всю беседу Иоанн и впрямь вздохнул, ударило сердце охладевшее.
– Басман. Неча скрывать… Правду глаголешь. И неча тут поделать… Люблю тебя. И сына твоего. Выйдет толк. Стало быть, пущай всю тину пророют, разыщут Игоря. Пошли весть: ежели жив, пущай возвращается.
Все думал Басман, метался… и все же молвил:
– Неужто воротить хотите ко двору сына опального?
– Разве Спаситель не учил возвращать овцу блудную? И сам ты не вступался за него?
– Вступался я за сына своего. Что Федя с дуру за опальника пред вами на коленях молил, уж что ж! Всем ведомо, водились они по-свойски, по-братски. Понятное дело, отчего Федор просил за него, но ежели я что и смыслю, так то, что Игорь не будет добрым слугою. Неча ему возвращаться. Не заслужил мальчишка смерти, оттого и упустил я по воле твоей. Но и милости большей он не заслуживает.
– Ну это уж мне решать, Алеша, – посмеялся царь.
– Так… стало быть… – неуверенно молвил Федор, как отец умолк.
Хмуро глядел Алексей в пол, кивая.
– Игорь может воротиться? – спросил Федор.
– Может-то может… – сплюнул Басман-отец. – Да некуда ему возвращаться. Нету ни дома евонного, ни…
– Есть, – твердо произнес Федор.
Алексей провел рукой по лицу. В голове все хлопали крылатые твари сумрака, смеялись далекие звезды, пели белотелые девы и тут же рассыпались сахарным снегом, таяли, и по этой грязи неслись лошади, выдыхая клубами пар. И возносится пар к серому небу, а небо хмурится, мрачнеет, пока не превратится в смоль. И вот два чермных глаза дрожат от пламени свечи. И куда очи те глядят – одному только Богу известно. И как же средь этой круговерти отыскать, куда ступать, а где трясина? И ладно самому, тут еще ж выводок…
– Я просил, стало быть, ответ мне держать, – решительно молвил Федор, вернув отца из дум путаных.
– В том и беда, Федя, – сокрушенно вздохнул Алексей. – Ежели что пойдет не так, кому прикажут расправиться, да чтобы уж наверняка?
Вновь сверкнули когти.
– Духу хватит? – спросил Алексей.
Хмурый день стоял, угрюмый. Текла река да суденышко ворчало досками. Уж немного осталось: вот виднеется причал, да Новгород, богатый, расшитый и пряный, уже красуется. На палубе уж с самого утра сидели двое: князь молодой, Игорь Черных, да подручный его – карлик Михайло.
– Неужто дорвались до земли вольной? – молвил карлик, глядя на церквушки да терема.
– А разве не чуешь ветер вольный? – вопрошал князь.
Принюхался карлик, и перекосило морду. То и князь чуял – не то гарь, не то еще какая скверна над землей родной летает. И всяко то не омрачило сей светлый день. Четыре года в опале провел Игорь Черных в скитаниях на чужой земле. Жил как зверь дикий, а ежели и прибивался к дому людскому, так не мог глаз сомкнуть. Чуткий сон, а иному не бывать на чужбине. Все чудилось, что доберутся до него. И вот одной ночью так и сбылось. Сколько князь в тюрьме гнил – неведомо. Да и спроси он тюремщиков, те бы и ответили на здешнем наречии, ничего б и не разумел князь. Так и прозябал невесть сколько под землей.
Дурак – думал, что ниже уж никого и нет. Ох и вытаращился ж князь, уж забывший свет божий, как сыра земля разверзлась. Выросли бобы да стали тянуться, закругляться стручком. Так стали пальцами, и принялись землю рыть вокруг себя. Рыли-рыли, ломая ногти о камень, и выполз карлик, точно крот. Огляделся. Глядели они с князем друг на друга, что молвить-то – и не знали.
– Видать, маленько промахнулся второпях! – неловко хмыкнул карлик, почесывая затылок да вытряхая грязь и червей из волос.
– Что за черт? – шептал Игорь сквозь безумный смех.
– Михайло. А тебя, бишь, как звать?
Не ответил князь, ибо не хватало веры ни глазам, ни ушам, ни сердцу. А вот у Михайлы и с верой, и с силой все преславненько. Плюнул на руку да и протянул князю.
– Значит, вот что: я тебя вытащу, да ты меня своим слугою заберешь. Куда бы путь ни держал – туда и возьмешь уродца, вот увидишь, пригожусь!
Как сырые стены тюрьмы остались позади, прошел уж и день, и два. И не верил все князь Черных, что выбрались. Как-то сидели с Михайлой у костра в глуши лесной.
– Откуда ты вылез-то?
– Оттуда. – Коротышка кивнул на огонь.
Не спрашивал боле Игорь. Так и жили, одичало. Находили, где прибиться в разоренных домах да разбитых деревнях, в пещерах да норах. Сил Михайле хватало разрыть места для них обоих.
– Могилка! – радостно говорил карлик каждый раз, как засыпал, укрывшись мхом.
Уж токмо князь Черных свыкся с новой жизнью, как получил весточку. Смилостивился царь-батюшка Иоанн Васильевич, кончилась опала. Долго думал, и все в сердце перемешалось: отрадные годы юного отрочества, и запах липового меда на Спас, и рожь мятая, и снег за шиворот, когда разгоряченное тело в мехах. Запах воска, лепесточки робкие пред образами черноокими. Вспомнилось, как милостыню раздавали по царскому указу.
И точно удар – опала. Все исчезло, все людское. Спрятался за грязью и лохмотьями, так и спасся от гнева царского. Что с батюшкой да матушкой сталось – раньше спрашивать было боязно, а уж с годами и так все ясно сталось. Нет боле Черных, токмо он один – изгнанник средь гиблой топи. Покуда голову евонную не принесли к государю, там при дворе и чтили живым. А значит, охота все велась, да видать, не токмо от русских. Как отловили люди да на латинском говорят. Выдохнул Игорь – не понять ихней речи, а стало быть, им не понять евонной. Вот и прозябал в тюрьме, не ведая: этим уж чем не угодил? Али царский двор настолько расщедрился? Тогда бы передал царю русскому.
В ответ – молчание. Так и прозябал князь, покуда Михайлу не повстречал.
– Да всяко лучше, чем лишайник жрать, как олень! – вспылил Михайло.
– Как знать… – задумчиво да угрюмо протянул князь. – Сердце царское окаменело, оттого и в крови нету любви да жизни. Как присягал, то целовал живую, горячую руку. Нынче государь – что идол языческий, из камня высечен. Свой же народ режет. Сворой душегубов окружил себя, опричниками. Не по сердцу мне это.
– Так, княже, в чем беда-то? – Карлик почесался, как пес, трепля ухо и космы. – Тебя ж не на убой зовут, а как раз-таки резать!
– Да одно с другим всегда где-то рядом, – ответил князь.
Глядел Игорь угрюмо. Сырой костер шипел, исходил зловонным дымом.
– Неужто никто не ждет тебя там, на земле-то родной? – не унимался карлик, глодая косточки дурно прожаренного голубя.
– Ждет, – вздохнул Игорь. – Он-то и вымолил для меня путь-дорогу домой.
– Ну вот! – с набитым ртом завопил Михайло да поперхнулся.
Что-то в глотке забулькало, будто бы духу не испустило, а уж в пасти оказалось.
– Ну, княже, на себя-то глянь! – заржал карлик, что аж слюни полетели. – Продрог, озяб, исхудал, одичал! В город ходишь, токмо чтобы полузнаком обменяться ради весточки от дружков, и вот она, родимая! Я тебе так скажу. Я брюхо хоть корой набью да из лужи попью – вот и отрада! Не сгину. Вырою могилку, подремлю в ней, и бодренький! А на тебя, княже, уж без слез не взглянешь! Изведет тебя жизнь такая. Вот она-то куда быстрее погубит, и без всякого умыслу. Я бродяга без роду и племени, имел бы куда воротиться – воротился б тотчас же! На родной-то земле и подыхать отраднее, слаще!
– Не бывал ты в Москве, черт брехливый! – рявкнул Игорь. – И ежели слухи не врут, нынче столица красна от крови, черна от огня. И уж ты-то менее моего ратовать должен за Русь-матушку.
– Отчего ж я-то? – спросил Михайло.
Поглядел князь на карлика, уж будто урожденного нарочно на забаву, на потеху кровавую при дворе царском. Глядеть глядел, а ни слова не сказал – отмахнулся токмо да сплюнул наземь.
– Не по зубам тебе! – наконец молвил князь. – Считаешь себя прожорой? Вот кости сплевываешь! А Москва, проклятая, сожрет с костями!
На том карлик сунул большой палец в рот, откусил да плюнул в князя. Игорь вздрогнул, кинулся в сторону. Над шипением костра раздался гогот карличий.
– Поглядим: кто кому не по зубам! – смеялся Михайло.
Долго ли решался князь Черных, а все-таки прибыл в Новгород с жутким карликом. Палец, к слову, отрос. В дороге долгой глядя на звезды али в черну ночь, все думал князь да гадал, как же уродец надурил. Умело ж провел, и взаправду поверил князь! Думал-думал, да не пришло ничего на ум.
Сошли на берег князь и Михайло с ним.
– От сглазу, от сглазу! – налетела черноокая цыганка, всучив амулет.
– Пошла вон, дура! – залаял карлик.
– Нечистая сила нынче на Руси, нечистая! Порфирий Убогий кричит, а вы глухи!
Михайло так взъелся, как рявкнул на девку, что та бросилась прочь. Карлик закатал рукава да сплюнул наземь. Пока карлик чертыхался, князь Черных уловил, как толпа расступается, нет, бежит в страхе. Раздалось лошадиное ржание, мощные копыта били воздух. Спешился всадник в черном кафтане.
Карлик уж был готов бежать, да видит: князь не тронулся с места. Всадник меж тем уж подошел к ним, и отступил всякий люд, и сторонится и его, и вороной лошади. С седла скалится башка собачья, за поясом сабля. Не успел князь и слова молвить, как всадник раскрыл объятья.
– Живой, сукин сын! – сдавленно вырвалось из груди.
– Самому не шибко верится, Федька.
Отстранились да глядят друг на друга друзья давнишные. Вот уж минуло четыре года с ихней разлуки, и каждый видел перемену. Как Игорь в опалу попал, едва ему пятнадцать было. Суровость вскормила князя на чужой земле, вошла в жилы вместе с грязною талой водой, с лютым морозным воздухом, с чернотой безлунной ночи. Мрачные тени поселились под глазами князя. Поредели кудри каштановые, и нынче выглядел Игорь на двадцать пять, хоть и был годами моложе. Федор же разительно отличался от друга. Хоть и невысок ростом, да строен, славно сложен, белолицый малый. Восточные глаза горят живым лукавством, в них синеет лазурь вольного неба. Ежели князь Черных на облике своем запечатлел лишения и мытарства, то Федор вобрал в себя пресыщенность, до греховного алчную жизнь. В ушах блестели серьги, под черным кафтаном алел шелк, как сочная плоть.
– Что ж так долго, княже? – спросил Федор.
– Задержало буйно море, – молвил князь, светло хмыкнув под нос.
– Ох и много ж наверстать тебе надобно, Игорек! – И Федор бойким свистом подозвал лошадь.
Любимица вороная с боками лоснящимися подошла, отбивая копытами по мостовой, а с нею и жеребца для князя подвели. По коням, да поскакали, а уж прочий люд к усадьбе уж подтянется на клячах.
Уж на пороге терема загляделся князь Черных на резные украшения. Провел пальцами по рукотворному зверью, да и почудилось, будто бы те ему навстречу боднулись.
«Притомился, видать!» – думал Игорь, прижимая руку к сердцу.
Терем изнутри был еще пышнее, нежели снаружи. С каждой палатою все боле походило на сокровищницу. Покуда осматривался Игорь, Федор свистнул. На зов явился человек с кривою, крысиной мордой в черном кафтане. Басманов кивнул позади себя, на возню в сенях. Крысиная Морда пошел помогать с поклажею да слугами. Игорь глядел-глядел ему вслед да все ж спросил.
– А это ль не Степка? – спросил Черных.
– Он, родимый. Неужто помнишь? – подивился Басманов.
– Как же не помнить? Мальчишками учил нас в седле сидеть и премного чему, – молвил Игорь.
– Да… – протянул Федор.
В памяти так и ожило светлое да беззаботное отрочество ихнее, и запах скошенной травы, и конский храп в поле, кислый смородиновый сок, первая охота на грязного зайца худобокого, которого подбили, да не изловили.
– А вот же, нынче главенствую над ним и многими людьми при дворе, – произнес Басманов, поглядывая за Степкой.
– Батюшка твой, поди, гордится?
– А как ж не гордиться? – гордо приосанился Басманов. – Много ль видел при дворе да чтобы безбородый, а уж был в первом кругу да при совете? Да я с царем из одной чаши пью и смею молвить как есть, на духу! Да что ж я, придешь на пир, сам и поглядишь! А пока – за мною, за мною!
Так прошли друзья по коврам узорчатым да с бахромою ко столу. Накрыто все пышно, щедро. Лоснилось от жира, дышало жаром. Посуда – что дивный зверинец. То птицы да рыбы из сребра да злата загнулись причудливо, так и манят вкусить. На серебряных шеях лебяжьих оседало дыхание. Сидел Игорь да смотрелся в блюдо, точно в зеркало.
– Неужто кто придет еще? – спросил князь.
– Да нет, токмо мы с тобою, – ответил Федор. – Батюшка уж в Слободе дожидается. Как дух переведешь – тотчас же и нам в путь-дорогу. Лошадей с моих конюшен не видал – ай да резвые черти! Сколько прыти! Эх, то не бег, полет! И сбруи новые, то приедешь, чтобы все видели: гостя дорого везу!
Федор уж скинул черный кафтан да остался в расшитой рубахе.
– Ты поди, вели этим валандаям крестьянским, чтобы платье тебе с дорожного переменили! Али уже полюбилось тебе дрогнуть, как изгою псоватому? Ночка нынче сырая будет, гадская. Пущай бездельники…
– Постой ты, Басманов! – просил Игорь, схватившись за виски. – Не гони, не гони! У меня в глазах рябит от одного лишь твоего пира, и все еще несут! Куда ж нам двоим-то с этим управиться? Почем же зря народу-то приказывать новое кушанье нести, покуда сам ты едва ущипнешь, так и велишь нести новое?
– Народ-то мой больше всего-то и получит, ежели на то пошло, – хмуро смутился Басманов.
Игорь поджал губы. Мед в чашах так и не был отпит. Вдруг Федор повел головой, завидя кого-то за спиною князя. То слуги тихо да воровато крались, чтобы не попасться боярам на глаза. Игорь обернулся, заметил, как Михайло евонный шмыгнул средь прочих. Изменился Федор в лице. Еще с причала заприметил карлика, да не сказал ничего. Так и сидел Басманов вполоборота. Хоть крышка в погреб уж и захлопнулась и карлика уж не видать, застыли глаза, полные ядовитой лазури, да разум думам предался. Князь Черных заприметил, но и слова не вымолвил. Федор пробежался пальцами по столу, воротился взглядом к Игорю. Заиграли перстни от свету на тонких пальцах. Отчего-то покоробило князя – уж не к месту большие самоцветы, уж больно тяжелы. Былая радость все еще горела в сердцах обоих, да поутихла, и поднялась горечь, закоптилась.
– Что ж еще делалось, покуда в опале прозябал? – спросил все же князь.
– Люба душу Богу отдала, – перекрестился Федор.
– Упокой Господь… – прошептал Игорь и осенился крестным знамением.
Молчанье.
– Все время, что тебя не было, не давал покоя наказ ейный, – молвил Федор. – Берегите, говорит, с Игоряшкой друг друга. Вскормить я вас вскормлю, да гляди – приглядывай за братом молочным, что за родным. Не приглядел.
– Что ж ты, сторож брату своему? – пожал плечами Игорь.
– Не приглядел… – горько вздохнул Федор.
Коснулся чаши, да пить не мог. Огляделся вокруг Басманов, тряхнул головой, как гордый конь гривой.
– Не по сердцу тебе убранство? – начистоту спросил Федор.
До того переменился тон, что не мог Игорь ни лукавить, ни увиливать. Как есть, так и кивнул. С горечью, но ответ был принят.
– Поди, свыкнешься еще, – вздохнул Басманов.
Переглянулся Федор с князем, и оба поняли – за четыре года немало поменялось. Басманов умолк. Князь Черных подал знак: я верю, говори же! Игорь кивнул, а в глубине сердца ужаснулся. Как разлучила друзей опала, так и запомнился Федор ветреным мальчишкой – озорник да баловень. Что-то поселилось в этой юной душе. Нет, быть может, и минуло-то всего четыре года, да Федор нынче не тот. В смехе скрипит январский мороз, улыбка скалится зверем. Князь мог забыть все, что нашептывали злые языки супротив друга, но не мог отринуть того, что видел. Тот, кто сидел с ним и пил за одним столом, носит маску – и будто бы взаправду из человечьей кожи, да снятой, притом живьем. Лукавые восточные глаза вновь метнулись к погребу.
– Свыкнусь, свыкнусь! – закивал Игорь, – Помоги же, Федь. Истолкуй, что творится, чем живет нынче Русь?
Голос его звучал громче, нежели самому князю хотелось. То вырвалось, чтобы прервать тишину.
– Чем живет? Как и всегда, как и всякая земля – горячей кровью, – ответил Басманов. – Про опричнину ты, Игореша, не спрашивал – и от души земной поклон. По глазам вижу: наслышан о разбойниках, душегубах. Али не так? Вот и оно. Все правда. Нету на нас суда никакого, сами суд и вершим – мечом и огнем, прямо на месте.
– И по сердцу тебе служба такая? – хмуро спросил Игорь.
Федор умолк, взор отвел да присвистнул. Снова забегали пальцы в перстнях по столу.
– Черт тебя дери, Черных! – вспылил Басманов. – По сердцу мне, что ты тут, живой-здоровый. Вот что мне по сердцу.
Басманов залпом осушил чашу да с размаху швырнул в стену.
– Не верю я, что брат мой и впрямь заодно с этими тварями… – угрюмо вздохнул князь.
Басманов провел по лицу да прищелкнул. Все разом переменилось.
– Отрадно, что напомнил! Вот что нового! Бродит по городам да селам русским Порфирий Убогий, еретик да басалай. Проповедует, что всякий человек не просто грешен, а проклят, саблезуб и ядовит. Вот за сим окаянным с братией и охотимся. Ежели учит, что нет боле люда доброго, лишь звери, так по-звериному и расправимся.
Князь Черных отпрянул. Глядел-глядел, точно ожидая, как Федор заулыбается, прихлопнет по плечу да сознается, что это шутка всего-навсего, и настоящее дело изложит. Да не улыбался Басманов.
– За баламошкой дряхлым гоняетесь? – недоумевал Игорь.
– Да скорее за его питомцами, – ответил Федор. – От них больше мороки, чем от старика. Да и ушлый дедок!
Засмеялся Басманов, да не горело честной отрады али радости в сердце. Отдышался Федор да грустно хмыкнул под нос. Радости с причала заметно поубавилось.
– А наши забавы все старые, – вдруг сказал Басманов да покосился на князя. – И пуще былого льется кровь. Видал, с тобою карлик ошивается. Приводи его ко двору.
– Приведу, – согласился князь.
Повисло молчание.
– Игорь. – Федор глянул исподлобья.
– Приведу я уродца – поди, нетрудно сыскать! – вспылил Черных.
– Да на кой черт искать, когда вот он, под боком? – недоумевал Басманов.
– Этого уродца в тюрьме иноземной нашел. Он-то и спас меня. Взамен поклялся, что заберу его с собой, – ответил князь.
– Царь тебя спас, – твердо молвил Федор, сурово. – Не черт.
Князь Черных молчал.
– То была ссылка, а не казнь! Уж вымолили! – Басманов загнул палец. – А пока ты по болотам северным с жабами да тритонами в тине мыкался средь камышей, я служил отечеству, не щадя живота своего. И вот же с Божией помощью вернули тебя из опалы. Завтра ты предстанешь ко двору. Божился я на распятии и Святом Писании, что князь Черных – добрый слуга, что и с латинами-то он знать не знался, то так, пустое, что верен и душой и телом государю да Руси. Я своею жизнью клялся, черт тебя дери. А ты жизнью урода-иноземца дорожишь! Из подвалов кремля тоже он тебя вытащит али как? – спросил Федор.
– Он жизнь мне спас! – огрызнулся Игорь, вставая из-за стола до того резко, что чаши с медом опрокинулись. – А я его должен вам, выблядкам псоватым, на потеху резать?! – В сердцах Игорь схватил Федора за ворот.
– Где ж дрыхла честь да гордость, когда с иноземцами якшался? – пугающе холодно произнес Федор.
– Где ж дрыхло сердце да разум, как ты продался за проклятое золото? – спросил Игорь.
– Отдал! Все отдал: и сердце, и разум, и душу, и плоть, и кровь – все отдал! Раз проклятым золотом платить нынче на земле русской за жизнь, так отдал бы вновь, коли обернулось бы время вспять!
Сами собою разжались руки князя. Закостенели, точно на морозе, так что не мог Игорь вновь сжать кулаков.
– Много воды утекло, – тихо молвил Басманов, оправляя кафтан. – Коли речи мои пугают – так пущай. Так оно и надо. Москва и впрямь стала местом проклятым. Я рад тебе, старина. И если б время обернулось вспять, я б сызнова в кровь расшиб бы лоб пред государем, чтобы тебя вызволить. И от всего сердца, упрямец, заклинаю: как завтра поедем в Слободу, бери коротышку и приведи к пиру. Ежели не хочешь – не смотри: будто бы и без того неведома тебе судьба уродцев при дворе?
Пес прислушивался к собственному дыханию. Ровное.
«Все заживает как на собаке…» – подумал Федор.
Ожог на руке исчез, как звезды утром. Привстав, Федор оцепенел от ужаса. Тень уже исчезла за дверью, спешно и неуклюже неслась по коридору – это точно был тот самый уродец, тот самый карлик. Черный Пес встал на ноги, выбежал из палат, бросился в погоню. Длинный ряд слабых электрических ламп дышал из последних сил, кашлял, как астматик. Коридор разрывался темным островком, но Псу не нужен был свет: карлик барабанил по двери – на грохот-то и несся Пес, не стряхнув с себя остатков сна. Еще бы секунда, и Псу удалось схватить уродца, но тот совладал-таки со старым замком, юркнул в палату и закрылся изнутри.
– Открывай, тварь! – Пес налетел на дверь, но та не поддалась.
С третьего удара старое дерево треснуло, замок выступил, как открытый перелом. Пес ворвался в палату и едва не выругался, так замер – никого! Но вдруг в ушах поднялся тихий звон. Пес обхватил голову руками. Дыхание не унималось, грудь вздымалась. Пес чуял в воздухе что-то опьяняюще сладкое, налитое сахаром выше всякой меры, подставленное жаркому солнцу. Чаша переполнилась, первое холодное дыхание осени заставляет вкус насыщаться порочной сладостью.
В теле проснулась давно забытая легкость. Бледные руки наполнились жизнью. До этого мгновения сердце – все равно что мешок камней. Каждый из них растаял, превратился в прохладный бодрящий бальзам. Все тело проняло. Тихое шипение – и от кожи пошел дымный запах, и с каждой секундой тело освобождалось от скверны, и тем ярче и слаще расцветало все человеческое.
Глаза увлажнились. Пес заново учился дышать. Он обвел комнату взглядом. Ни символов настоящей магии, ни новомодных мистических каракуль, которые почему-то раз через раз реально работают. Отчаяние подступало удушьем. Пес встал, подошел к окну, раскрыл настежь. Первый этаж, вид на сад во внутреннем дворе особняка. Слишком рано для вишни, только начало марта. И все же прямо под окном деревце распустило цветы. Каждый лепесток был припылен тем же светом, который шипел на коже. Мягкий свет поднимался наверх, к звездам. Там, в холодной вышине космоса, они радостно воссоединялись и горько оплакивали сотни лет разлуки. Увиденное завораживало и пугало. Если больные суставы ноют перед дождем, то как плачет разбитое сердце при виде ясной звездной ночи?
Черный Пес начал замечать, что свет не возникает сам по себе из ниоткуда, а имеет вполне различимые волны, если присмотреться. Шли они из окна, четко над его окном. Черный Пес стремительно помчался вон из палаты, бегом к лестнице, на второй этаж. Сияние окружало все вокруг, куда ни посмотри, да даже сквозь веки сочился всепроникающий свет, звонкий и ясный. Давно утерянное и забытое сокровище, неведомое и бесконечно родное. Волшебная жемчужина, затерянная под неподъемной толщей воды средь заросшего мертвого рифа.
На втором этаже стоял странный запах, созвучный с тем, чем веял свет от вишен, свет от кожи. Пес отворил дверь без звука, почему-то четко уверенный, что его ждут.
На кровати сидела девушка с крупными веснушками и длинными тонкими волосами. Мягкие мелкие волны окутывали сутулую куколку, одетую в длинное льняное платье. Босая, она сидела, поджав ноги под себя. Длинные худые ступни с розовыми от холода пальцами лежали чуть заходя друг на друга. Правая рука покоилась в повязке, крепко прижатая к груди. Подняв лицо, она уставилась глазами благородной русской гончей. Большие, выразительные медовые глаза без ресниц рассказывали намного больше, чем Пес осмелился бы спросить. Во взгляде читался немой упрек за медлительность.
– Зачем ты тут, если сама можешь исцелять? – спросил Черный Пес, кивнув на повязку.
Девушка кивнула на стол, стоявший у окна. На нем стоял серебряный круглый поднос и лежала пара маленьких кислых яблок. Свежие плоды в начале весны немало подивили Пса, но отчего-то он чуял, что настало время молча внимать. На плечи опустились легкие руки, усаживая за стол.
Пес обернулся через плечо, но никого не увидал. Точно из-под земли выросла палата с расписными стенами. Арки сомкнулись над головой. Духота мешалась с воздухом, напоенным пресладким медом, гарью и воском. Обернувшись обратно, Пес оказался на роскошном пиру. Длинная рыбина растянулась на медном блюде. Ароматный сок стекал под виноградные листья. В мисках блестели орехи в меду, румяные пироги пыхали жаром печи.
За столом сидели здоровяки, одетые в глухие черные рясы с холщовыми мешками на головах. Толстые пальцы, замызганные копотью, крепко держали длиннющие ложки или колья. Деревянный стук смешался с мычанием, звоном задетой посуды, пыхтением. Еда шмякалась на каменный пол, и ее размазывали здоровенные ноги, пока безликие верзилы толкались за право урвать кусок, который не смогут проглотить. Нанизанные куски мяса не достигали рта – слишком длинное древко. Здоровяки закипали гневом, алчно распихивали локтями сотрапезников и вновь пытались насытиться кушаньями, да все по-скоморошьи. Пес смотрел, завороженный. Взгляда не отвести. Вдруг к самому лицу поднесся острый кол, чуть не выколов глаз. То длинноволосая девушка, протягивающая с угла стола жареный кусок щуки.
Не успел Пес опомниться, как снова оказались в палате. Тяжелое дыхание било в грудь невпопад. На губах еще горела пряная духота мрачной палаты. Медовые глаза без ресниц неподвижно и выжидающе глядели на него.
– Себя не накормишь… – произнес Черный Пес, потирая глаза. – Только других.
Девушка широко улыбнулась, тонкие губы открыли ряд крупных зубов, немного выдающихся вперед.
– Как тебя зовут? – спросил Пес, вставая на ноги.
– Елена, по батюшке Игоревна, – ответил молодой, но отчего-то хрипловатый голосок.
Пес кивнул. Сложив руки, он расхаживал по маленькой комнате. Вдруг остановился, бросил короткий взгляд на Лену. Она по-прежнему сидела на кровати, поджав ноги. Приблизившись, Пес положил руку на колено, отвел в сторону, чтобы открыть больную руку. Девушка позволила снять повязку и принялась разминаться. Несколько раз сжав кулак, Лена отпускала, и пальцы плавали в воздухе, гладя что-то нежное и невесомое. Выше локтя виднелся странный край. Кожа сходилась очень похожими лоскутами, но все-таки, если приглядеться так же внимательно, как всматривался Черный Пес, можно приметить, что рука девичья на пару тонов светлее остального тела. Лена поднимала и опускала локоть, потирала плечо. Пес сжал в руке повязку и продолжил ходить от стены к стене.
– Не болит? – спросил он.
Лена помотала головой.
– Тебе тут не место, – сказал Пес. – Ты должна уйти.
Лена не шелохнулась, как об стенку горох. Федор понял, что без толку, и сам направился к выходу.
– Хочешь со мной? – спросила Лена.
– Я не могу, – ответил Черный Пес, обернувшись через плечо.
За окном снова поднялось чудесное сияние цветущей вишни. Свет бил в затылок Лены, напаивал тонкие волосы горящим проклятым золотом.
Дорога давно не внушала доверия ни Псу, ни, что намного важнее, его лошади. Солнце скоро начнет садиться, кругом дремучий лес. Копыта мешали грязный снег, прошлогоднюю гниль листвы, веток и коры. Доверие Пса своей проводнице меркло, как гас дневной свет. И все же они забрели так далеко, где уже выгоднее дойти до конца, даже если не веришь, что что-то будет.
Мрак не дал вовремя заметить, как деревья поредели. Впереди красовалась вырубленная опушка, на которой грозно чернел частокол. Колья росли грязными зубами из мягких десен талого снега. Ворота силуэтом походили на широкоплечего гнома. Хмурый и коренастый, упрямец стоял затворенный. Вороны клевали его плоскую шляпу из бревна. Лена сунула в рот два пальца и свистнула. Гном поворчал, скрипя тяжелыми коваными петлями, и все же отворился.
Они оказались во дворе. Лошадь медленно брела мимо домиков, сараев, каменного колодца, амбара. На крыльце избы сидел кабан по-щенячьи и таращился на пришельцев. Трубы дышали сизыми струйками. Лошадь продолжала идти к дубу, который был сердцем всего за частоколом. Его по-зимнему сонное величие простиралось к гаснущему небу могучими ветвями. Черный Пес остановил лошадь и запрокинул голову. На самых верхних ветвях чернели огромные плоды. Мрак до последнего был готов увиливать, прятаться на грани лжи и правды, но не называть ничего своими именами. Только от природы острый взор даже по меркам тварей дал понять, что за ноша раскинулась на ветвях. То, что чернело там, высоко над землей, когда-то носило людские имена. Пес невольно потер шею и опустил взгляд.
– Приехали, – ее не окликали Лена, спрыгнув с лошади.
Черный Пес заметил местных. Они подтянулись бесшумно, обступили прибывших. Румянец бойко разыгрался на их лицах. Что бросилось в глаза: четыре, нет, пять, даже семь! – дальше вглядываться бессмысленно, пусть будет семь – пустых рукавов бесполезно болтались. Сразу же ожил в памяти Ленин шов на руке. Два полутона с деликатной и нерезкой границей, которую все же углядел чуткий глаз. Странное чувство покоробило. Что-то екает при виде увечий на уровне звериного разума. Пес спешился, обхватил левой рукой правую.
– Пойдем, – сказала Лена, отдавая поводья однорукому парнишке в тулупе нараспашку.
– Куда? – спросил Черный Пес.
– Он так прекрасен в цвету! – пробормотала она, оборачиваясь на дуб.
Ничего не понимая и со шкодливой внутренней улыбкой отмечая, что понимать ничего и не надо, Пес позволял себя уводить еще дальше.
Солнце село. За частоколом угукал лес филинами. Ночной зверь тихо крался, изредка обламывая под лапой ветви. Звезды робели, затаили дыхание вместе с Леной. И когда все замерло, когда весь мир померк, из недр стал подниматься легкий и благодатный дух. Ясный мягкий поток света поднимался по корням. Ветви опустились под тяжестью наливных плодов, напоминающих яблоки. Только Пес протянул руку, как Лена предупредила желание.
– Вкусишь, так заплатишь, – произнесла она.
– Сколько? – сипло прошептал Пес, сжимая кулак, едва не коснулся плода.
Лена протянула руку.
– Спроси у Калача, – ответила она.
Пес кивнул, не поняв ни слова. Взгляд по-прежнему был прикован к насыщенным плодам, созревшим в ночи, напитанным хрустальным светом. Очнуться ото сна он смог лишь в трапезной. В центре стояла печь, устланная коврами. Длинный стол, убранный холщовой скатертью, вместил бы всю деревню, но деревянные скамейки пустовали. Перед глазами плыли пятна. Впервые след оставался не от яркого режущего света. Пес мечтал постичь природу этого чудесного сияния. Резкий лязг заставил обернуться. Лена пыталась сдвинуть заслонку печи. Черный Пес пришел ей на помощь, да рванул так сильно, что рухнул на пол. То ли от того, что заслонка слишком быстро поддалась, то ли от черного от сажи деда, глядевшего на него из печи.
– Калач, вылезай! – просила Лена.
Из печи высунулись грязные руки. Скрюченные пальцы-крючки впились в побелку, оставляя заметный след. Сквозь ворчание и пыхтение показалась косматая бородатая голова. Взгляд безумный, как у бешеного зверя. Выволочив свое тело, дед рухнул рядом с Псом и поднял облако пепла. Пес закрыл глаза и отполз в сторону. Калач зевнул, разевая рот с редкими желтыми зубами. Нижний клык выделялся средь прочих, точно с умыслом заточенный.
– Чего ради будила, дура? – буркнул старик, садясь на пол и облокотившись спиной о печь.
– Добрый человек прибыл не откуда-то, а из самой Москвы, – доложила Лена, помогая деду стряхивать пепел с дырявой плешивой овчинной дубленки.
– Неужто стоит еще, проклятая? – ворчливо бросил Калач.
– Куда ж ей деться! – криво улыбнулся Черный Пес.
– Как это куда? – спросил дед. – Поди, будто город сжить со свету – какая морока! Уж не тебе ли, душегуб, об том сказывать! Была б на то воля, то оно и сделается!
– Видать, нету такой воли, – пожав плечами, сказала Лена.
Не боясь запачкать платье, она села на колени рядом с Калачом.
– Добрый человек хочет испробовать яблок наших, – произнесла Лена.
Тут-то дед залыбился.
– А цену-то добрый человек выведал? – спросил Калач, прищурившись.
– Так вот с тем пришли – чтобы выведать, – ответила Лена.
Калач харнул на пол.
– Он, поди, мальчонка умный да приметил, какие изувеченные добряки вас встречать вышли. А ну-ка, добрый человек, скажи-ка: сам-то смекнешь? – спросил Калач.
Черный Пес нахмурился, глазами забегал. Положил руку на плечо.
– Смышленый, – довольно кивнул Калач, поднимаясь в полный рост. – Ну что ж, Леночка, готовь все! А ты, голубчик, знай: нынче последний шанс удрать. Поди, вон он, частокол: дашь деру – никто собак не спустит, не будет погони никакой.
В ту ночь Пес остался в деревне Калача. Вдоль столов стояли безликие из сна с холщовыми мешками на голове. Как это часто бывает, сцена из кошмара, воплощенная наяву, не такая уж и внушающая. Если во сне все на застолье казались прямо-таки богатырских размеров, то нынче Пес глядел на деревенщин, которые выглядят с этими мешками не как палачи, а скорее, как приговоренные. Во главе стола сидел Калач, то ли дремал, то ли вот-вот задремлет. За его левым плечом стояла Лена.
Ночь была холодна. Пес это ощутил, когда снял рубаху. Двое рыжих парнишек лет пятнадцати вязали тугие узлы на каждой руке Пса.
– Добро, – сказал один из рыжих, второй кивнул.
Пес глубоко вздохнул, собираясь с духом. Рыжие парни передали по концу веревки по правую и по левую сторону стола. Пути назад не будет. Черный Пес запрыгнул на стол, закрыл глаза. Как будто на веках были высечены узоры потока света, который струился и пел о неземном покое. В нем и была благодать, за которой Пес гонялся столько веков.
– Добро, – кивнул Черный Пес, падая на колени.
Безликие осатанели вмиг. Костлявые, розовые от холода пальцы впились в веревку и рванули в две стороны. Глазки Калача вспыхнули адскими угольками. Выглядывая из-под кустистых бровей, они живо и пылко метались вместе с тем, как Черного Пса метало из стороны в сторону.
Вдруг воедино слился вопль ужаса, боли и неистового восторга. Правая сторона радостно стягивала друг с друга мешки. Глаза, мокрые от слез радости, блестели в скудном свете масляного фонаря, который висел на входе в трапезную. Деревенские целовались друг с другом, пели, прыгали и смеялись, поднося оторванную руку Калачу.
Лена стащила со стола все остальное, что осталось от Черного Пса.
– Добро, добро, – бормотала она, стянув с плеч платок и заматывая рваную рану.
Вышло солнце. Середина марта, земля была достаточно мягкая для посадки саженцев. Пес сидел на крыльце, глядя, как местные разравнивают землю под его рукой. Лена была рядом с ножом в одной руке и яблоком в другом.
– Нам досталась правая. Хороший знак, – сказала она и протянула отрезанную дольку.
Но Черный Пес не стал брать, а перевел взгляд на дуб. В свете дня он яснее показывал свою фактуру, чуждую деревьям. Поверх коры надулись жилы, по которым взойдет свет в свое время.
– Это рука Калача? – спросил Пес.
– Нет, – ответила Лена. – Когда он был еще мальчишкой, дуб уже стоял.
Пес глубоко вздохнул, съел кусок яблока. В то утро он еще верил, что рука отрастет так же, как затягивались любые раны твари. Мякоть растворилась во рту, язык обожгло кислой ноткой. Все тело содрогнулось, пробитое волной доныне неведанной силы. Челюсть едва поддавалась, она размякала, как хлеб в молоке. Тело медленно сползало на ступени. Как будто приближалось дикое стадо, тысячи копыт поднимали удушливую горячую пыль. Сначала казалось, они пронесутся где-то совсем рядом, Пес слышал барабанящие удары внутри тела. Бежала кровь, бойко отбивая пульс. Выдохшееся кислое вино, которое плескалось по старому, зеленому от времени медному кувшину, вдруг вновь наполнилось былым.
– Ты можешь здесь оставаться сколько пожелаешь, – говорила Лена. – Один раз уже заплатил, стало быть, Частокол принял тебя. Здесь твоя земля – напитанная кровью, она будет плодоносить. Земля накормит, когда силы начнут покидать. Жертву ты уже принес, так оставайся, дождись, как взойдут плоды, и вкушай сколько угодно.
Годы скитаний, бегства и борьбы могли закончиться здесь, за Частоколом. Медленно зрели пряные плоды, наливаясь нектаром неги и забвения. Сердце наполнилось жизнью, нет, памятью о той жизни, которую Черный Пес потерял.
Ночью Пес вышел из дому. Прислушался к спящему лесу – тот храпел скрипучими соснами, угукал, изредка вскрикивал ночными птицами. Вокруг Частокола свернулся туман, длинный серый хорек уткнулся холодным носом в пушистый хвост. Сопит, да влажное дыхание оседает кругом.
Черный Пес пробрался в сарай. Глаза твари быстро обыскали полки, кривоногие столы и горбатый хлам, сваленный в кучу. Сигнальная шашка. Пес схватил ее, зажал в кулак, выскользнул на улицу.
Лес проснулся. По крайней мере, не слышно ни храпа. Ни одна лапа не наступала на сучок, никто не убегал, никто не гнался. Лес застыл. Они с Черным Псом так и стояли в ночи, прислушиваясь друг к другу.
То ли небо и впрямь начало светлеть, то ли лишь показалось – разбираться некогда. Рассудком овладел резкий порыв: бежать отсюда прочь, перебить пряность здешних яблок, вырваться из-за Частокола, оставив часть себя. Пусть плоть останется, пусть гниет, цветет, плевать.
Ворота наглухо заперты. Да Пес и не ожидал, что те распахнутся. Он вцепился рукой прямо в бревна. Силы поднялись из пугающей глубины. Их вырвало сердце, охваченное болью и страхом неволи, плена и забвения. Что-то в груди чувствовало: еще один глоток пряного тумана в Частоколе – и можно не проснуться. А небо и впрямь светлело. Разодрав пальцы в кровь, едва не вспоров себя о зубья Частокола, Пес рухнул в мягкую землю, оказавшись по другую сторону.
Головокружение не давало совладать с телом. Марионетка, у которой перепутали все нитки. Темнота в глазах прошла, и он, неуклюжий и шатающийся, побрел прочь, не глядя. Бесцельно и упрямо, куда угодно, подальше от Частокола.
Небо упрямо отказывалось светлеть. Глубокая ночь густо обволокла все вокруг. Беспробудную густую тьму насилу и через боль в груди вдыхал Черный Пес, сидя под елью. Силы кончились, чтобы продолжить путь. Может, и не появятся. Дошло, как много осталось за Частоколом. Рука не вернется. Кости не будут срастаться, как прежде. Человеческая немощь вкупе с жаждой твари ужаснула. Боль сводила с ума. Находясь на грани помешательства, Пес вздрогнул. Усталость слепила глаза, или ночь и впрямь сгустилась пуще прежнего. Слух и чутье не могли подвести. Зубами Пес сорвал крышку с сигнальной шашки, чиркнул совсем рядом с лицом.
Вспышка озарила силуэт огромной косолапой зверюги. Глаза уставились не мигая. В той глубокой черноте сверкало отражение искр. Огонь злил зверя. Пес застыл на месте. Огонь вспыхнул ярче, озарив морду тощего медведя. Пес выставил руку вперед. Бежать – а сил хватит?
Огонь резал глаза, и все-таки Пес разглядел сквозь засвет кого-то безрассудно бесстрашного.
– Стой! – Хриплый крик, полный ужаса, вырвался из груди, причинив боль.
Пса будто ударили в грудь, и он переводил дыхание. А незнакомец, вместо того чтобы внять предупреждению, положил руку на холку медведя.
– Стой, не уходи! – вновь закричал Пес, отведя огонь прочь.
Несколько мгновений перед глазами плыли пятна от близости яркого пламени. За эти же мгновения и зверь, и тот, кто посмел ласкать дикого зверя, как домашнего кота, исчезли.
Хрясь – листок. Щелк – ручка.
Лена недоверчиво прищурилась, не скрывая разочарования и даже презрения к такому «гостеприимству». Кабинет, заставленный стальными стеллажами, на которых в ряд набились папки. Одни надписи заклеивались другими, бумажки налеплялись на скотч цвета разбавленного кофе-какао из ущербных столовок. Пахло скверно. Персонаж за столом с неживым сухим лицом прекрасно вписывался в это место. Лена покрутила ручку, провела пальчиком по буквам. Холодный серый взгляд не мигая ожидал составления заявления, чтобы принять его.
– И все-таки я настаиваю, Ярослав Михайлович, на личной встрече, – Лена отложила ручку.
– Сожалею, Кормилец никого не принимает. Напишите – я передам, – вновь раздался в этой бетонной коробке непоколебимый ответ.
– А если это новости про Черного Пса? – лукаво спросила Лена.
Что-то под желтой неживой кожей дрогнуло. Не мускул, не жилка. Что-то инородное рвалось наружу.
– Подождите здесь, – сказал Ярослав, поднялся с места, стремительно покинул кабинет.
Лена откинулась на спинку стула, закинула босые грязные ноги на стол, взяла листок и принялась отрывать кусочек за кусочком. Когда дверь вновь открылась, она радостно бросила самодельное конфетти.
– Так что, Пес сдох? – спросила Рада.
– Нет. Но теперь близок к этому как никогда.
– Как и все мы, – горько усмехнулась Рада.
– И все же кто-то ближе, – продолжил Ярослав. – Его дни сочтены. Плоть больше не борется за жизнь, как раньше. Он подбит и нажил себе врагов.
Рада медленно кивнула.
– Спасибо, Ярик, – ответила она, положив руку ему на плечо, но тот отстранился.
Не сильно удивившись, Рада хмыкнула в ответ, встала из-за стола и пошла к выходу.
– Может, просто убежишь со мной? – спросила она напоследок, взявшись за ручку двери.
– Издеваешься, да? – спросил Ярослав.
– Конечно, издеваюсь, – кивнула Рада и покинула его.
Не впервой Раде идти по следу раненого зверя. Тихие шаги ползли по чертовой норе на отшибе города. Дом, предназначенный под снос, но будто бы в последний момент пожалели даже сил пригонять технику, что-то делать. И впрямь хватало одного взгляда на эту рухлядь – и на ум само собой приходило: «Да само как-нибудь от времени и развалится, что напрягаться-то?»
На бледных губах Рады засияла улыбка. Черным призраком пронеслась сквозь натянутую леску, оставив ту без добычи. Донесся стук чего-то живого. Так звучит сердце, когда оружие последнего шанса не срабатывает. Из-за баррикады вышел Черный Пес. Сутулясь, он глядел исподлобья, сжимая в руке какой-то пульт, походивший, скорее, на скомканного паука, который запутался в собственной паутине и лапах. Два красных огонька-глазка попеременно мигали.
– Я знаю, кто ты. – Рада плавно подняла руку.
– О нет, – сплюнул Черный Пес. – Будь так – сюда бы не сунулась, тварь.
– И еще я знаю, что ты ранен, – прошипела гремучая змея.
– Подлая сука, – хрипло хмыкнул Пес, выставляя детонатор меж ними.
– Не представляешь насколько! – положа руку на сердце, ответила Рада. – Мне нужен Частокол. Где он?
Вытянутая рука Пса невольно дрогнула, брови хмуро сошлись.
– На кой черт?
– Надо.
– Не надо, – твердо отбросил Пес. – Не думаю, что там помогут.
– Ну, свое ты уже надумал. – Рада кивнула на культю. – А за себя и свою семью я буду решать сама. Где Частокол?
Пес медленно опустил пульт, но не разжимал кулака.
– Допустим, скажу. – Он подозрительно прищурился.
Из черноты глаз Рады вырвались хищные искорки, ноздри затрепетали.
– Откуда мне знать, что ты не убьешь меня? – спросил Черный Пес.
Хищная тень сложила руки на груди, коснулась пальцем подбородка.
– Может, потому что я – Рада Черных? – прошипела она. – И больше всего на свете я желаю, чтобы ты – да хоть любая тварь – убил Кормильца, старого черта. Я больше твоего молюсь о том, чтобы ублюдок был тебе по зубам.
Хоть все и живы остались, да что-то не то на душе. Пустота. Очертания напоминали собой что-то до боли знакомое, и вот уже слова вот-вот из уст-то и сорвутся – и тут же исчезнут, как дыхание зимней стужи. Загорится на заре, воспарит и растает, не оставив ничего на память. Может, инеем осядет аль узором морозным.
До зимы еще далеко, а пар уж валит от мокрого носа лошади. Да и сам Федор дохнул на руки, растер. Стоял да смотрел, как любимицу его, Данку вороную, уводят конюшие. Да вдруг лошадь мордой повела, а с нею и холопы обернулись да пали ниц тотчас же.
– Отрадно ль с ним вновь повидаться? – грянул голос.
Федор отдал поклон, не поднимая взгляда.
– Милостью да множеством щедрот твоих, добрый государь! – пламенно молвил он, принимая руку и целуя царский перстень.
Не успел Басманов взгляду поднять, как лошадь заржала, взбрыкнулась пререзво, чуть не пришибла несчастного холопа, что на полу лежал. Бросился Федор, схватил за уздцы да гладил по морде лошадь. Свистнул Басманов да грозно глянул – холопы и разбежались, жуки.
– Как бишь потолковали-то с разлуки многолетней? – раздался вновь голос государя.
Обернулся Федор, одной рукой придерживая Данку, а у самого из горла ни слова не идет. Царь же мрачной тенью стоял на пороге конюшни, держась рукой за посох. Поверх черного одеяния единственный проблеск – крест золотой да перстни. Впрочем, монашеское облачение бог весть на какой день скитаний. Изношенный край в пыли да грязи. Прочий люд и впрямь мог принять, тем паче издалека, за странника, бессребреника, отшельника. Сутулый воронишка с мостовой. Да и сам же Федор обознался впервой. С того дня все пропахло гарью и трупным смрадом. Смрад был на руках Басманова, был на верной его Данке, был в волосах. Снилось Федору, что разломи его кости – и оттуда повалит чертов запах.
– Если бы не добрая воля твоя, светлый государь… – поклонился Федор да умолк.
Царь цокнул да мотнул головою.
– Неужто столь разительно переменился Игорь?.. – протянул государь.
– …что и не узнать, – тихо да горько добавил Басманов.
Вздохнул государь да сочувствующе кивнул.
– Я тебя миловал, а не Черных, – произнес царь.
– Он заслужит твою милость! – горячо вспыхнул Федор.
– Милость невозможно заслужить, – светло улыбнулся царь.
Сим же вечером при дворе гуляли пир. Ждали князя Черных, опальника прощенного.
– Вчера изгнанник, нынче – гость почетный!
– Вон оно как любо-то с Басмановым щенком дружбу водить!
Федор был особенно весел и пил не в меру.
– Глухой подслушивал,
Слепой подглядывал,
Безрукой чаши нес,
На стол раскладывал.
Безгласой звал к пиру,
Безногой хаживал.
Мне то воистину
Немой все сказывал!
Государь же пребывал во мраке, хоть и окруженный светом да песнями. Точно нелюдимый зверь, сидел в укрытии да скалился безумно, рыща черными глазами.
