Дорогой пилигрима
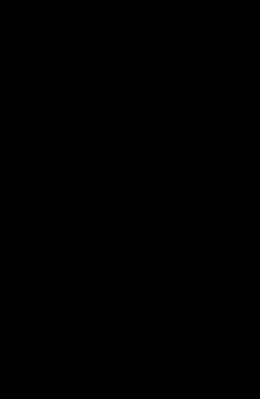
© Гришанов В. И., 2024
О себе
Земной путь я начал 2 июня 1954 года в Сибири, в деревне Плотниковка, что находится в Кемеровской области Крапивинского района.
Моё детство протекало в условиях исключительно благоприятных и нестеснительных. В деревне, в которой я родился и жил, проживало чуть больше 300 человек. Из них почти половину составляли дети, для которых природа была вторым домом. Она не только воспитывала нас, прививала уважение ко всему живому, но и награждала мягкостью характера, выносливостью и любовью к своей истории и Родине.
Моя мама, Гришанова Александра Фёдоровна, – из ссыльных. Мою бабушку, имеющую дворянское происхождение, в 1936 году (после расстрела моего дедушки Гришанова Фёдора Прокопьевича), вместе с пятью детьми (как «социально вредных и неблагонадёжных элементов»), выслали тройкой ОГПУ в Сибирь, в Кемеровскую область. Сначала в Новокузнецк, а затем в таёжное село Медвежка, на лесоповал… Моей маме на тот момент было 15 лет. К сожалению, выжили не все…
Чтобы писать дальше об этой трагедии, об этом варварстве, нужно обладать определённым мужеством и хладнокровием. Не скажу, что я не обладаю этими качествами, – обладаю, и, тем не менее, я не готов к этому, поскольку все действия депортационной политики Сталина переплетаются с психиатрией, с психическими расстройствами человека, уходящими далеко за пределы методологии медицины. Думаю, пройдёт ещё не одно столетие, прежде чем психиатры вынесут свой диагноз человеку, уничтожившему десятки миллионов ни в чём не повинных людей.
Если говорить о роде Гришановых, то он ведёт свою родословную от малороссов. Это старинный дворянский род, который начинается с 17 века, а точнее, с 1686 года. В книге «Гербовник Новороссии», изданной в 1914 году в Санкт-Петербурге под редакцией Лукомского В.К. и Модзалевского В.Л., представлена небольшая история рода Гришановых, основателем которого является воевода Нежинского войскового полка Сенько Радионович.
Мало, что понимая в генеалогическом древе своего рода, я с детства отличался от своих сверстников. Это отличие заключалось в том, что я всегда, на каком‐то патологическом уровне, выступал за справедливость, уважение, любовь и доброту. Имея хорошую физическую подготовку, я старался никогда не вступать в конфликты ни с детьми, ни со взрослыми, понимая, что любой вопрос можно решить путём переговоров. И мне всегда это удавалось.
Вбирая лучшее из хорошего, а превосходное из лучшего, я с самого раннего детства стремился к человеческой красоте, понимая, что она является ничем иным, как олицетворением некой бесконечности, чем‐то высшим, к чему нужно стремиться.
Окончив в 1972 году среднюю школу, я был призван в Советскую Армию. Службу проходил за полярным кругом – в Военно-воздушных силах. После демобилизация была учёба. Сначала в Кемеровском культурно-просветительном училище, а затем в Кемеровском государственном институте культуры. Глубокие знания по мировому искусству и мировой литературе – от античности и до современности – приобщили меня к самостоятельным занятиям в области поэзии и живописи. Серьёзное увлечение литературой и живописью началось именно в студенческие годы. При этом я не прилагал к этому никаких особых усилий. Всё было похоже на само собой разумеющиеся действия, от которых я получал истинное наслаждение. В эти годы я серьёзно увлёкся творчеством Гёте, Шекспира, Байрона и Шелли. Английские и немецкие поэты произвели на меня совершенно новое впечатление, в отличие от средней школы. О таком явлении я даже и не подозревал. Но вершиной мастерства, конечно, были для меня стихи А. Пушкина, М. Лермонтова, Ахматовой и С. Есенина. Считал и считаю, что именно в стихах этих гениальных поэтов неугасимо горит душевный и творческий огонь любви.
А для меня любовь – это начало всех начал. Видимо, поэтому стихи я начал писать поздно, нужно было не только переболеть ростом ума, но и многое понять. Понять, насколько серьёзно я владею поэтическим даром. Во всяком случае, я рассуждал так: если поэтический дар дан мне для того, чтобы, как говорил Гёте, «всё сущее высасывать из своей собственной лапы», то не стоит это продолжать. А если он мне дан как дар божественного одухотворения, чтобы не только воспроизводить красоту, любовь и добро, но и особо воспринимать внешний мир, преображая его, – то нужно писать. И веруя в это, я писал. Конечно, времени не хватало. Несмотря на то, что государственная служба занимала слишком много времени в моей жизни, любимое дело я не бросал. Какие бы высокие должности я ни занимал, всегда находил время для литературы и живописи. Незаметно они стали частью моей жизни. С годами я стал понимать, что, как сказал Бомарше: «Любовь к изящной словесности и к искусству в целом несовместима с усердием к делам службы». Оставив государственную службу, я полностью посвятил свою жизнь литературе и живописи.
Первое, к чему я себя приучил, так это рано вставать. Нужно было навёрстывать упущенное. Со временем это стало привычкой. Главное моё качество – трудолюбие. Почти никогда не отдыхаю. Чтобы расслабиться, меняю деятельность. В отличие от многих творческих людей, люблю работать дома в полном одиночестве. Как сказал Сергей Довлатов: «Я предпочитаю быть один, но рядом с кем‐то». Не знаю, как для Довлатова, но для меня «с кем‐то» – это значит быть наедине с моими картинами, с моей библиотекой. Моя квартира – это «потайное» укрытие, где есть только то, что необходимо для творческой деятельности. Как говорил мой учитель по живописи заслуженный художник России Валерий Александрович Пилипчук: «Чтобы добиться результата в живописи, надо ограничить себя от всего». Я стараюсь придерживаться мудрых слов моего учителя и друга. Это относится и к литературе.
В творчестве я люблю свободу. Она принадлежит только мне и никому больше. В процессе работы она распоряжается мной по собственному усмотрению. Благодаря ей я смело и беспрепятственно иду по избранному мной пути, причём тем шагом, который мне нравится. В этом плане я придерживаюсь полной гармонии с самим собой. С одной стороны, я человек закалённый, а с другой – изнеженный. Изнеженный чувствами, любовью, добротой и другими духовными категориями. Я не знаю, что такое праздность. Моё нормальное состояние – это когда я работаю. В работе для меня не существует побед. Когда написано произведение, я просто радуюсь, ощущая себя счастливым человеком. Этим счастьем я делюсь с родными и близкими мне людьми. Они также счастливы вместе со мной. Никакой надменности сердца.
Все, кто читает эти строки, вправе спросить меня: «А чего вы добиваетесь своим творчеством?» Отвечу коротко: я хочу оставить для близких и любимых мной людей всё лучшее, что есть во мне. Я просто возделываю свой сад, как это делал всю жизнь, – вот и все мои намерения. Я хочу, чтоб в этот «сад» как можно чаще заходили мои дети, мои внуки, правнуки, мои друзья – все, кто хочет обогатить себя добродетелями и моральным совершенством, ничего другого своим творчеством я не преследую. Как сказал Мишель Монтень: «Подлинным зеркалом нашего образа мыслей является наша жизнь». Если мои мысли и поступки помогут широкому кругу людей, то я буду только рад, понимая, что помогу многим делать то, что правильно, избегая того, что неправильно. Значит, господь Бог не зря дал мне талант. Не знаю, оправдываю ли я своё предназначение на этой Земле перед Богом, но я стараюсь.
Жизнь исчерпывается для меня не праздностью, а каждодневным литературным трудом, живописью и думающими о России людьми, для которых лучшее предназначение есть высочайший долг – защищать своё отечество. «Содрогание души» этих людей является для меня самой демократической доктриной. Оно проявляется во всём моём творчестве, будь то поэзия, проза, живопись или драматургия. Всё это делается, конечно, в меру моих сил и возможностей. Останавливаться на достигнутом я не собираюсь. Да и не в моих это принципах. Ирвинг Стоун однажды сказал: «Человек бывает стар или молод в зависимости от того, сколько в нём осталось творческой силы».
Должен вам сказать, что энергии во мне достаточно, чтобы не только открывать людям этот мир, но и наполнять их души новой божественной красотой и любовью.
Вячеслав Гришанов
Стихи
Дорогой пилигрима
- Иду дорогой пилигрима
- В своей заветной стороне,
- И не сдержать того порыва,
- Коль Бог дарует силы мне.
- А вместе с ним и радость, волю,
- Восторг, смиренье, нежный взгляд,
- Где голоса друзей порою
- Струной натянутой звенят;
- Где горечь жизни утомлённой
- Врачуют дружба и любовь.
- Где голос звонкий, непокорный
- Венчает радостную новь;
- Где чаши полные, утехи,
- Льстецов приятная молва,
- Где муки тайные, навеки,
- Влекут для веры и добра.
О важном
- Блаженна жизнь, пока живёшь без дум…
- Веселье в ней всегда владеет мною,
- Где хороводят мысль и острый ум,
- Вещая встречи вновь с мечтою.
- Где в звуках нежных и родных
- Царит приятная усталость,
- Где слов молитвенных, святых
- Я жду в любви, хотя бы малость.
- Чтоб вновь восторгом пел Эфир,
- Сокрыв во мраке скорби, муки,
- Где ждёт не дремлющий Сатир,
- С ухмылкой потирая руки.
Всё как есть
- Далёк от мысли совершенства,
- Но я испил уже до дна
- Из чаши жизни безвозвратной
- Остатки горького вина.
- Что остаётся мне ещё?
- О смерти ль думать со смиреньем
- Иль к Богу обратить уста,
- Чтоб дал надежду, жизнь в которой ценим.
- Она одна для нас мечта,
- Что мы не здесь, а там блаженны будем,
- Пусть краем пропасти проходит жизнь моя,
- За это всё мы никого не судим.
- Хочу принять разумно всё как есть
- И верой утешать себя о счастье,
- В надежде жить о благости своей,
- В любви, чтоб ветром унесло ненастье.
Русская душа
- Улыбнуться яркому солнцу,
- Прошагать по зелёной траве —
- Разве это не благо для сердца,
- Разве это не радость душе!
- Выпить радужной светлой водицы,
- Где‐то в поле берёзку обнять —
- Разве этим нельзя насладиться!
- Разве это нельзя величать!
- Мы всего лишь частица природы,
- И для нас нет другого пути,
- Как вернуться под бренные своды
- Нестареющей русской души.
- Чтоб она нас в дороге венчала,
- Чтоб добром усыпала в пути.
- Чтоб по жизни мы с ней величаво
- Шли от горестей, бед и тоски.
- Только с ней мы найдём обретенье,
- Только с ней мы найдём свой покров —
- То природы могучей веленье,
- Наших прадедов, дедов, отцов.
- Улыбнитесь лучистому солнцу,
- Родниковой испейте воды,
- Загляните на самое донце —
- Это взгляд вашей русской души!
Зимний день
- Тоскливы зимние деньки,
- И в сердце странный холод.
- Но мои мысли вновь легки,
- Я с ними весел, молод.
- Мне неприличен с ними торг,
- Их привечаю сразу.
- Мои желанья и восторг
- Считаю, как награду.
- Они мне верные друзья,
- Без них грущу порою,
- И, где б я ни был иногда,
- Они всегда со мною.
- Друзья мои скромны всегда —
- Живут во мне, играя.
- Им не страшна печаль, зима
- И горечь удалая.
- Для них счастливая пора —
- Когда венчает лира.
- Когда с бокала пью до дна
- Движением факира.
- И вот свобода мастерства,
- Где вдохновенье правит.
- Где с песней звонкая душа
- В объятиях гуляет.
- Влечёт в тиши искусства жар
- Желанною мечтою.
- Чтоб в наслажденьях божий дар
- Манил меня любовью;
- Искрился в рифмах и словах,
- Достоинством пылая.
- И чтоб неведомый мне страх
- Не искушал, страдая.
- Своим немыслием, враждой,
- Слепой порочной бранью.
- Тем, чтобы стих казался мой
- Простою житейской данью.
- Напрасен страха сей удел,
- Ведь дар нам от завета.
- Во всём отмеренный задел,
- Есть каждому и где‐то…
- Пишу картины в эти дни,
- Стихи, что жаждут страсти.
- Все эти щедрые дары
- Дают мне радость, счастье.
- Пишу для сердца и души,
- На трудность невзирая,
- Пишу, как прежде, о любви,
- Мир лиры воспевая.
- Приятен мне сей зимний плен,
- Где в тишине, покое
- Я в эти дни не омрачен
- Усталою рукою.
- Пусть не напрасен будет труд,
- Порывы вдохновенья.
- Стихи, картины пусть живут
- Для младо поколенья.
- Уверен, скажутся слова
- Спустя года, столетья…
- Читая зримо письмена
- Как символ долголетья.
Памяти Поэта
- Убит поэт, изгнанник власти.
- Судьбы свершился приговор.
- Холодный выстрел эхом страсти
- Нарушил отзвуков простор.
- Снег белый кровью обагрился,
- Взывая Бога, небеса…
- Зачем же этот мир лишился
- Пророка, гения, певца?
- Нашла любимца муз «награда»
- Не на пожарищах войны
- (В горах далёкого Кавказа),
- А в тайных комнатах молвы.
- Где плесень черного масонства
- Рождалась в связях на глазах,
- Где сын французского пижонства
- Кривил ухмылкой на губах.
- Где чин достоин был почёта,
- Где власть безумству предалась,
- И где талант судили строго,
- «Кнутом» испытывая всласть.
- Но чести путь взирал он свыше,
- Не запятнав её ничем,
- Лишь звуки радости в ней слышал
- И не желал ей перемен.
- Он не служил бесчестью – трону,
- Земных богов не восхвалял,
- И в звуках царскую корону
- При том дворе не прославлял.
- Мятежный дух, властитель лиры,
- Внимая духу твоему,
- Ты жив поныне в звуках мира,
- Душа толпы в твоём плену.
- России сын, свободы воин,
- Любви поклонник и добра.
- Ты русской святости достоин
- На все далёкие века!
Новое время
- Живу покаянно и просто,
- Неся по жизни мерный груз.
- Пишу в тиши на злобу остро,
- Для вещих дел, друзей и муз.
- Меня пленяют добродетель,
- Любовь, надежда и покой,
- Свобода – друг мой и свидетель —
- Живит небесной красотой!
- Ничто нас в жизни не пугает:
- Ни ужас мира, ни слова,
- Ни то, что облаком витает
- Над нами злобная молва.
- Труды охотно сочетаю,
- К богам взываю я мольбу
- И лирой звонкой предрекаю
- России новую судьбу!
Не помышляя о другом
- Погибнуть проще, жить сложней.
- Хотя и дух небесный манит…
- Но сердца зов, мечты моей
- Поэта голову дурманит.
- Даруя нежность и любовь;
- В суровой жизни – песнопенья!
- Чтоб для трудов познать я мог
- Часы, минуты вдохновенья.
- Воспев мечту, певцов удел,
- Минуты счастья золотые,
- Чтобы под сводом важных дел
- Жила, цвела моя Россия.
Январь 2012 года
- Живу в предчувствии: чего? Не знаю сам.
- Кругом тоска… без выбора и цели.
- Куда ни кинешь взгляд: повсюду срам —
- От беспробудной глупости и лени.
- Как мы живём? О Боже! Как живём?
- Чем выше век, тем ниже отступленье…
- Кому и где представить всё виной
- За смерть и беды, слёзное терпенье?
- Страшусь предсказывать на тусклый лунный свет
- Всё угасающего племени и рода,
- Ведь я не Бог, я только лишь Поэт
- Ещё живого русского народа.
Поэт и читатель
- Ну почему мы нынче на Руси
- Глупцов и дураков не сторонимся!?
- К тому же, с ними просят нас идти
- Туда, где мысли ложной мы дивимся.
- И вот уже, поставив штамп раба…
- Нас не терзают горе и кручины,
- Идём толпою все – день ото дня —
- И ждём, что скажут в бремени кумиры!
- А может, лучше, здравый ум любя,
- Не петь под дудку песни и куплеты,
- А думать о России иногда,
- Где лики святцев дарят нам заветы.
- Конечно, рассуждать в стихах со мной,
- Делиться мыслью – это ваше право,
- Но вот скажи, поэт наш дорогой,
- Изменит ли хула всю суть устава?
- Уйдёт один варяг, придёт другой,
- А с ним дружин бессмыслицы орава,
- И будут пичкать той же чепухой —
- Для популизма, прочего навара.
- Истории тому давно пример:
- Что нужно человеку – чуждо власти.
- Согласен с вами: этот глуп и сер,
- А от иного худшие напасти.
- России истощились закрома,
- Нет колоска величия и нравов,
- «Смололи» всё, что можно, жернова,
- От большевистских распри и угаров.
- Быть равнодушным к родине, судьбе —
- Навряд ли освежимся мы почтеньем…
- Хотя признаюсь искренне тебе —
- Я рад, что слышу суть определеньем!
- Но непреложный есть один закон,
- И лишь к нему приковано вниманье:
- Мы слышим для желаний только звон
- И немощное власти оправданье.
- Плодов ни нам, ни детям уж не рвать
- И не искриться лирою счастливой,
- Сад опустеет, коль не убирать…
- Пусть и полезной, но породы хилой.
- Лишь тень от сухостоя можно ждать,
- Ещё жуков и разных там личинок,
- Что всё вокруг готовы выедать,
- Всё больше извергая паутинок.
- Твой гнев печалит. Более: страшит.
- В нём правды больше, нежели сомнений.
- Но кто же, кто же этот суд свершит
- Во имя правды, веры и стремлений?
- Кто наш народ в борьбе объединит,
- Кому ещё известен код успеха?
- Кто всех людей на славу вдохновит,
- Чтоб наступила эры новой веха?
- Движенье мысли – вот уже успех!
- И это есть великое начало,
- Нам надобно понять, что мир для всех,
- А не для шайки воровского клана.
- Повиноваться нужно лишь мечтам,
- А не словам из «Первого» канала,
- Те, что «даруют» будущее нам,
- На горе всем, с Останкинского зала.
- Прими с почтеньем сказанное мной,
- Где мне неведом страх воображенья,
- Пишу от скуки собственной рукой,
- Испытывая к власти лишь презренье.
- Любить её мне не за что, поверь,
- И те слова, увы, не без причины,
- Нам в мир свободы не открыть уж дверь,
- Где сада погибают все куртины.
- Живём мы все по милости творца,
- Никто не знает правильной дороги,
- Конечно, жаль, что вся эта игра
- Напоминает аргусов чертоги.
- Согласен я, что дней… нам не видать,
- Как и любой, замечу, перемены.
- Скажи, поэт, куда же нам бежать
- От всей этой продажности, измены?
- Нет ничего милей родимых мест,
- Где наших дедов, прадедов могилы,
- Что проявляли гордый свой протест,
- Испепеляя вражеские силы.
- Убитых всех, распятых нам не счесть,
- Но память предков – важное стеченье!
- Ведь мы ростки той памяти и есть,
- И нам ли не крепить Руси рожденье!
- Во всём, читатель, нынче ты знаток,
- Ко всем замкам найдёшь свои затворы,
- Но в правоте сознанием чуток
- Не закрывай своих воззрений шторы.
- Будь глашатаем мысли, новизны
- И докажи, что ты знаток участья.
- Поверь на слово: родине сыны
- Нужны сегодня – для любви и счастья!
Походная
- Вперёд, друзья, на подвиг славный!
- Туда, где битвы и дела,
- Где голос века православный
- Звучит для сердца и ума.
- Пусть нам не в тягость будут дружба,
- Веселье звонкое, успех,
- А остальное будет чуждо,
- Но не велик был бы тот грех.
- Пора уйти от заблуждений —
- Прощая всех, чтоб не карать,
- Пусть в битве будет больше мнений,
- Чтоб разбудить России рать.
- Не сотворим себе кумира —
- Какой бы ни был – никогда!
- Но если надо, благость мира
- Мы отстоим с ним навсегда.
- России витязи святые,
- Пусть блещет в ножнах русский штык,
- Чтоб защищать поля родные,
- Чтоб в дом гром пушек не проник.
- В победной страсти выпьем чашу
- За доблесть русскую, Петра…
- И за Россию – славу нашу!
- Что служит верой нам всегда.
Великое право
- Горжусь я нынче русским быть,
- Чтоб о России петь, как в храме,
- Чтоб помнить дружбу и любить,
- Утешить жизнь свою мечтами;
- Любить народ, такой как есть,
- С его природной добротою,
- Чтоб прославлять потомков честь
- Всем сердцем, хладной головою;
- Забыть дремоту, нищету
- Всех старых, новых поколений,
- Чтоб дух измерил высоту,
- Даруя веру в новый гений.
Поэта час
- Мне жребий выпал, чтоб писать,
- И неотступно то влеченье,
- А мне б забыться, не страдать,
- Чтоб исключить судьбы паденье.
- Ведь как поэт я обречён
- (В России любят больше прозу),
- А я срываю правды звон,
- Стеная рифмой – не в угоду.
- Кому понравится певец,
- Представ парнасскою скалою?
- К тому же он и швец, и жнец
- Над утомлённою толпою.
- Отдал бы лавровый венец
- В дыму разврата, униженья
- Тому, кто скажет: «Я – поэт
- России новой, возрожденья!»
- И пусть истории плоды
- В умах восстанут с новой силой,
- Чтоб «гений чистой красоты»
- Читал стихи мне над могилой.
Да, скифы мы
- И снова «Грады», снова бой,
- Дымит земля Новороссии,
- Здесь что ни личность – то герой
- Вблизи границ моей России.
- Суровый век не бережёт —
- Ни мира, жизней, что восстали…
- Огнём предательства всех жжёт,
- Чтоб дети, внуки умирали.
- Ну что за нравы, времена?
- Зачем опять фашистов лица…
- О, Украина! Ты ж страна!
- А не Америки частица.
- Оковы скинь продажных душ,
- Что уготовили терзанье.
- Зачем тебе тяжёлый груз?
- Ведь Бог не примет оправданье.
- Вам русский дух не одолеть,
- Издревле живший в новороссах,
- И ваша западная «плеть»
- Не по размеру для колоссов.
Владимир-град
- Смотрю в окно – огни мерцают,
- Вдали пустынная луна,
- И светом солнечным блистают
- Старинных храмов купола.
- Бессмертных гениев пророки
- Здесь проложили жизни путь,
- Чтоб в вечной радости уроки
- Нам толковали мудрость, суть.
- И чтобы помнились страницы
- Веков прошедших, как печать,
- Чтоб нам Святых ценить – частицы,
- Что дарят силы нам стократ.
- Увитый тёмными холмами
- И благочестием церквей,
- Владимир-град пленит дарами,
- Чтоб ночь казалась нам светлей.
- И в свете вновь звучит молитва
- Как наслажденье, как любовь,
- Чтоб пушек гром, иная битва
- Не холодила в жилах кровь.
- Смотрю в окно, огни мерцают,
- Всё ярче звёзды и луна,
- И всё отчётливей блистают
- России новой купола.
Златая русь
«Каждый должен находить для себя обязанность и побуждение сделаться святым».
Св. Филарет Московский
- Златая Русь! Молитв моих причал,
- Тебя я верен жизнью и судьбою,
- Как люд священный, что любил, страдал,
- От всех врагов прикрыв Тебя собою.
- Испепеляя Светом мрачность дней,
- Воздав хвалу терпению и воли,
- Чтоб Бог сподобил в вере стать сильней,
- Избавив, исцелив Тебя от боли.
- За это Им не нужно гимна лир,
- Другие восхваления и споры.
- Не для того они спасали мир,
- Себя распяв под вражеские взоры.
- Не отступив от мыслей, правды, дум,
- Молитв священных, божеского склада,
- Чтоб сохранить в веках духовность струн
- Великого божественного ряда.
- Ничто не чуждо было им любить,
- Прощать и верить в жертвенные грёзы,
- Чтоб побеждать телесный мир и жить,
- Себе оставив память, боль и слёзы.
- В надежде веря, что наступит час,
- И Русь воспрянет в колокольном звоне,
- Напомнив всем воителям о нас —
- Во всех церквах и храмах, на амвоне.
Из письма
А. Пушкин
- «За сладкий миг свиданья
- Безропотно отдам я жизнь».
- Мне мало прозы, чтоб любить…
- Стихи! О, да! В них есть стремленье,
- Чтоб мне Тебя боготворить,
- Коль есть земное притяженье;
- К тому ж, восторженный порыв!
- Любовь и тайное желанье,
- Что я влюблён и что я жив,
- Что всё сильней к Тебе сознанье.
- Весь мир бледнеет пред тобой.
- Мне скучны сон и пробужденье,
- Я жду того, чтоб быть с тобой, —
- Хотя б на миг, хотя б мгновенье!
Отважным русским сынам
«Мы здесь – и бог наш мщенье».
В. А. Жуковский
- Прошло не много мирных лет,
- Когда не знали мы сражений,
- Предательств, горя, прочих бед
- От разных партий и течений.
- Но вот опять настал тот час,
- Чтоб снова биться за Россию,
- Чтоб снова грозный правды глас
- Угомонил врагов, стихию…
- Не отдадим своей земли
- И небеса свои родные,
- Великолепье старины —
- Всё, чем жива ещё Россия!
- Орда потерпит снова крах,
- Будь укры то иль англосаксы,
- Ведь будем биться не за страх,
- Не за кровавые их баксы.
- Потомки древних воевод
- И полководцев православных
- Зовут и нынче лишь «Вперёд!» —
- Друзей бесценных и державных!
- Уж лучше смерть, чем срам навек
- И боль от гневных русских взоров,
- Мы не должны оставить «след»,
- Тот, что судил бы сам Суворов!
- «Солдатам – вечность! Чести – честь!» —
- Сказал бы он, храня Россию.
- «О, россы! Гряньте миру весть,
- Осуществив мечом мессию!»
Донецк
О росс! О род великодушный!»
Г. Р. Державин
- Не умолкают взрывы вновь —
- «Семерки» NAТО бьют прицельно,
- Повсюду раненые, кровь…
- И всё то зримо, неподдельно.
- Видны страдания людей:
- Их стоны, плач из-под завала.
- «Сюда, сюда, – кричат, – быстрей!
- Здесь мальчик… кровоточит рана…»
- На зов бегут все, кто живой,
- Чтоб уберечь, спасти ребёнка —
- Ведь на войне здесь каждый свой,
- Всем будет братик иль сестрёнка.
- С руин достали… я молю,
- Не дай Господь… такая драма.
- «Терпи, сынок!» – «Я по-тер-плю, —
- Сказал он вдруг. – А где же ма-ма?
- А где мой па-па?» Я в ответ:
- «Найдём, найдём, не огорчайся!
- Пока тебе лишь нужен свет,
- Давай, мой милый, поднимайся!»
- Отца и мать нашли спустя…
- В завалах, обагрённых кровью.
- Где вся трагедия, беда
- Вновь осветилась болью —
- В груди, и сердце, и душе,
- Призвав к ответу «судей»,
- Кто беспрестанно по стране
- Всё бьёт и бьёт с орудий…
- Уж долгих, долгих восемь лет…
- Под натовским напором,
- Чтоб уничтожить Русский Цвет,
- Всем западенским хором!
- Напрасны все ваши дела:
- Пред русскими падёте.
- Трофеем будет им страна,
- Что прозябала в гнёте!
- За всё придётся отвечать
- Безумцам и убийцам
- (Что любят янок ублажать)
- И прочим кровопийцам.
- Никто, враги, вас не спасёт —
- Смерть ваша миром станет!
- И аки Феникс, русский род
- Из пепла вновь восстанет!
Памяти Даши Дугиной
- Убита девушка, на взлёте…
- Благоуханный цвет угас,
- И мы скорбим на «повороте»
- О той, кто радовал всех нас.
- Мир ужаснулся от деянья:
- Кто встал в убийственный сей ряд?
- Кому позволило сознанье
- Взорвать в движении снаряд?
- Кто посягнул, на счастье наше?
- Чей ум пленил весь русский мир?
- Кого обидела так Даша —
- Свободы сладостной кумир?
- Ту, что повсюду узнавали
- За дар божественный, глаза,
- Кого богиней называли
- За смелость, искренность всегда!
- Что было в девочке такое,
- Что напугало всех врагов:
- Укропов, янок, англосаксов,
- Всех, кто не чтит добро, богов.
- Союз родства и узы крови
- Священны были для неё,
- Она отечество святое
- Не променяла ни на что.
- И это свору напугало…
- К тому ж: величественность слов!
- Где дух России прославляла —
- Для новых благ, надежд, свобод!
- Да, нет в Европе ей подобных —
- Великих женщин, умных дам.
- Там льются речи только злобных…
- Да тех, кто склонен к клеветам.
- Узнаем, рано или поздно,
- Кто учинил смертельный акт.
- И в этом будет воля божья
- Раскрыть сей заговор, теракт.
- Как бы убийцы ни хотели,
- От мести Бога не уйти,
- За смерть, что дружно учинили,
- Ждут всех их горькие «плоды».
- А дочь любезную, благую
- В веках потомству не забыть,
- И как героя, как святую,
- Её Россия будет чтить!
Славным защитникам России
- Война не парад и не радость утех,
- Никто здесь не рад, что доносится смех.
- Здесь гибнут товарищи, наши друзья,
- Где укров ристалище – чёрная мгла.
- Всё лезут и лезут… «Огонь… заряжай,
- Нигде не пролезут, сколь ни было б стай, —
- Кричит командир то по воле страстей, —
- А ну-ка, братишки, бандеровцев бей!
- Огонь. Заряжай», – и так тысячу раз,
- Чтоб как в 45‐м победным стал час!
- Жаль, что не все доживут до него,
- Поскольку не знаем конца СВО.
- Но мир будет славен, и радостна весть,
- Пока же зовёт нас одно – только месть.
- За тех, кто живой, и за тех, кто погиб;
- Кто выстрелом в спину в плену был убит;
- Распят на кресте; и сожжён был в хлеву,
- Кто жизнь не жалея отдал за страну.
- Ничто не забудем, ничто не простим
- Врагам ненавистным – ни тем, ни другим.
- Давайте же миром поможем себе,
- Чтоб счастье сияло на русской земле;
- Чтоб нашей дружине победною быть,
- Чтоб всем православным в величии жить!
- «Огонь! Заряжай», – вновь команда слышна,
- Отмщённой стрелою ракета пошла…
- Где враг стал нацистом, где враг был рождён,
- Повержен он будет и побеждён.
- О россы, герои! Победы бойцы,
- Вы гордость Державы, вы Веры сыны!
- Отважен к броням ваш великий сей путь,
- Так пусть же тверда будет воина грудь.
- Пугливых преступников нынче стада,
- Кого только нет, коль Европа тут вся…
- В окопах, снегах им спасения нет,
- Коль шлёт им «Ахмат» всем горячий привет.
- У «Вагнера» тоже не дрогнет рука,
- Чтоб «оптом» отправить всех на облака.
- О русские воины, о царственный род!
- Вы наша надежда, великий оплот!
- Гремите же славой вовеки веков,
- Та, что досталась от дедов, отцов,
- Что вам возвещают мечом возгреметь,
- Чтоб силой удара Россию сберечь.
Уходят парни на войну
- Забыли все про тишину,
- Гремят, утюжа, степи «хармсы».
- Уходят парни на войну,
- Где вновь окопы им казармы.
- Где нет ни света, ни тепла;
- Где лишь снаряды рвутся бегло;
- Где от разрывов темнота
- Скрывает солнце, мир мятежно.
- Бои идут который день…
- Нацистов тьма, конца не видно,
- Видна одна лишь НАТО тень,
- Как всей Европы парадигма.
- Нам отступать никак нельзя —
- Как ни было бы наступленье.
- Задача: бить наверняка!
- Сломав врагов сопротивленье.
- Чтоб взвился вновь российский флаг
- Как символ воли, казни строгой,
- На поле боя, там, где враг
- Идёт кровавою дорогой.
Боевое крещение
- От пуль, снарядов стонет вся земля.
- Спастись, укрыться – где там, всюду «жалят»,
- Но к миномёту тянется рука…
- И вот снаряд прицельно улетает.
- «Осколочным, снарядный, побыстрей, —
- Всё громче слышен голос командира. —
- Наводчик, рассчитай чуток правей,
- Чтоб англосаксам было не до жира».
- И вновь снаряд скрывается вдали,
- Там, где стоят, орудуют нацисты —
- Как в 41‐м, в грозные те дни,
- Когда напали на страну фашисты.
- Но вот и нас накрыл один прилёт:
- Наводчик ранен, командир контужен,
- Но сил набравшись, крикнул он как мог:
- «Не быть врагу, коль мы России служим!»
- Не знаю, чем закончился бы бой,
- Но тут «вертушки» в помощь прилетели,
- И вот уже вдали снарядов зной
- И радость на душе, что уцелели.
Рассказы
Марьин утёс
Наше время ни в чём так не нуждается, как в духовной очевидности. Ибо «сбились мы» и следа нам не видно.
И. Ильин
Было раннее весеннее утро. Тимофей Коськов, открыв глаза, лежал на своей кровати и, ворочаясь с боку на бок, давно уже не мог заснуть – сильно мучила поясница. Да и ноги ещё с вечера тянуло так, что не знал, куда их пристроить. Временами, будто под напряжением, они то и дело импульсивно подёргивались. Укрывшись одеялом, Тимофей говорил не то себе, не то кому‐то: «Погода ноне ломает, и всё к непогоде, будь она неладна. Зима‐то ноне злая была; весну чай просто так не пустит. Подись ещё долго пугать её будет, а тут мучаешься: днём жарко, ночью холодно – где же тут устоишь от всякой ломоты. Непостоянство, одним словом. Вот и крутит, вертит нас непогода в разные стороны. Эх, старость не радость».
Немного покряхтев, Тимофей откинул рукой тяжёлое ватное одеяло к стенке и, кое‐как приподнявшись, сел на край кровати. Непонятная тяжесть и лёгкое головокружение буквально тянули его снова в постель; с большим усилием он встал и, опираясь правой рукой на хромированную дужку кровати, подошёл к своим вещам, лежащим тут же на стуле. Надев старенькие, штопаные штаны прямо на кальсоны и накинув ватную телогрейку без рукавов на нижнюю рубаху, он медленно, пошатываясь из стороны в сторону, побрёл на кухню. Оглядевшись на кухне, он взял с полки кисет с махоркой и тяжело опустился на табуретку у окна.
Отодвинув цветную ситцевую занавеску, он посмотрел на улицу через запотевшие стёкла двойных рам; на скворечнике, прибитом к длинному увесистому берёзовому шесту, он увидел трёх скворцов. Сидя на шестке, словно специально для него они громко выводили весенние рулады: пение соловьем прерывалось кукареканьем, собачьим лаем и звуками, похожими на мычание коровы. Не видя скворцов, можно было подумать, что во дворе находится целый скотный двор.
– Ну бестии, ну дают! – не то с удивлением, не то с восторгом проговорил Тимофей. – Ишь как радуются весне. Да и как ей не радоваться, новой‐то жизни. Слава богу! Худо-бедно зиму пережили. Чего уж там.
В этот момент Тимофей подумал о том, что увидеть первых скворцов в нечётном количестве, а проще говоря, без пары, – примета плохая, в народе бытует мнение, что весь год будешь один.
– Ишь ты, как распелись! – продолжал восхищаться Тимофей, глядя на скворцов. – Прямо как симфония.
– Да мне что, я сам по себе, – вдруг неожиданно проговорил Тимофей не то себе, не то кому‐то.
– Мне ведь уже никого и не нужно. Хватит уже – намаялси.
Держа закрутку, он взял лежащий на столе коробок и, испытывая удовлетворение от зажжённой им спички, прикурил. Не прошло и минуты, как едкий дым махорки, словно утренний туман, наполнил всю избу. Расплываясь белым прозрачным облаком, дым подымался к деревянному потолку, покрашенному белой известью, и словно по волшебству исчезал, растворяясь в невидимых для глаза щелях.
Выкурив не спеша самокрутку, Тимофей подошёл к умывальнику, привычно погладил свою небольшую бороду и, умывшись, проговорил:
– Ну Матрена-ядрёна! Надо идти на улицу да посмотреть, что там ноне за погода. Ох, дел‐то нынче невпроворот, вот ведь как всё бежит, всё течёт.
Выйдя на небольшое дощатое крыльцо, он сразу ощутил весеннее солнце, лучи которого слепили глаза и обдавали лицо, шею каким‐то свежим, утончённым и нежным теплом. Снегу во дворе было не так много, небольшие его кучки лежали только вдоль забора, верхний слой которых, превратившись с ночи в тонкий ледок, блестел и переливался всеми цветами радуги. Несмотря на раннее утро, от снега струились маленькие ручейки, растекаясь, они дружно соединялись за территорией ограды, превращаясь в большой весенний ручей, дружно уносящий весенние воды в местные пруды и озёра.
Птицы, радуясь новому весеннему дню, то тут, то там дружно выясняли отношения. Воробьи, чувствуя себя полноправными хозяевами, атаковали у скворечников непрошеных гостей-скворцов, скворцы же, не уступая, смело атаковали воробьёв, кучкой сидели вокруг скворечника, не подпуская близко своих соперников. Теперь они были жильцами этих небольших домиков, и никто был не вправе на них претендовать.
Со двора, расположенного в пятнадцати шагах от дома, тянулось длинное мычание соседской коровы Красули, кудахтанье кур и звонкое, утреннее пение петуха. В это весеннее, тёплое утро всё оживало и давало о себе знать.
Радуясь происходящему вокруг, Тимофей ощущал всем своим существом, что на смену холодной, долгой зиме вновь пришла долгожданная весна. Весна, которую он с нетерпением ждал и которая вновь позовёт его в дорогу, в дорогие и любимые ему места. Именно там, вдали от дома, он вновь найдёт для себя приют и успокоение, отвлекаясь от всех житейских и бытовых проблем. Рыбалка, общение с природой становились для него той отдушиной, которая создавала свой неповторимый образ жизни, питала прежде всего его душу.
Пройдя через весь двор, Тимофей прошёл в огород и остановился у места, где он ещё с осени начал строить свою новую, уже четвёртую по счёту деревянную лодку – фофанку, названную так в простонародье в честь её конструктора, инженера Российского общества спасения на водах Фан-дер-Флита.
Испытанные временем, лёгкие на ходу и вёслах, довольно безопасные круглоскулые лодки нравились Тимофею, и он с удовольствием принимался их делать.
Заготовки клинкерной обшивки аккуратно лежали на стеллажах, проложенные тоненьким штакетником, благодаря чему все заготовки остались сухими от снега и дождя. Плоское днище лодки, выполняющее одновременно роль кильблока, на часто поставленных гнутых шпангоутах было похоже на скелет какого‐то гигантского животного, он стоял, словно замерев, и ждал своего часа, чтобы, облачившись в клинкерную [1] обшивку, обрести новую жизнь.
Сборочный стапель был сколочен из старых, разной толщины досок. Сбитые при помощи гвоздей друг с другом, они были похожи на большой монолитный плот.
Тимофей подошёл поближе и стал внимательно рассматривать деревянные заготовки: струганные под рубанок узенькие рейки, доски, бруски. Хорошо сохранившись за зиму, они только немного потемнели.
– Не повело, это хорошо, – глядя на обрезные доски, проговорил Тимофей, – ещё день-два, да надо начинать строить, времени‐то в обрез.
Окидывая взглядом разложенные заготовки, он понимал, что работы предстоит сделать ещё очень много, начатое им строительство лодки ещё осенью необходимо было продолжить как можно быстрее, тем более что он всю зиму ждал этих дней, за какой‐то месяц лодку нужно было не только собрать по частям, но и основательно просмолить и вывезти за несколько километров на реку Уньгу – к Марьи-ному утёсу, к его старой бревенчатой заимке, построенной им много лет назад.
Обойдя ещё раз вокруг остова лодки, Тимофей в раздумьях направился в избу, что‐то приговаривая при этом себе под нос. Чувствовалось, что он переживает и волнуется, настраивая себя на большую ответственную работу.
Небольшая деревня Заблуднево, где прожил всю свою жизнь Тимофей Каськов, находилась в шести километрах от центральной усадьбы совхоза «Светлый путь». Название совхоза было хоть и оптимистичное, но вот только в деревне всё было наоборот. На самом деле никакого светлого пути в деревне и не предвиделось, и быть не могло. А причины самые что ни на есть житейские: ни тебе дорог, ни тебе нового жилья, ни тебе работы и всего того, чем живёт и радуется человек в этой непростой и грешной жизни.
Построенные многие десятилетия назад сто с лишним крестьянских домов не знали и не видели даже примитивного ремонта, не говоря уж о чём‐то более серьёзном, крестьяне давно уже разуверились в своём начальстве, которое то и дело менялось и не делало никаких попыток что‐либо изменить в деревне. Жаловаться всё равно было некуда, да и бесполезно: никто ничего не слышал в эти непонятные никому перестроечные годы. К тому же все дома в деревне были давно списаны. Вроде есть деревня и вроде нет её.
Покосившиеся заборы и стайки давно уже не знали и не чувствовали рук человеческих. Эстетика, комфорт и удобства в этой деревне были ни к чему. Хотя себя местное начальство не забывало, строя добротные дома из цельного кругляка, о чём крестьянин и помыслить не мог. Мужики, конечно, говорили в деревне всякие разговоры про жизнь, но, устав ходить с протянутой рукой, смирились с тем, что у них есть, и лучшего уже не ждали.
– Зачем что‐то делать, если можно прожить и без этого, – часто рассуждали мужики за стаканом самогона, – делай, не делай – всё равно помирать, не сегодня, так завтра. На кой нам всё это?
Бабы хоть и были против такого рассуждения, но ничего поделать не могли. Спившиеся давно мужики теряли у баб не только авторитет, но и всякую житейскую помощь.
– От наших мужиков, – говорили некоторые бабы, – как от козла: ни шерсти, ни молока.
– Собрать бы их всех, – вторили им другие, – да в прорубь окаянных, душу ведь они всю вымотали, ни себе, ни детям покоя.
Раньше, при старой власти, отдельная инициатива некоторых крестьян по улучшению своего жилища осуждалась начальством и рассматривалась как буржуазная пропаганда западного образа жизни. Вот и приучили, что при нынешней власти работать уже никто не хотел или разучился. «День прошёл, и слава богу!» – такой принцип в жизни стал основополагающим для большинства крестьян деревни Заблуднево, и лишь беспробудное пьянство и воровство делали эту жизнь разнообразней и содержательней.
Несмотря на такое положение в общественной и социальной жизни деревни, надо отдать должное тому, что большинство молодых людей, чуть окрепнув, понимало всю бесперспективность жизни в этой деревне. При всяком удобном случае молодёжь старалась уехать. Куда угодно, кем угодно, но только подальше от этого безобразия. Да и родители не желали своим чадам зла, потому что все понимали: деревня сгубит и без того обездоленных детей. Вот только решить эту проблему могла не каждая семья. Не найдя возможности уехать, многие оставались работать в совхозе, выстраивая свою жизнь без всяких претензий на будущее.
Лет восемь назад Тимофей Коськов разошёлся со своей женой Нюрой, устав от её пьянок и скандалов. Двое сыновей, Виктор и Василий, хоть и жили с матерью, но часто наведывали отца. Бывало, целыми днями были у него дома, часто ездили летом к нему на рыбалку на Уньгу. Помогая детям, чем придётся, Тимофей всегда жалел о разлуке с ними, но изменить что‐то в своей жизни вряд ли мог, а к старости и совсем смирился с такой жизнью.
Старший сын, Виктор, закончив семь классов, уехал в большой город и, выучившись на слесаря, так и остался там работать. Раза два в год он приезжал в деревню навестить родителей. Высокий, кучерявый, дородный, проходя по деревне, он производил на всех жителей впечатление большого начальника.
В один из приездов в деревню он выфрантился и пошёл в клуб, а там поругался с местной шпаной, назвав их деревенскими козлами, за что был избит до полусмерти. Отлежавшись неделю дома, он уехал из деревни и больше не приезжал.
Васька, заскрёбыш, слывший уже с малолетства хорошим охотником, остался работать в деревне – скотником на ферме. Учёба у него не пошла, да и желания учиться у него никогда особого не было. Парень он вырос крепкий, забубённый, с годами всё чаще прикладывался к бутылке, а хорошо выпив, всегда заедался, не разбирая, где свои, где чужие. Бывало, выпьет – и сразу к отцу в дом, не знаю уж, о чём они говорили и спорили, но только заканчивалось всё это большим скандалом и дракой. Из избы в окна и двери то и дело летели столы, стулья и всякая бытовая утварь. На крики и шум всегда прибегала его бывшая жена Нюра, высокая, статная женщина лет пятидесяти. Врываясь в избу Тимофея, как тигрица, она голосила лихоматом на всю деревню:
– Люди добрые, помогите! Мово Ваську убивают!
И не дожидаясь ни от кого никакой помощи, она бросалась в «объятья» своих родственников и тут же получала дулю под глаз, а то и две. Избитая, в слезах, она выбегала из избы и, стоя у калитки, ругала на чём свет стоит Тимофея и Ваську. Соседи, да и все деревенские жители, давно уже привыкли к такому спектаклю, и мало кто вмешивался в это семейное дело, проблем и без того хватало в каждой семье.
До участкового дело также не доходило, а может, он просто не хотел разбираться в этих семейных отношениях, зная, что назавтра всё равно все помирятся и жизнь снова будет идти своим чередом. К тому же вызвать участкового с центральной фермы было делом очень сложным, телефон в деревне был только в управлении, которое постоянно было закрыто на большой амбарный замок. Надо отметить: выясняя отношения на кулаках, не было случая, чтобы Тимофей или Василий применили оружие, хотя у одного и другого были собственные стволы 16‐го калибра.
В общем, выяснив отношения и подравшись на потеху всей деревне, родственники расходились по домам, если могли, а если не могли, расходились утром, уже на трезвую голову, предварительно помирившись. Так продолжалось несколько последних лет.
Вот уже второй день, как крапал мелкий весенний дождь. Погода стояла пасмурная и холодная. Временами шёл мокрый снег.
Растопив печь, Тимофей молча сидел на кухне у окна и с какой‐то грустью распутывал небольшую снасть для предстоящей рыбалки. Внимательно перебирая тонкие капроновые нити, он находил рваные ячейки и тут же «штопал» их крючком, обвязывая такой же капроновой ниткой одну ячейку за другой.
Часто поглядывая в окно, он с нетерпением ждал хорошей и ясной погоды, ему хотелось встать и в любой момент приступить к работе – строительству лодки, которая подарит ему на всё предстоящее лето живительную свободу, позволит приблизить себя к пониманию духа природы и её красоты. Душа пела и рвалась из ограниченного, душного пространства на просторы, где бы он мог творить и испытывать великое наслаждение от начатого им дела, которое приносило ему не только материальную поддержку, но и большое духовное удовлетворение.
Перебирая всё новые и новые ячейки сети, Тимофей размышлял:
«Разве это сети! Ими же только воробьёв ловить, а не рыбу. Нитка хоть и капроновая, а никуда не годится. Одним словом – срам. И кто их только сейчас выпускает? Мои‐то сети куда крепче были, – Только вот руки уже болят, да и вязать их больно муторно – годы уже не те, что были. Как-никак шестой десяток разменял. Вот наловлю рыбы, продам, да надо будет парочку прикупить настоящих, пока все не сносились, этих на сезон хватить должно», – размышлял он.
Подлатав сети, Тимофей вывесил их «гармошкой» в просторные сени, сделанные им несколько лет назад, где обычно находилась всякая бытовая утварь: вёдра, бидоны с водой, ящики разные и стеклянные банки.
Свисая до самого пола, сети создавали иллюзию какой‐то театральной выгородки, главным режиссёром которой был сам Тимофей. Временами хотелось наблюдать только за его действиями, не ожидая от него никаких слов; небольшого роста, немного сутуловатый, с крепкими мозолистыми руками, почти всегда хмурый, он напоминал исконного русского деловитого мужика. Его действия вызывали уважение. Всё, что он делал, разворачивалось в привычное действие сценария, написанного им самим уже много лет назад. Отличался он от актёра только тем, что не мог, да и не умел импровизировать, а мог выполнять только конкретную, заданную им же самим роль.
Обычно Тимофей брал с собой до пяти снастей, а также небольшой бредешок, на случай приезда сыновей Витьки или Васьки. Места у Марьиного утёса не везде глубокие, поэтому пройтись с бредешком стало делом уже привычным и надёжным. На большой улов надеяться, конечно, не приходилось, а вот на хорошую ушицу рассчитывать можно было всегда.
Корчажки Тимофей плёл из тальника уже будучи на реке, плести объёмные вещи дома было делом хлопотным, да и нужный для работы материал, тальник, должен быть свежим и сочным.
Каждую весну большую часть времени он уделял лодке, поскольку она требовала не только времени, но и серьёзного, бережного отношения. Для этого с осени Тимофей готовил пиломатериал, причём делал он это каждый год – мало ли где подлатать, а где и новую сделать, так как за два-три года лодка приходила в негодность: тяжелела, трескалась от разности температур, и эксплуатировать её было очень опасно.
– Строить лодку, – говорил он сыну Ваське, – это тебе не хвосты крутить у коров, дело тут тонкое и требует всякого искусства, если что не так, то пойдёшь ко дну вместе с лодкой.
Васька всегда обижался на отца за такие слова, но в дискуссию с ним не вступал, а молча разворачивался и уходил.
Распускал брёвна Тимофей обычно на пилораме, что находилась в километре от деревни. Не ахти какая, она всё же давала возможность иметь кой‐какой обрезной материал. Под это дело Тимофей ставил мужикам бутылку, и те с удовольствием прогоняли парочку кубатуристых сосновых брёвен. Сосну Тимофей выбирал не случайно, она обладает хорошей смолистостью и хорошо «держит» воду. Конечно, с лиственницей не сравнишь, но сосна значительно легче, а для работы это очень важно. Диаметр и длину брёвен Тимофей выбирал всегда сам, прикидывая на остаток, важно было не ошибиться в размере нужной доски, необходимой на обшивку лодки.
Когда дело было сделано, тут же выпивали с мужиками бутылку самогона, закусывая чем придётся. Затем Тимофей брал на конюшне лошадь и на телеге привозил всё это хозяйство домой – в огород, где бережно сгружал и раскладывал для дальнейшей сушки.
– Пусть маненько вылежатся, подсохнут на ветру, – говорил он сам себе, прокладывая каждую доску штакетиной, – ветерок сейчас нужен да солнышко, вот они и подсохнут как надо.
При этом он бережно поглаживал каждую доску, словно вселял в неё какую‐то неведомую силу.
Здесь же в огороде под навесом стоял столярный станок – верстак, сделанный им когда‐то, состоящий из крышки и подверстачья. Крышка включала в себя верстачную доску, передние тиски с подкладочной доской, задние тиски с зажимной коробкой и лоток для размещения инструмента во время работы. На прикреплённой к верстаку широкой доске аккуратно размещались разные столярные инструменты: ножовки, рубанки, шерхебели [2], стамески, разные напильники, угольник и многое другое, без чего не обходится в своей работе ни один уважающий себя мастер.
В своё время Тимофей много лет проработал в совхозе столяром, но почему‐то не поладил с управляющим и уволился, а вот инструмент забрал, так как мастерил его сам. Купить всё это хозяйство в магазине было практически невозможно. Небольшой сельмаг торговал только самым необходимым, хлебом, крупами да водкой. Иногда, правда, привозили пиво да селёдку в бочках, а промтоваров не было из-за отсутствия площадей, их можно было заказать заведующей магазином, которая была одновременно и продавцом.
Продукты привозили по бездорожью с центральной фермы два раза в неделю. Везли самое необходимое, поэтому не до столярного инструмента было.
Развесив в сенях очередную подлатанную сеть, Тимофей вышел на небольшое дощатое крыльцо в две ступени, крыльцо было без навеса, поэтому мелкий дождь сеял на его лицо, голову и ватник. При этом отчётливого звука дождя было почти не слышно, лишь изредка с монотонным звуком крупные капли дождя падали на землю с крыши.
– Бог даст, закончится к вечеру, – глядя куда‐то вверх, проговорил Тимофей, – небо‐то вон как располагает…
Тимофей стоял и, не обращая внимания на дождь, направил свой взгляд в сторону огорода, туда, где стоял остов его лодки. Он чувствовал, как его организм наполняется новыми, свежими силами, зовущими его в новый путь, туда, где он сможет обрести уединение, покой. Постояв несколько минут, Тимофей развернулся и зашёл в избу. Стало уже смеркаться, когда в его доме погас свет. Наступившая ночная тишина наводила на грусть и какое‐то одиночество. Расцветший среди чёрных ночных туч багряный закат предвещал завтрашнему весеннему дню солнечную, яркую погоду.
Эту ночь Тимофей спал крепко. Не видя никаких снов и не чувствуя никаких болей в суставах, он проснулся, ослеплённый лучами яркого весеннего солнца. Лучи, пробившись сквозь двойное стекло и шторы, висевшие узкими полосками по обе стороны окна, светили прямо на его кровать. Пряча глаза от ярких солнечных лучей, он старался укрыться одеялом с головой.
В палисаднике под окном, облепив большой куст черёмухи, сидели воробьи и звонко чирикали, возвещая не только Тимофею, но и всему миру о приходе весны; радостное чириканье воробьёв словно приковывало Тимофея к кровати, ему впервые за долгое время не хотелось подыматься, и он нежился, как ребёнок.
– Ишь, расчирикались! Тепло почувствовали. Это хорошо.
Откинув в сторону одеяло и потянувшись, Тимофей проговорил:
– Лежи не лежи, а надоть вставать. Да и время чай уже набежало много. Вон солнце‐то уже какое – видно, день будет на руку.
Встав с постели, он подошёл к кухонному окну и привычно взял кисет с махоркой. Достал тремя пальцами щепотку табака и, завернув его в газетный лоскуток, жадно прикурил. Сделав глубокую затяжку, он вышел на улицу. Дымя крепким самосадом, Тимофей не спеша прошёл по двору, оглядев по – хозяйски, всё ли на месте.
Заиндевелая земля, не прогревшись с ночи, отдавала холодом, лёгкий ночной иней, лежащий повсюду, блестел на солнце; медленно исчезая, он превращался в невидимые капли воды. Сделав круг, Тимофей подошёл к калитке и, облокотившись на неё, почувствовал лёгкий, тёплый ветерок, доносивший до него знакомые запахи сена, навоза и парного молока. Словно мята, этот запах забивал глаза, ноздри и кружил голову.
– День‐то какой нынче разгулялся! – с радостью в душе проговорил Тимофей. – Живи да радуйся. Хорошо!
Сельчане, проходящие мимо, здоровались с ним и интересовались кто здоровьем, кто делами, на что он кивал всем головой и отвечал с той же благодарностью, говоря: «Спасибо! Слава богу, ничего».
– Греешься на солнышке с утра! – услышал Тимофей знакомый голос своего старого приятеля – соседа Кирьяна. Небольшого роста, худощавый, лет шестидесяти, в тёплой клетчатой рубахе навыпуск, Кирьян осторожно, почти крадучись подходил к тому месту, где стоял Тимофей.
– Да вот, маненько греюсь. Чё нам, старикам… Сам не погреешься – уже никто не погреет.
– Это точно! Как здоровье‐то?
– Да вот скрипим понемногу, – ответил Тимофей, делая глубокую, последнюю затяжку от выкуренной почти полностью самокрутки. – А у тебя как?
– Не спрашивай. Вчера вот вечером телевизор посмотрел, – начал разговор Кирьян, – тошно стало.
– А что так?
– Дак прибавку нам опять к пенсии дадуть – аж пятьдесят рублей!
– Ну и хорошо! Хоть и бородавка, а всё‐таки приятно, – с некоторой иронией ответил Тимофей.
– Всё дай сюда, на кусок хлеба.
– Али на заваруху, – подхватил Кирьян.
– Вот-вот. Ты давай-ка заходи в ограду – погуторим да покурим маненько, а я сейчас, табачку только возьму, – произнёс Тимофей и скрылся в сенях.
Закрыв калитку, Кирьян прошёл к невысокой завалинке и сел на нагретые солнцем доски.
Выйдя из сеней через минуту с кисетом махорки, Тимофей сел рядом возле Кирьяна и негромко произнёс:
– Закуривай, Кирьян! Всё одно помирать. Не сегодня, так завтра.
– Ишь ты, прыткий какой, – с удивлением произнёс Кирьян. – Помирать! Ты, я вижу, вон парусник собрался делать, а говоришь – помирать. Небось за границу сбежать хочешь? Там, говорят, жизнь‐то ой какая хорошая! Я тоже по телевизору видел. Ой, как хорошо! Нам и не снилось с тобой.
Тимофей выждал паузу и, размышляя над сказанным Кирьяном, заговорил:
– А на какой хрен эта заграница должна мне сниться, я у себя в Отечестве хочу хорошо жить. Ты вот, Кирьян, телевизор смотришь, а я нет, потому ответь мне, почему всякие там правители отрывают крестьянина от земли и от тех забот, которые она налагает на него, от тех интересов, которыми живёт крестьянин веками на этой земле?
Почему один работает всю жизнь и ничего не имеет, а другой палец о палец не ударит, а добра неисчислимое количество: фабрики там, заводы, станции всякие; они что, строили их али как? А что имеем мы, простой‐то народ? Да ничего! Я разумею, что получается так: кабы не клин да не мох, так бы и плотник издох. Вот я, крестьянин, интересуюсь у тебя: куда же, мать твою, смотрит государство при таких‐то порядках да при таких симптомах? А получается, что никуда! Кругом одни враки да обещания. В общем, я понимаю так, что одна катавасия получается; сколько мы ни бежим от беды, а всё в пропасть попадаем, будь она неладна.
– Ну ты загнул, Тимофей, – ошалело произнёс Кирьян, – на такой вопрос сразу и не ответишь, однако одно могу сказать: каково теля, таково и племя. Нынче кто командует‐то, соображаешь? – Кирьян посмотрел на Тимофея и ткнул себе пальцем в висок. – Одни компьютеры. Они же бесчувственные, им до людей, то есть до нас с тобой, никакого дела нет. Понял? – глядя в глаза Тимофею, произнёс Кирьян. – Это же как в электричестве, ты вот незнамо в эту область полезешь, ну в провода значит, и че-вой‐то замкнёшь, а пробки‐то сразу раз и отключатся. Чуешь, что говорю?
В этот момент Тимофей заинтересовался разговором и неожиданной мыслью Кирьяна и, глядя на него, внимательно ждал дальнейшего развития.
– Хорошо ещё день, – продолжал Кирьян, – а если ночь?
– Ну и что, что ночь? – с непониманием спросил Тимофей.
– А то! Электрик‐то… То во! Неграмотный, стало быть. Вот и бродим мы, блудим все в темноте – лбами стукаемся. А от лучины свету, сам знаешь, немного. Вот я и говорю, неподготовленных‐то начальников хоть пруд пруди, а хороших – днём с огнём не найдёшь, как и у нас в деревне… Вон Петька Горюнов‐то давеча что отчудил – прав нет, а туда же, мать твою! Мало что столб сшиб, так ещё чуть Петровну не задавил. Вот я и говорю, что значит неподготовленность. А таких электриков знаешь сколько… У! как собак нерезаных.
– Здорово, мужики! – раздался неожиданный голос из-за ограды. – На солнышке весеннем греемся – это хорошо!
– Заходите, заходите, Алексей Степанович! – махнув рукой, проговорил Тимофей. – Мы вот тут с Кирьяном с утра житейские вопросы обсуждаем, а получается целая история.
– Что в людях ведётся, то и нас не минётся, – открывая калитку, проговорил Никоноров. Войдя во двор и ещё раз поздоровавшись, Алексей Степанович прошёл к завалинке. Высокого роста, лет семидесяти, в круглых очках он казался человеком грамотным и интеллигентным.
– Это хорошо, когда разговор по душам, – проговорил Никоноров.
– Присаживайтесь, третьим будете, – с улыбкой проговорил Кирьян.
– Спасибо! – ответил Никоноров. – А вы, я вижу, уже с утра разговоры разговариваете. Это хорошо!
– А что нам ещё делать, молодым да неженатым, как не гуторить, – з аговорил Кирьян. – Н ынче все любят это дело, результатов вот только нет от этих разговоров, ядрёно корень.
– Это точно! – согласился Никоноров.
– Вот скажите, Алексей Степаныч, – начал разговор Тимофей, – вы человек грамотный, просвещённый значит, так разъясните нам, как бывший учитель, – почему же ноне нет никакой справедливости, а только есть пагубность и зло? У нас тут с Кирьяном какая‐то карусель получается – куда ни кинь, всюду клин. Кругом, как говорит Кирьян, одна темнота!
– Да! Разговоры, вижу, у вас с утра серьёзные, только вот сразу на них и не ответишь – больно уж мудрёные. У нас ведь как: по одну сторону море, по другую горе, по третью мох, по четвёртую «ох!». Ты как рыбак, Тимофей, должен знать, что в мутной воде рыбу ловить лучше. А люди – они существа слабые, им ведь что надо в жизни больше всего? Развлечения, наслаждения, удовольствия, а это всё больших денег стоит, а где их взять, если не украсть‐то. Вот и мутят воду те, кому это выгодно. А затем эта мутная река выходит из берегов и несётся по России- матушке, сметая всё на своём пути и порождая зло, ненависть, конфликты разные, бедность, несправедливость и много ещё чего такого, что мы не знаем. И нет ей предела, ни во времени, ни в пространстве. Да и как преодолеть‐то всё это, если мы столько лет жили без покаяния и веры, без промысла Божьего.
Мало нынче внимания человеку‐то, а ведь он, человек‐то, влияет на всё общество, всё равно как зуб заболит; заболит – и весь человек в смятении; и в этом состоянии он излучает свою беду на всех окружающих. А если с такой болью в нашем обществе миллионы людей, то, что мы хотим? Вот и смекайте!
– Да! Целая наука получается, только вот от маленькой рыбки толку‐то никакого, – проговорил Тимофей. – Воду мутит та рыба, которая покрупнее да позубастее…
– Это точно! – прервав Тимофея, заговорил Кирьян. – Нынче этой рыбы развелось – хоть пруд пруди. Я тут по телевизору видел, что у больших начальников есть даже свой, этот, как же его, а, вспомнил – этикет, он ещё называется по-ихнему кор-по-ра-тивный. О! Вспомнил.
– Это что ещё за хреновина? – повернувшись к Кирьяну, спросил Тимофей.
– А это когда все знают, но никому не говорят про это. Покрывают, значит, друг друга, и Вася не чешись. Мол, ничего не знаю, ничего не видел про это.
– Так это мафия, – вдруг неожиданно для себя выпалил Тимофей.
– А вот не знаю, не знаю, – не то с испугом, не то с недоверием проговорил Кирьян, – слова- то уж больно разные. Да и потом я слышал, что мафия‐то только за границей, а у нас этот, как его, тьфу ты, опять забыл…
– Корпоративный, – выговорил Никоноров.
– О, правильно, Степаныч! – корпоративный. Это ж надоть! Я вот что думаю, мужики: как бы хорошо было у нас в деревне с этим этикетом – наши бабы вовек бы не узнали про нас – про мужиков‐то.
Представляете, я на прошлой неделе купил у Степаниды бутылку самогона, так через два часа моя жинка уже знала и такой разгон Степаниде учинила, что та чуть кипятком мою не отвадила. А так, с этикетом‐то, никто бы и не узнал – все бы молчали. Вот ведь штука какая получается!
Поговорив ещё несколько минут на актуальные жизненные темы, Кирьян и Никоноров, один за другим, пошли по домам, ссылаясь на утренние дела по хозяйству. Не находя нужных ответов на поставленные вопросы, они уносили с собой горечь и разочарование той жизнью, в которой они ещё существовали.
Пройдя в дом, Тимофей растопил печь и, заварив в чайнике пару веточек душнички, с наслаждением, не спеша стал пить чай вприкуску. Аромат распаренной в чайнике травы в считанные минуты наполнил избу каким‐то особым, неповторимым природным духом, напоминающим зелёный, цветущий луг.
Позавтракав, он вышел в огород к столярке. Убрав брезент с досок и самого каркаса будущей лодки, он уловил приятный, ни с чем не сравнимый запах свежей сосновой смолы. Торчащие от днища лодки с двух сторон шпангоуты были сделаны из толстых, цельных сосновых брусков.
– Начало есть, – глядя на каркас лодки, произнёс Тимофей, – а значит, и конец будет, тут, если по-хорошему, работы ещё недельки на три-четыре, – и добавил: – Глаза боятся – руки делают!
В этот день Тимофей работал до самого вечера, строгал, пилил, тесал топором, что‐то вымерял – в общем, к концу дня намотал вокруг лодки не одну сотню метров. Так было и в последующие дни. Несмотря на страшную усталость, Тимофей работал с полной отдачей сил, изредка отвлекаясь от работы. Васька заходил редко, но даже тогда, когда он был, отцу не помогал, ссылаясь на занятость. Как раз пришло время выгонять стада коров на пастбища, так как корма на ферме давно уже закончились и кормить коров было уже нечем, а требующаяся ежедневно по рациону овсянка разворовывалась самими же скотниками да доярками – им тоже надо было чем‐то кормить свою скотину. Зная характер сына, Тимофей не обижался на это, а только иногда говорил: «Помни, Васька: ноги носят, а руки кормят», – но Васька только молча махал рукой и уходил.
Вот уже который день работа шла своим чередом. Обвязка лодки шла медленно, но уверенно. Подгоняя к первому форштевню [3] обшивку, Тимофей крепил её на столярный клей и шурупы. Далее он изгибал рейку к следующим двум-трём шпангоутам одновременно по линии борта струбциной [4] и так же крепил с помощью клея и шурупов, так он проходил по всем шпангоутам. Установив рейку на одном борту, он то же самое делал на другом. Работать одному было удобно, но иногда требовался и помощник: поддержать доску, зажать струбцину, передвинуть лодку. Тимофей иногда сердился, ругался, но быстро успокаивался, зная, что всё равно ничего не изменится от этой нервотрёпки.
Поверхность каждой установленной рейки Тимофей намазывал столярным клеем, как и участок шпангоута, где она к нему примыкает. В промежутках между шпангоутами, в шпациях, рейки крепились на небольшие гвоздики. Тимофей аккуратно, чтобы не расколоть края реек, вбивал гвозди и тщательно всматривался в дерево, всё ли он сделал хорошо. Пробив рейки, он брал пробойник и утапливал с осторожностью лекаря все шляпки забитых им гвоздей и шурупов. Это давало возможность снимать малку при установке следующей рейки. Чтобы избежать перекоса набора, Тимофей вымерял на десять рядов каждую рейку по отношению к другому борту. Увлечённо работая, Тимофей не замечал, как проходило время. Он был уверен, что к началу июня лодка всё равно будет готова; перекуривая, он смотрел на свою работу и сам с собой говорил:
– К Иванову дню (седьмого июня), бог даст, перевезу тебя на Уньгу, к Марьиному утёсу. К этому времени и вода уже спадает, да и кусты зацветают дружно, а значит, и заморозков ночных можно не бояться – для рыбалки оно ведь всё важно.
От столярной работы Тимофей отвлекался и на огород, нужно было достать картошку из погреба на семена, подготовить землю для посадок, подлатать старенький забор, накренившийся от больших сугробов, да и так, по мелочи.
– Рыбалка рыбалкой, а огород посадить надоть, – говорил он Ваське в очередной раз, – зима длинная, без огорода не проживёшь, а с огородом и душа спокойней, и желудок сытый.
Ваське не доставляла эта работа никакого удовольствия, но при случае он помогал отцу, вскапывая то одну, то другую грядку под посадку овощей или ремонтируя упавший с зимы забор. И хотя земля ещё была сыроватой, но Тимофея эта работа всегда радовала и располагала к беседе с сыном. Правда, Васька всё больше отмалчивался и неохотно шёл на разговор с отцом. Насупившись, он делал определённую работу, а затем незаметно исчезал, на что Тимофей, всегда огорчаясь, говорил: «Наши в поле не робеют и на печке не дрожат. Ишь, обалдуй! Опять сбежал».
Прежние годы Тимофей держал небольшое хозяйство: два десятка курочек, поросёнка и несколько коз. А вот в последнее время от этого дела отказался. Причина была одна: уезжая на всё лето на Уньгу, скотина оставалась без особого присмотра. Хотя Васька и присматривал, соседи часто жаловались на то, что козы опять залезли то в огород, то в палисадник… В общем, чтобы не ссориться с соседями, в один прекрасный момент Тимофей переколол всю скотину. И с тех пор, кроме кошек, в хозяйстве у него никого не было. А всякой еды зимой ему и так хватало: овощи, солёная, вяленая рыба, соленья – всё было, не бедствовал. А мясо зарабатывал тем, что колол свиней да забивал коров. Не каждому это было по плечу, а он знал это дело хорошо. За свою работу брал, что называется, чистым весом: килограмма по три, четыре, а то и больше. Так вот и жил все эти годы.
Заканчивался последний день мая. Тимофей с самого утра делал последнюю обвязку рейками шпангоутов. Двухместная лодка практически была готова. Перекуривая, он с наслаждением смотрел на лодку и говорил:
– Вот ведь как получается – из ничего! – И тут же добавлял: – Д а, есть ещё порох в пороховницах!
В этот день Тимофей ещё не раз подходил к лодке, радуясь и наслаждаясь тем, что сумел сделать.
На следующий день с утра, не успев попить чаю, он принялся обрабатывать внешнюю поверхность лодки рубанком. Видно было, что он мастерски владел этим инструментом. Не спеша, без всякого напряжения он почти механически водил рубанком то вперёд, то назад, располагая его под углом к направлению реек. Тоненькая, почти воздушная стружка струилась от рубанка и падала одна за другой на стапель. После рубанка, Тимофей два дня шлифовал корпус лодки абразивным кругом, доводя каждую рейку до совершенства.
Первые дни июня Тимофей посвятил оклейке корпуса стеклотканью, её в своё время, в большом количестве, завезли в деревню для обмотки труб с горячей водой, идущих от кочегарки к деревенской школе. Клеил стеклоткань Тимофей на горячий битум в два, а то и в три слоя. Однако, несмотря на это, такая технология делала лодку уязвимой для воды, так как на жаре гудрон плавился и появлялись трещины, но эпоксидной смолы не было, и он довольствовался тем, что было под рукой. Внутреннюю часть лодки Тимофей так же обрабатывал, а затем покрывал горячей олифой. Работа шла к завершению. Оставалось совсем немногое: установка подключин и оборудования под носовой банкой, небольшого ящичка для рыболовных снастей. На эту работу он планировал отвести один день.
К вечеру пятого июня лодка уже стояла на кильблоке в полной готовности к спуску на воду. Её черный, смолистый от гудрона цвет бортов поблёскивал в вечернем свете ламп, висевших тут же, рядом со столяркой; разогретый за день на солнце гудрон обмяк по всему корпусу лодки, сгладив все неровности на поверхности лодки, придав ей ещё более обтекаемую и совершенную форму.
– Давай, давай я тебя прикрою, – гордо сказал Тимофей, глядя на своё детище. – Ай да красавица! Ай да умница! Вот так‐то оно лучше!
Присев рядом на небольшое бревно, лежащее возле лодки, он нежно дотронулся рукой до верхней рейки и, похлопывая по ней, словно пытаясь обратить внимание на себя, тихо, как бы в раздумье заговорил:
– Надоть помаленьку собираться. Вон жара‐то какая стоит! Пенсию на днях вот принесут и поедем. Нам что! Не семеро же по лавкам.
И помолчав пару минут, тут же подумал:
«Васька куда‐то опять пропал? Не забегал ко мне уже который день. Ох и обалдуй же растёт! Не нагуляется всё! Ну да ладно, дело молодое. Разберётся! А так помог бы мне… дел то ещё много! Самое главное сейчас погрузить и довести лодку… И сделать это надо за один раз».
От всех этих мыслей он тяжело поднялся с бревна и, растирая рукой поясницу, сам себе сказал: «Что‐то я пристал ноне. Всё крутишьси, крутишьси… надо идти отдыхать. Да и ты, родная, отдыхай, – сказал он, глядя, на лодку, – чай уже поздно».
На следующий день Тимофей проснулся рано, многое надо было сделать к отъезду: подготовить и собрать рыболовные снасти, сходить на конюшню, убраться в доме, да и так, по мелочи.
Просмотрев ещё раз все вещи, собранные им накануне для отъезда, Тимофей вышел во двор и, тяжело вздохнув, произнёс:
– Всё увезти сразу‐то не удастся. Ну да ладно. Через неделю, не загадавши, Васька довезёт – не проблема, за рыбой приедет, вот и привезёт, если поймаю, конечно. Да поймаю, куда я денусь‐то. Не впервой, чай.
Поработав немного во дворе, Тимофей закрыл сени на висячий замок без ключа и направился на конный двор, находившийся прямо за деревней.
Договорившись ещё с вечера с конюхом, Тимофей без особого труда запряг лошадь в телегу-длинномер и поехал к дому. Запрягать лошадь он научился ещё с молодости, хитрого тут ничего для него не было, а кое-что из упряжи мастерил даже сам.
Удобная для перевозки длинных, габаритных грузов телега была единственным в своём роде транспортным средством на конюшне. Длинная, с широкими бортами, она использовалась в основном для перевозки срубленных берёзовых хлыстов из лесу. Тимофей вот уже который год использовал её для транспортировки своей лодки.
Пофыркивая и мотая головой в разные стороны, Белогубка, так звали лошадь, шла размеренным, спокойным шагом, утопая в размытой вешней водой и разъезженной тракторами дороге. Большое белое пятно на нижней губе отличало её от всех остальных лошадей. Поэтому и название такое дали – Белогубка. Спокойная, без всяких капризов лошадь была любимицей у всех деревенских жителей, особенно мальчишек.
Расстояние от конного двора до дома было небольшое. Уже через несколько минут Тимофей подъезжал к дому, к тому месту, где стояла его лодка. Привязав повод узды к штакетнику, он прошёл к столярке и, взяв молоток, легко отбил, как раз напротив лодки, проём ограды для того, чтобы заехать в огород – поближе к стапелю. До лодки оставалось несколько метров, когда он остановил лошадь. Рядом с колёсами, напыжившись рыхлым чернозёмом, тянулись ухоженные, разной длины грядки моркови, лука, свеклы, гороха, посаженные Тимофеем совсем недавно.
– Ах вы, мои хорошие! Ах вы, мои пригожие! Вот ведь штука какая получается, – ласково проговорил Тимофей, наклоняясь к грядкам, – чуть весь труд насмарку не пошёл. Ну надо же, а! Слава богу! Приметил…
– Ты с кем это так гуторишь? – послышался голос из-за ограды.
Выпрямившись, Тимофей повернул голову и увидел Кирьяна.
– Да вот, с грядками вожусь. Чуть коту под хвост не пустил всю работу…
– Поспешишь – людей насмешишь! – съязвил тут же Кирьян. – Это бывает. Груз‐то, вижу, немалый будить у тебя! Ишь, как вылепил! Как новая будить! Ты, Тимофей, на ней чай до окияна доплывёшь, только вот не могу понять, на парусах ты али на вёслах?
– На вёслах, на вёслах, – пробурчал Тимофей.
– Да я уже вижу… Рыбкой‐то угостишь, ай как?
– Рыбу‐то поймать ещё надо! Ты вот чем задавать вопросы, лодку помоги погрузить. Рыбы он захотел… Я тоже много чего хочу, да молчу. Помогай давай, коли пришёл!
Кирьян зашёл в огород, подошёл к Тимофею и спросил:
– А Васька, где твой опять носится, аль не знает, что ты здесь один маисси?
– Да кто его знает, где он опять носится. Однако должен быть, окаянный. Жду вот! – немного недовольно ответил Тимофей.
Положив на край телеги, заранее приготовленные две струганые, толстые жердины, Тимофей подошёл к лодке и, перекрестившись, произнёс:
– Ну, с богом!
Встав на противоположную сторону от Тимофея, Кирьян ловко ухватил обеими руками за верхнюю рейку и, напрягаясь всеми своими силами, потащил лодку вверх, лодка без особых усилий легла на жерди и даже продвинулась вперёд.
– Да ты сильно‐то не толкай, Кирьян! Она же не тяжёлая. Всего‐то, килограммов двести, – с воодушевлением и радостью в голосе произнёс Тимофей.
– По сто, значит, на брата, – подхватил Кирьян. – Эх, добавить бы ещё граммов по сто! Ты как, Тимофей, не супротив?
– Успеем ещё добавить, давай толкай, не разговаривай! Это тебе не хухры-мухры, а процесс… Его прерывать нельзя, даже разговорами, – хрипя от напряжения, проговорил Тимофей, не то для себя, не то для Кирьяна. В этот момент лодка медленно, но уверенно скользила по жердям, продвигаясь к центру телеги.
– Давай я подержу лодку спереди, а ты толкани её сзади, – предложил Кирьян. – Да смотри осторожно, лошадь не убей! Сила‐то у тебя вон какая!
Тимофей отпустил лодку, быстро подошёл к корме и со словами: «Ну, милая! Пошла помаленьку!» – всей своей мощью приподняв лодку от жердин, на уровень груди, с силой толканул её вперед.
Белогубка, услышав знакомые ей уже многие годы слова: «Ну, милая! Пошла», – и почувствовав резкий толчок сзади, взметнула голову и быстро пошла на выход из огорода – к светившемуся впереди пустотой проёму.
– Стой! Стой! Мать твою! – закричал растерявшийся в этот момент Кирьян, удерживая впереди лодку со всей силы. Мотая головой и не понимая, о чём идёт речь, кобыла быстро продолжала идти вперёд.
– За узду, за узду держи её, Кирьян! От, окаянная, да чтоб тебя! – Кирьян, бросив лодку, побежал останавливать лошадь. Лодка тут же потеряла равновесие и всей своей тяжестью «просела» на Тимофея.
– Да стой же ты, мать твою! – кричал Кирьян, останавливая уже выходящую из огорода кобылу. В этот момент, чтобы лодка совсем не упала с телеги на землю, Тимофей изо всех сил удерживал её на руках.
– Кирьян! помоги, – с надрывом произнёс Тимофей. – Помоги, а то соскользнёт, не ровён час…
Подбежавший на подмогу Кирьян тут же подставил плечо и с силой толкнул пару раз лодку вперёд, лодка тяжело, как бы сопротивляясь, покачнулась из стороны в сторону и, продвинувшись, встала по месту. Облокотившись на край телеги и закрыв на какое‐то мгновение глаза, Тимофей тяжело вздохнул:
– Вот окаянная, а! Прямо конфуз какой‐то. Ну и дела! – Вытирая рукой со лба пот и тяжело дыша, Тимофей отошёл в сторону и, присев, произнёс: – Ничего, ничего. Вот посижу, и всё пройдёт. Ну надо же, а!
– На такой кобыле тебе, Тимофей, и парусов не надоть. Ишь какая резвая, мать твою в дышло. Прихватило, кажись, крепко, али обойдёсси? – показывая на сердце, с тревогой произнёс Кирьян.
– Ничего, ничего, отойдёт – не впервой!
– А то давай я мигом за фелшором сбегаю – тут дело такое.
– Не надо, – махнув рукой, устало ответил Тимофей. Наступившая тяжёлая пауза в разговоре прервалась вопросом Кирьяна:
– Не одиноко будить, на реке‐то?
– Так я не один буду‐то, – оживившись от неожиданного вопроса, немного задыхаясь, ответил Тимофей. – Кругом красота, природа. Сердце радуется лучше, чем с людьми. – И как бы в размышлении, уже не для Кирьяна, а для себя продолжал говорить: – В природе человек ведь забывает себя: он живёт с другими, он живёт в других. В природе пустоты не бывает…
– А вон и Васька твой на помине! Ишь, как вовремя. Гулеван! – неожиданно произнёс Кирьян. И тут же, обращаясь к Тимофею, добавил: – Ладно, пойду я до дому, помощник таперича у тебя есть, а у меня дел‐то невпроворот, сам знаешь… Не ровен час, баба прибежить, скандалу опять не оберёсси. Ну, будь здоров! Смотри там, сильно‐то не шуткуй…
Проводив Кирьяна, Тимофей ещё несколько минут сидел на бревне с какой‐то тупой, непонятной ему доселе болью в сердце, думая в надежде, что это пройдёт и скоро забудется, как бывало не раз.
Был уже полдень. Сложив все пожитки в лодку, стоящую на телеге, Тимофей с Васькой отъехали от дома. Дорога была не близкая, да и Ваське нужно было вернуться домой ещё засветло, чтобы выпрячь и отпустить лошадь в загон.
Проехав всю деревню, они спустились в ложбину и выехали к широкому пруду. Длинная насыпная дамба, перегораживающая ложбину, тянулась с одного берега на другой широкой разъезженной колеёй. Из бетонной трубы, торчащей из середины дамбы, падали мощные, оглушающие потоки воды, напоминающие небольшой водопад. Над образовавшейся от воды котловиной клубился белый, искрящийся пар; играя в лучах солнечного света, он переливался и светил всеми цветами радуги. Осторожно переехав на другой берег, Тимофей остановил Белогубку и не спеша, цепляясь обеими руками за лодку, слез с телеги.
– Дорогу за весну совсем изгадили, а гора крутая, тяжеловато будет, ишь как размыло‐то всё. Маленько пройдусь, всё полегче лошади будет. Но, милая, но! – дёргая на себя вожжи, произнёс Тимофей.
Выслушав отца и посидев ещё несколько минут, Васька на ходу спрыгнул с телеги и молча тоже пошёл пешком, подталкивая одной рукой груз. Подымаясь молча в гору, Тимофей обернулся и с грустью посмотрел на деревню, ни дома, ни крыши уже не было видно. Лишь в своём воображении Тимофей на секунду представил свой дом, огород…
«Посадки посадками, да поливать надо! – проговорил Тимофей про себя. – А то, как же, вся надежда на Ваську. Хотя чего там грешить, в прошлом году он не подвёл. Молодец!»
Поднявшись в гору, Белогубка остановилась, оправилась по нужде и медленно, без понукания, пошла дальше. Впереди была равнина с частыми перелесками и чёрной пахотой, тянувшейся вдоль всей дороги. Приятное поскрипывание колёс сменялось весёлым, звонким пением жаворонка, кружившего над ними высоко в облаках. Лёгкий ветерок обдувал лицо Тимофея и разгонял наплывшую грусть и усталость.
– Давай-ка, Васька, прокатимси немного, дорога‐то длинная, ещё умаемся. – Остановив лошадь, Тимофей осторожно залез на телегу.
– А ну, Васька! Прыгай сюда, в ногах правды нет, нам ещё половину пути ехать.
Заскочив прямо в лодку, Васька, скрючившись, сел между вещей и, положив голову на что‐то мягкое, закрыл глаза.
– Ну, милая, пошла! – крикнул Тимофей, дёрнув на себя вожжи. Махнув хвостом, как бы соглашаясь, Белогубка легко побежала рысцой, всё дальше и дальше удаляясь от родной деревни.
– Обратно, когда приедешь в деревню, не забывай по дому смотреть да за огородом, – обращаясь к сыну, произнёс Тимофей. – Через неделю, время будет, приедешь за рыбой, хоть немного, но всё дай сюда. Да мать смотри не обижай, чего уж там… – И как бы в наставление, после некоторого молчания, сказал: – Ты, Васька, сердце больше слушай, как оно скажет, так и делай. Оно не обманет.
Не меняя положения, Васька продолжал лежать, слушая, что говорит отец.
– Да я и так слушаю, – неожиданно для Тимофея ответил Васька.
– Вот-вот, я и говорю, сынок, надо слушать. Это хорошо!
Глядя вперёд, Тимофей увидел недалеко от дороги место, где ещё совсем недавно стоял высокий деревянный маяк. В юности, часто бывая на Уньге и преодолевая этот путь пешком с мальчишками, они всегда останавливались возле него, а иногда, пытаясь доказать друг другу смелость, даже залезали.
В то время он казался всем мальчишкам каким‐то символом, вселяющим спасительную надежду и дающим правильные ориентиры. Тимофей всегда знал, что выйти на маяк – значит выйти на правильный путь, сбиться с которого очень трудно: по одну стороны была река Уньга, по другую – родная деревня. Зачем и почему убрали маяк, Тимофей не знал, хотя по прошествии стольких лет при виде этого места Тимофей всегда останавливался и всматривался теперь уже в заросшую травой и кустарником полосу, на которой не осталось никаких признаков этого архитектурного сооружения.
Взглянув ещё раз на то место, где стоял маяк, Тимофей отвернулся и молча стал глядеть на дорогу, назвать которую этим словом было трудно. Размытая весенними водами и вспаханная до глины тракторами, она была тяжела даже для лошади. Переваливаясь с одной борозды на другую, телега шумно поскрипывала, временами казалось, что она может вот-вот развалиться на части.
– Давай, давай, милая, ещё немного! – дёргая вожжами, повторял Тимофей. – Совсем чуток осталось. Вот спустимся и, кажись, приедем.
Дорога, идущая в ложбину, была похожа на заросшую травой тропинку; малоприметная, она уходила в березняк и сразу терялась из виду. Проехав по лесной дороге метров пятьсот, они выехали из леса и спустились с горки на прибрежную поляну, усеянную оранжевыми огоньками; словно горящим заревом встречала она Тимофея и Ваську. Цветущий прибрежный оазис был похож на живописную, только что написанную талантливым художником картину, только пахнущую не красками и лаками, а свежей травой и цветами клевера, медуницы, чабреца, зверобоя, чистотела. Запах кружил голову, проникая глубочайшим чувством божественного смысла в его сознание и душу, рождая особое благостное состояние.
– Будет тебе ещё, будет! Ишь, разбежалась, – сдерживая вожжами порыв лошади, говорил Тимофей. – Считай, что приехали. Слава Богу!
Очнувшись от лёгкой дрёмы, Васька молча спрыгнул с телеги на траву и пошёл рядом с лошадью, с интересом рассматривая всё кругом. Вдали хорошо просматривалась излучина реки и высокий, обрывистый противоположный берег Уньги, на котором густой стеной возвышался изумрудного цвета тальник и прочая растительность.
– Вот и приехали, – произнёс Тимофей, поворачивая лошадь к тропинке, идущей вдоль берега реки. – А вон и заимка виднеется. Вроде стоит, родная.
Проехав ложбину, заросшую невысокой травой, кустами черёмухи и калиной, Тимофей выехал на поляну, где укромно стояла рубленная из соснового кругляка заимка.
Ладно сложенная, почерневшая от бурь и непогоды, она будто вросла своими мощными корнями в землю в ожидании своего надёжного хозяина. Хозяина, который мог бы вселить в неё свою надежду и силу для дальнейшего её существования. Провалившаяся в некоторых местах пологая крыша зияла дырами разного калибра. Дверь была открыта настежь, небольшое окно выбито и смотрелось издали тёмным пятном. Несмотря на неприглядный внешний вид заимки, она радовала и наполняла сердце и душу Тимофея родным и светлым образом.
Прежде чем Тимофей остановил лошадь, где можно было спустить лодку на воду, Васька уже зашёл внутрь заимки; почувствовав запах сырости, неухоженности и грязи, он быстро вышел и, отойдя на несколько метров от избушки, остановился.
– Ну, что там? – с нескрываемым интересом спросил Тимофей.
– Да ничего хорошего: сыро, грязно да раскидано всё, в общем, один бардак.
– Дело поправимое! Печка‐то стоит?
– Да стоит, стоит, куда она денется!
– Латать крышу вон надо! – глядя куда‐то вверх, произнёс Васька.
– Дело привычное, залатаем! Глаза страшатся, а руки делают, – спокойно ответил Тимофей и тут же добавил: – В лесу не без зверя, в людях не без лиха. Ну да ладно, чего уж там! Дело житейское, поправимое. Хоть не спалили, и то хорошо. Бог им судья!
Тимофей подошёл к заимке, молча заглянул внутрь и, постояв несколько минут у раскрытой двери, не спеша направился к берегу, при этом сказав:
– Пойдём, Васька, разгрузимся, да ехать уже пора.
Телега с лодкой стояла у пологого берега реки. Поднявшийся уровень воды значительно облегчал задачу по разгрузке лодки. Перенеся небольшие пожитки, а также все рыболовные снасти ближе к заимке, Тимофей и Васька без особых трудностей спустили на шестах лодку с телеги прямо в воду. Качаясь на мелкой ряби возле самого берега, лодка вызывала гордость и пробуждала у Тимофея страсть и желание поскорее выйти на перекаты и заняться рыбалкой. Закрепив лодку на берегу, Тимофей подошёл к Белогубке и, взяв её под уздцы, развернул телегу в противоположную от реки сторону.
– Давай, Васька, поезжай! Пока ещё доедешь. Да не гони сильно‐то – чай не на свадьбу. На той неделе смотри подъезжай – буду ждать! Бочку, что в сенях стоит, возьми – да не забудь, а так вроде всё. Ну, давай, езжай с богом!
Васька сел в телегу и, резко дёрнув на себя вожжи, крикнул:
– Но! Пошла, шельма!
Понимая, чего от неё требуют, Белогубка быстро тронулась с места. Пройдя несколько шагов, она вдруг встала как вкопанная. Повернув голову в сторону Тимофея, она поглядела на него с какой‐то необъяснимой грустью, будто прося прощения или, по крайней мере, какого‐то снисхождения.
– А ну пошла! – крикнул Васька и, изогнувшись, ударил вожжами лошадь. – Ох ты, шельма… Но!
Тимофей молча опустил глаза и, развернувшись, направился к избушке. Фырканье лошади и поскрипывание колёс с каждой минутой удалялись от него. Уже через несколько минут вокруг него стояла какая‐то умиротворённая тишина, и только жужжание ос, поселившихся под крышей заимки, напоминало о существовании жизни.
Несмотря на конец первой декады июня, уровень воды в Уньге оставался ещё высоким. Небольшие островки были покрыты водой, и только торчащие верхушки кустарника обозначали чёткие их границы. Вода, поднявшаяся не несколько сантиметров, затопила прибрежные деревья: ивы, черёмуху и берёзы. Стоя в воде, они были одиноки и печальны, нижние ветки будто боялись касаться поверхности воды; качаясь на ветру, они вздрагивали, то и дело подымая их вверх.
На пологих берегах по обе стороны реки кое-где лежали длинные брёвна ели, сосны, а также причудливые коряги, выброшенные течением реки. Вдали, на горизонте, освещённые лучами летнего солнца, гуськом тянулись длинные белые облака; наплывая друг на друга, они принимали причудливые формы, периодически растворяясь в невидимую воздушную дымку.
От заимки открывался красивый вид на реку и высокий скалистый берег – Марьин утёс, видневшийся в пятистах метрах по течению реки. Своё название, как сказывали старожилы, утёс получил в честь девушки, погибшей здесь много лет назад, ещё в пятидесятые годы прошлого века. «Расписанный» разными матерными словами, он будто напоминал всем, кто был и будет ещё здесь, что таинство природы с этого места заканчивается и начинается человеческое присутствие.
Последние годы Тимофей замечал, что река становится мельче, а рыбы в ней всё меньше. Причины тому были разные, но главные заключались всё в той же бесхозяйственности и уродливом отношении к реке и природе в целом.
В реку, особенно в последние годы, всё больше поступали токсичные индустриальные и сельскохозяйственные стоки. В результате этого многие виды рыб просто исчезли, судак, линь, таймень, белоглазка, ерш давно уже стали редкостью для здешних рыбаков, редкостью стали они и для Тимофея. Берега стали обрастать осокой и мелким кустарником. Река заметно стала мелеть, рождая всё новые и новые островки, покрытые тиной и травой.
Несмотря на это, любовь к природе и рыбалке разжигала у него с каждым годом всё новую и новую страсть. Погружаясь в светлую, чувственную поэзию жизни, Тимофей старался находить в ней ту отдушину, какой не хватало в обыденной суете. «Боги не засчитывают в счёт жизни время, проведённое на рыбной ловле», – любил часто говорить Тимофей своим односельчанам при удобном случае. И действительно, излюбленным видом рыбалки для Тимофея была ловля рыбы, и особенно с лодки. В ней он мог находиться часами, не утомляясь и не обращая внимания на быстро бегущее время, увлекаясь и разглядывая одновременно зелёные берега или различные отмели среди глубин, или, наоборот, глубокие канавы на мелях, а иногда долго всматриваясь в песчаный или галечный грунт, хранивший многие тайны этой реки.
Больше всего Тимофея привлекали перекаты, расположенные обычно выше глубоких ям, созданных самой природой, узкие коридоры между зарослями водной растительности, различные отмели и глубокие ямы. Особенно Тимофей любил рыбачить в местах, где ровный участок заканчивался крутым обрывом, он знал, что под таким «свалом» наверняка можно было поймать самую разную рыбу.
Подлатав крышу и наведя порядок в избушке, Тимофей занялся рыболовными снастями, арсенал которых включал несколько поплавочных удочек, с десяток закидушек, столько же жерлиц и три капроновые сети разной длины. Кроме того, Тимофей планировал сплести в ближайшее время несколько корчажек.
Уже через сутки он первый раз отплыл от берега. Лодка держалась устойчиво и легко, преодолевая не только течения, но и перекаты. Сплывая вниз по течению реки, Тимофей умело работал вёслами, ощущая при этом не только прилив энергии, но и волнение от предстоящей работы; измеряя глубину воды веслом, он примечал возможные места для прикормки. Он знал, чтобы ловля шла успешно, надо в первую очередь определить, где обитает в настоящее время рыба. А из всех мест обитания предпочтение он отдавал тому, где ровное, без задевов, дно и достаточная глубина. Увлёкшись изучением реки, Тимофей и не заметил, как стало смеркаться. Причаливая к берегу, он почувствовал небывалую усталость и незначительную боль в груди. Закрепив лодку, Тимофей тяжело прошёл в избушку. Растопив железную печь, он вскипятил чай и после недолгого чаепития лёг, не раздеваясь, на устланные зелёной травой полати. Закрыв глаза, он крепко уснул.
Утро второго дня разбудило Тимофея звонким пением птиц. Уже с утра лучи яркого солнца освещали все имеющиеся щели избушки; словно стрелы, они проникали внутрь помещения, поражая тот или иной предмет маленькой светящейся точкой.
Открыв дверь, Тимофей вышел из избушки и сел тут же на небольшую скамью, сделанную из двух чурок и небольшой толстой доски. Солнце слепило глаза и предвещало на день тёплую погоду. В косых лучах утреннего солнца недалеко от избушки виднелась белизна тонких, стройных берёз. Под берёзками, в тени, цвёл своими необыкновенными цветами шиповник. Где‐то совсем рядом звучно доносилась флейта иволги и трескотня неугомонных дроздов, кукушка принималась куковать и тут же умолкала, будто никак не хотела считать кому‐то отведённые годы жизни.
В созвучии цветов и звуков слышалось что‐то родное, знакомое, дающее радость жизни, пробуждая что‐то новое, ещё неведомое Тимофею. Глядя на этот чудесный мир природы, Тимофей ощущал, чувствовал всем своим существом какое‐то непостоянство, он понимал, что этим можно радоваться и восхищаться только сейчас и только сегодня. Всей этой красоте отведены мгновенья, мгновенья, которые не повторяются никогда.
«Беда многих людей заключается в том, что люди не хотят об этом помнить и даже знать. А ведь каждый прожитый нами день – это счастье. Счастье, которое нужно не только ценить и понимать, но и предугадать. Счастье всегда внутри нас самих», – размышлял Тимофей в этот момент.
– Здравствуйте, здравствуйте, мои милые, мои дорогие! – вдруг восторженно проговорил Тимофей, подходя к семейке тонких берёзок. – Я снова вернулся к вам, чтобы быть среди вас, вон вы как подросли! Ну, растите, растите на радость… Я вот тоже приведу всё в порядок – и айда по реке… Больно уж наскучался! День‐то, день‐то какой! – не уставал восхищаться Тимофей.
Уже часа через два Тимофей взял снасти и пошёл к берегу, где стояла его лодка. Бросив снасти в лодку, Тимофей сел на берегу и, достав кисет с махоркой, сладко закурил. Глядя на искрящееся от солнца течение реки, Тимофей испытал какое‐то странное чувство. Река словно хотела сказать ему: «Будь осторожен, и ни шагу дальше!» – но это лишь пробуждало в нём большее желание переступить этот предел и отдаться этой желанной, упоительной стихии: трогать рукой холодную воду, нырять, плыть, одним словом, раствориться в ней и исчезнуть, испытывая при этом её расположение и любовь. Река шумела, плескалась и, пенясь вдоль берегов, словно замирала, будто хотела погрузить Тимофея ещё на берегу в блаженный сон, только бы он остался на берегу. Покурив и отбросив все мысли, Тимофей встал, осторожно ступил в лодку и, взяв в руки весло, спокойно оттолкнул её от берега. Плавно качаясь на мелкой ряби, лодка бесшумно устремилась вперёд…
Проплывая вдоль берега, Тимофей увидел в заводи, среди широких зелёных листьев, небольшие белые лилии. Словно танцуя, они вели праздничный хоровод, возвещая всем о наступившем дне и тёплом лете. Медленно опуская вёсла в воду, Тимофей грёб тихо и почти незаметно, любуясь течением реки и присматривая знакомые места для рыбалки. Опускаться вниз по течению слишком далеко он не хотел, понимая, что подыматься в первые дни будет тяжеловато.
– Разведаем места сначала поближе, а там видно будет, – говорил Тимофей вслух не то себе, не то кому‐то. Придерживаясь берега и работая вёслами, он старательно сдерживал порыв лодки уйти в течение.
– Ишь, бестия какая! Разгуляться захотела, – иронизировал Тимофей. – Успеется ещё, успеется! Нынче нам это ни к чему – не время. Удочкой вот порыбачим, и будет.
Кинув возле небольшого островка небольшой самодельный якорь, Тимофей достал удочки и, прикинув глубину, стал рыбачить. Солнце стояло высоко в зените, и надеяться на какой‐то улов вряд ли можно было, но, как говорят, охота пуще неволи. Тимофей чувствовал потребность и желание испробовать свои силы немедленно и сейчас. Всё это доставляло ему огромное удовольствие.
Прошло незаметно более пяти часов, как Тимофей рыбачил на лодке, отплывая от одного места к другому. Хорошего клёва, как и предполагалось, не было. Пойманные небольшие окуньки, караси и пескари лежали на дне лодки; подпрыгивая на небольшую высоту, они переворачивались, как бы делая сальто, и падали опять тут же, временами не показывая никаких признаков жизни.
Уже начало смеркаться, когда Тимофей почувствовал лёгкий холодок, тянущийся от реки. В груди, что‐то тянуло тяжёлым грузом; тяжесть увеличивалась и становилась всё ощутимей. Нагнувшись с лодки, Тимофей зачерпнул ладошкой холодную речную воду и поднёс к лицу, струйки воды весело побежали со лба, глаз на усы и бороду, исчезая и становясь невидимыми. Не чувствуя улучшения, Тимофей понимал, что надо сниматься с якоря и плыть к избушке. С трудом выбрав тросик с якорем, Тимофей осторожно смотал удочки и, положив их на дно лодки, взялся за вёсла. Сделав несколько неуверенных движений, Тимофей почувствовал резкую боль в сердце и головокружение; руки, налившись свинцовой тяжестью, опускались, не в силах больше удерживать вёсла. Изнемогая от боли в груди и выбиваясь из последних сил, Тимофей пытался ещё грести, повторяя каждый раз про себя:
– Давай, давай! Ну, как же так! Этого не может быть, ты же можешь! Ты же должен…
Тимофей всячески пытался достать вёсла руками, но всё было напрасно – руки не слушались, словно тысячу уколов почувствовал он сразу от пальцев до локтей и выше… В эти минуты он чувствовал, как его руки немеют, становясь всё холоднее и холоднее… Лодку крутило и медленно несло береговым течением в русло реки. Бросая взгляд на удаляющийся берег, Тимофей понимал, что уже ничего не может сделать, впервые в своей жизни он оказался беспомощным перед природой. Под тяжестью каких‐то непонятных для него сил Тимофей медленно опустился на спину, не чувствуя своего тела, он пытался размышлять, чтобы найти хоть какой‐то выход из создавшейся ситуации…
В этот момент ему казалось, что всё это сон и что сейчас он встанет и будет грести вёслами, радуясь сегодняшнему дню и природе, которую он любит… Глядя куда‐то в небо, Тимофей подумал о том, что всю жизнь он шёл к смерти, но эти минуты ему казались какой‐то чудовищной нелепостью; ему казалось, что всё должно быть иначе, что он ещё не дошёл до своей вершины и что вовсе не созрел к смертному уходу.
«Позаботится ли обо мне Бог так, как если бы я был у него единственным?» – вдруг подумал он в это момент. – Примет ли Он меня таким, какой я есть: маленькой, невидимой, но сверхчувственной искрой; может ли мир измениться к лучшему с моим уходом или, наоборот, чего‐то в нём будет недоставать, и возможно ли вообще это понять – хотя бы бегло и скупо, – этот несовершенный мир, со всеми его страданиями и ужасами…
Лодку уносило всё дальше и дальше по течению.
«Умирают ли облака? – подумал Тимофей, – глядя куда‐то в небо. – Или просто становятся другими?» – С каждой минутой у него возникало всё больше и больше вопросов, как будто он хотел что‐то узнать для себя, что‐то важное, что‐то определяющее для его дальнейшей судьбы.
Грудь всё сильнее и сильнее сжимала непонятная, тупая боль, ему всё труднее становилось дышать; лёжа на спине, он всматривался в бездонную небесную высь, которая становилась в его глазах всё дальше и всё темнее. Тимофей чувствовал, как жизненные силы покидают его. Он уже ощущал око смерти, которое глядело на него спокойно и строго. Не выдерживая этого взгляда, Тимофей закрыл глаза. Небольшие капли слёз, появившиеся из-под ресниц, медленно побежали по щекам, теряясь в небольших усах и бороде. Шум играющих волн, бьющихся о борт лодки, нарушал тишину тупым частым стуком, они словно будили Тимофея, не давая ему заснуть. Заснуть навсегда. Проплывавшую мимо Марьиного утёса лодку занесло течением ближе к берегу, прямо к торчащей из воды большой чёрной коряге, упёршись в неё килем и застряв в разлучине, лодка накренилась на борт и замерла, легко покачиваясь от быстрого течения.
Тимофей лежал молча и хорошо чувствовал, как его сердце наполнилось сладостным, непонятным счастьем – лёгким, зовущим и ни к чему не обязывающим. Всем своим существом он ощущал рядом мягкое течение воды и слышал тихое, спокойное постукивание волн о борт лодки; словно пытаясь помочь, они произносили какие‐то волшебные слова, способные вырвать его из рук смерти и уверить его при этом, что это всего лишь сон. Тимофей лежал и чувствовал, что кто‐то принимал его в свою тихую любовь, раскрыв для него свои чистейшие пространства.
Был уже полдень, когда Васька не спеша подъезжал к заимке отца, стоящей на берегу реки. Лошадь, запряжённая в телегу, шла спокойно и тихо, лишь небольшое поскрипывание несмазанных колёс выдавало её в этом глухом, почти безлюдном месте.
Отмахиваясь длинным чёрным хвостом от слепней и мух, Белогубка осторожно ступала по извилистой, временами заросшей травой лесной дороге. Проехав лог, Васька выехал на знакомую уже многие годы поляну. Увидев издали заимку, Белогубка прижала уши и, фыркая в разные стороны, побежала рысцой. Не сдерживая порыв лошади, Васька вытянул шею и всматриваясь вперёд, как бы обращаясь к лошади, проговорил:
– Да приехали уже, приехали, что бежать‐то. Раньше надо было… Шельма!
Подъехав прямо к избушке, Васька увидел, что дверь закрыта и притолкнута берёзовой загогулиной. Ловко спрыгнув с телеги и привязав поводья узды к ржавой скобе, вбитой в бревно дома, он спешно направился к двери. Отбросив в сторону загогулину, Васька резко открыл дверь, сырость и затхлый воздух сразу ударили в лицо, чувствовалось, что в доме уже несколько дней никто не жил. Небольшая металлическая печка-буржуйка стояла холодная, было очевидно, что она давно уже не топилась. На печке стояли чайник и пустая закопченная кружка для заварки чая. Возле небольшого дощатого стола, стоящего у смотрового окна, Васька услышал шорох и чей‐то писк; приглядевшись, он увидел небольшого бурундучка, держащего в лапках что‐то съестное; не испугавшись человека, он продолжал стоять и грызть. Васька хлопнул в ладоши, и бурундучок тут же исчез, как по волшебству.
– Странно, – проговорил Васька, выходя из избушки и закрывая дверь. – Где его опять чёрт носит? Знал ведь, что я приеду в это время.
Выйдя на берег реки и не обнаружив лодки, он стал кричать отца, но кроме далёкого эха ничего не слышал в ответ. Васька хорошо знал, что в это время клёва не бывает и отец обязательно должен быть в избушке или, по крайней мере, где‐то рядом. Не теряя времени, он решил не разгружать телегу, а пройтись вверх, по устью реки; он прошёл метров триста, но каких‐либо следов отца не увидел, река в этом месте была не очень широкая, и Ваське хорошо был виден противоположный берег.
Вернувшись к избушке, он решил пройти по берегу вниз по реке, однако росший по берегу высокий тальник скрывал течение реки и не всегда давал возможность видеть поверхность, а также противоположный берег. Всматриваясь сквозь заросли тальника в течение реки, Васька не видел ничего такого, что могло бы сказать о присутствии отца. Не дойдя до Марьиного утёса, он повернул назад, надеясь подождать ещё некоторое время; у него и мысли не было, что отец может не появиться, тем более что такое уже было однажды. Однако, прождав ещё несколько часов и не дождавшись отца, Васька отчётливо стал понимать, что произошло что‐то непредвиденное. Что‐то подсказывало ему о случившейся беде. Да и ждать времени уже не было. Скинув с телеги деревянную бочку и отвязав лошадь, Васька помчался назад в деревню, за подмогой.
Через час он был уже в конторе. Долго не думая, собрали человек пять мужиков и, переговорив с Потапенко, работающим уже многие годы шофёром на старенькой, давно уже списанной грузовой машине ГАЗ‐53, отправились на поиски Тимофея.
Усевшись в деревянный кузов машины, мужики впервые за всю историю деревни отправлялись на поиски взрослого человека, известного, в первую очередь, как опытного рыбака и охотника. Выдвигая различные версии, все надеялись на благополучный исход, предполагая, что ничего серьёзного случиться с Тимофеем не могло. Набирая скорость и подымая столб пыли, машина промчалась по деревне, словно на пожар, и вскоре скрылась из виду.
Ехали недолго. Через несколько минут машина остановилась недалеко от заимки. Спрыгнув из кузова, Васька предложил разделиться на две группы: одна группа пойдёт вверх, а другая вниз, по устью реки – по течению. Тут же, не теряя времени, все быстро разошлись в разные стороны, предварительно договорившись встретиться часа через два на этом же месте, возле машины.
Васька шёл с двумя мужиками вниз по течению. Шли молча, держась друг от друга на небольшом расстоянии. Яркое вечернее солнце медленно опускалось за горизонт, предвещая завтрашнему дню хорошую солнечную погоду. Осматривая внимательно берег и течение реки, каждый строил свою версию: кому‐то казалось, что Тимофей уплыл ближе к Томи; кто‐то предполагал, что он мог спрятать лодку в кустах и уйти к знакомым на центральную ферму, находившуюся в нескольких километрах от заимки. О каких‐то других версиях думать не хотелось, во всяком случае, их никто не высказывал.
Чем дальше уходили от заимки, тем больше досаждали комары и мошкара; не готовые к такому нашествию, каждый отмахивался как мог, при этом крепко, матерно ругаясь…
Дойдя до Марьиного утёса, все видели, что река в этом месте становилась значительно шире и, омывая небольшие, подтопленные островки, стремительно уходила вперёд, унося свои воды в полноводную реку Томь. В этот момент все понимали, что искать Тимофея в нижнем течении реки будет очень трудно, а проще говоря, невозможно, так как для этого будет нужна лодка. Поэтому все надеялись в душе на какое‐то чудо. И не напрасно. Что‐то волновало, что‐то тянуло сердцем Ваську в этом месте к реке, к просторной тихой заводи, напоминающей лагуну.
Спустившись к берегу и зайдя в воду почти по пояс, он прошёл сквозь стену высокого тальника, отделяющего берег от реки, и увидел примерно в тридцати метрах от берега, почти напротив себя лодку отца, застрявшую в разлучине чёрной извилистой коряги. Глядя на лодку, Васька не верил своим глазам.
– Здесь она, здесь! – закричал он, не зная, что делать, кидаться в воду или сразу плыть к лодке. – Сюда, мужики, я здесь! Нашёл! – всё не унимался и кричал что есть сил Васька. Он уже слышал, как бегут к нему мужики, как булькает вода от чьих‐то ног… Ваську вмиг охватил страх…
«Отец! А где же отец? Почему его не видно?» – думал он в эти секунды, казавшиеся ему вечностью.
– Па-па! – нарушив вечернюю тишину, раздались протяжные, надрывные звуки… Подхваченные шумом течения, они тут же уносились в даль, растворяясь в воздухе и возвращаясь чуть слышным эхом.
Легко покачиваясь на волнах, лодка стояла, чуть накренившись одним бортом к воде. Вёсла были опущены в воду, и Ваське казалось, что вот-вот появится отец, сядет за вёсла и поплывёт, поплывёт к нему, но лодка продолжала оставаться на месте в разлучине.
– Я поплыву к лодке, – проговорил Васька. – Давай, кто со мной. Скинув с себя одежду, они тут же, все трое, кинулись в воду и поплыли…
Первое, что кинулось в глаза Ваське, – это искусанные комарами и мошкарой лицо и руки отца. Он лежал на спине, широко раскинув руки, словно хотел кого‐то обнять в последний раз… Глядя на отца, Васька понимал, что смерть наступила несколько дней назад; может быть, даже в тот день, когда он уезжал от него. Понимая, что произошло с отцом, Васька всячески пытался сдерживать себя, но что‐то разрывалось внутри и горячим, жгучим потоком неслось наружу… Всхлипывая, он отвернулся и закрыл руками глаза…
Уже через час лодку доставили к заимке. Положив в кузов, на брезент, труп Тимофея, приняли решение отвезти его в сельскую центральную больницу. Мало ли что. Да и факт смерти нужно было официально засвидетельствовать.
Стало уже темнеть, когда машина подъехала к воротам больницы. С трудом достучавшись до дежурного врача, Васька рассказал ему о случившемся факте.
Не подходя и не осматривая труп, врач сказал, что надо везти его в морг, в районный центр, причём везти самим, так как их скорая помощь на ремонте.
– Как это везти? – неожиданно вмешался в разговор Потапенко. – Если вы не возьмёте труп, я сгружу его прямо здесь у ваших дверей. Посмотрите! – указал он рукой в сторону своей машины. – Куда везти на этой развалюхе, тем более в ночь. От этой машины уже за деревней колёса отвалятся, а вы хотите, чтобы я вез труп за пятьдесят километров. На кой хрен тогда вы здесь нужны?
– Сгружайте где хотите, – холодно и невозмутимо ответил дежурный врач, – труп я не приму, мне живых уложить некуда, а вы еще с этим… приехали тут.
– Может, нам похоронить его прямо здесь, в вашем палисаднике, – не унимался Потапенко.
– Это ваше право, где его хоронить, – отпарировал тут же врач. – Хотите здесь хороните, хотите вон за огородами – лично меня это волнует меньше всего.
И неизвестно, чем бы всё это закончилось, если бы не главный врач, случайно оказавшийся у больницы. Уже через час труп отправили на скорой помощи в районный морг.
Хоронили Тимофея через два дня всей деревней. Сменяясь раз за разом, мужики несли гроб на руках до самого кладбища, а такого удостаивался не каждый…
Громких речей не было, да и не любили в деревне это дело – лишнее говорить. Лишь Кирьян, стоя в стороне под высокой, размашистой берёзой, незаметно вытирал слёзы и тихо сам себе говорил:
– Эх, Тимофей, Тимофей! Кто же теперь‐то угостит меня рыбкой?..
Блистающее в солнечных лучах небо светилось и искрилось новой, неведомой никому жизнью. Играя где‐то там, далеко в вышине, всеми цветами радуги, оно наполнялось сладостными, чуть слышными, манящими звуками и пением высоко парящего жаворонка…
2007 год
Сельский учитель
Дети святы и чисты…
А.П. Чехов
Сострадание есть высочайшая форма человеческого существования.
Ф. М. Достоевский
Был холодный осенний вечер. Чёрные, тяжёлые тучи одна за другой плыли по небу, предвещая не то дождливую, не то снежную погоду.
Учитель начальных классов деревни Зеленовка Алексей Степанович Кузнецов находился у себя дома. Он сидел на кухне за небольшим деревянным столом, накрытым матерчатой клеёнкой, и терпеливо проверял тетрадки своих учениковчетвероклассников.
Тусклый свет от висевшей над столом лампочки слабо освещал помещение небольшой кухни, где помимо стола стоял сервант с посудой и всякой домашней утварью. Слева от входной двери была пристроена вешалка для одежды. В печке приятно потрескивали берёзовые дрова, несколько колотых поленьев аккуратно лежали на полу у печки. От чайника, стоящего на плите, исходил ароматный, лесной запах душнички. На кухне было чисто, тепло и уютно.
Внимательно вглядываясь в написанное учениками, Кузнецов что‐то подчёркивал, при этом глубоко вздыхал и что‐то нашёптывал про себя…
Тетрадок на столе было не много. Четвёртый класс в новом учебном году был небольшой – всего двенадцать учеников: семь девочек и пять мальчиков. По сравнению с предыдущими годами – в разы меньше. Учить в деревне стало уже некого, да и некому. Восьмилетнюю школу закрыли, осталась одна начальная, да и та доживала последние годы. Это ситуация сильно огорчала Кузнецова, и, честно сказать, он давно уже ждал выхода на пенсию.
«Чего пустое молоть, время зря тратить. Бабы нынче рожать не хотят. А если бы и захотели, то всё равно не от кого. Настоящих мужиков в деревне уже не осталось, а те, что есть, так они ни днём, ни ночью не просыхают: от них как от козла молока», – рассуждал Кузнецов.
Да и то верно. Почувствовав демократию, деревенские мужики словно с ума посходили. Что ни день, то пьянка, что ни месяц, то похороны. Кругом нищета, обездоленность, а им хоть бы что.
«Жить без забот, оказывается, легче, чем тянуть лямку. В этом случае снималась вся ответственность. Хорошо, если бы молодёжь была, так её и под ружьём не загонишь нынче в деревню. Пустое дело. Ни жилья тебе, ни перспективы. Раньше‐то они хоть «коровам хвосты крутили», а нынче и коров нет. Всё продали, а что не успели продать – разворовали. Как нынче без этого! Без воровства – то. В городе всегда было проще, там всё под рукой: магазины, школы, театры… одним словом живи – не хочу», – часто размышлял Кузнецов.
Встав с усилием со стула, он походил по кухне, потом по комнате; осенняя погода делала своё дело: ломило в пояснице, отдавало в ноги.
Выпив несколько глотков горячего чаю с мёдом, он снова сел проверять тетрадки.
Всё лето Кузнецов жил ожиданием встречи со своими учениками. Ему интересно было наблюдать за их поведением, за тем, как они растут, мужают. Как становятся «на крыло».
С большой точностью он мог сказать о сущности каждого своего ученика: кто есть кто. Как потом оказывалось, в его словах было много истины. Однако, когда он пришёл в школу первого сентября, у Кузнецова впервые за всю педагогическую практику наступило какое‐то опустошение, подкреплённое тяжёлым физическим напряжением. Что это было, он не знал, всё казалось ему было не так: и в школе, и в деревне, и в обществе. Одним словом, полное душевное расстройство. Но это не должно было мешать его любимой работе, да и просто тому, чтобы жить.
«От окружающего мира не убежишь и не спрячешься в нору, – философски говорил он себе. – Надо принимать существующую действительность такой, какая она есть: ни больше, ни меньше. И этим настраивать себя на рабочий лад. Все наши дела делаются нами, но есть и то, что нам их диктует…»
Закончив работу с тетрадками и отложив их на край стола, Кузнецов не спеша накинул ватную фуфайку, висевшую на вешалке, и вышел во двор.
В вечернем воздухе чувствовалась прохлада. Небо было затянуто низкой туманной пеленой, тянувшейся над всей деревней и медленно уплывавшей куда‐то в даль. Сквозь пелену на небе можно было разглядеть чёрные тучи, бегущие одна за другой; догоняя друг друга, они вдруг сливались в единое целое, удивляя своими формами и размерами.
Присмотревшись, можно было увидеть и редкие звёзды; мерцая, они то удалялись, то приближались.
Свет от фонарей, освещавших центральную улицу деревни, расплывался в тумане и виделся блеклыми пятнами. Вокруг было тихо и спокойно, лишь изредка где‐то на краю деревни оживлённо лаяли собаки.
Постояв во дворе ещё несколько минут, Кузнецов зашёл в дом и, выключив свет, лёг в постель.
Обняв руками подушку и стараясь не шевелиться, он закрыл глаза и задремал. Сквозь дремоту ему слышался еле уловимый писк мышей в подполье на кухне. Стараясь не обращать на это внимание, он крепко заснул.
Закончив педагогическое училище в начале пятидесятых годов прошлого века, Кузнецов попал по распределению в деревню Зеленовка, районного центра N., да так там и остался. Деревня была небольшая, дворов сто пятьдесят. Низенькие, накренившиеся в разные стороны деревянные дома стояли одиноко. Построены они были наспех и кроме жалости ничего не вызывали. Пройдёшь, бывало, по деревне и редко увидишь хорошие дома. Складывалось такое ощущение, что те, кто строил, совсем не знали плотницкого ремесла. Про надворные постройки и говорить не приходится, но большинство жителей деревни это устраивало и о лучшем они не заботились. Или просто не хотели.
Высшего образования Кузнецов не получил, хотя всю жизнь к тому стремился. Очень много занимался самообразованием: выписывал газеты, журналы, книги, читал много и системно.
«Стены познания надо учиться выкладывать самому, только в этом случае они будут крепкими», – часто говорил Кузнецов своим ученикам.
На заслуженный отдых Кузнецов планировал уйти, отработав в школе ещё год.
«Пенсию заслужил честно, – говорил он жене, когда разговор заходил на эту тему, – пора и отдохнуть». Чем будет заниматься на пенсии, он ещё не знал, но и работать в школе больше не планировал.
Несмотря на свои годы, выглядел он хорошо: высокий, стройный, аккуратно одетый, он всегда производил впечатление интеллигентного человека. В разговорах с сельчанами всегда был вежлив и внимателен. Тем более что для каждого человека он старался найти свои слова и расположение. Это позволяло сельчанам, не стесняясь, советоваться с ним по любому вопросу.
На работу Кузнецов ходил всегда в строго чёрном костюме и в хромовых сапогах. Учеников это дисциплинировало, а у жителей деревни вызывало уважение.
«Наш Степаныч, как секлетарь, хоть в женихи отдавай», – говорили бабы при виде Кузнецова. «Антиллигент! Чего уж там», – вторили другие. «Учитель – дело сурьёзное. Тут голова нужна», – подхватывали третьи.
И действительно, во многих сельских делах он был незаменим.
Если, где что не так, сельчане идут сразу к Алексею Степановичу за советом, а то и за помощью. Кузнецов старался выслушать всякого и помочь чем мог.
Местные начальники также уважали Кузнецова. Да и как иначе, если все совхозные специалисты учились у него в своё время. Уж кого-кого, а их он знал как облупленных. Мог рассказать про каждого, кто чем живёт и дышит. Зная это, некоторые руководители старались поменьше попадаться ему на глаза; за некоторые проступки им было неловко даже по прошествии стольких лет. Иногда при встрече с тем или иным специалистом Кузнецов добродушно улыбался – это означало, что он прекрасно помнит всё об этом человеке, и вопрос худо-бедно решался тут же.
Наград Кузнецов не имел. Нельзя сказать, что он не стремился к этому, но угождать не любил… не имел такой привычки.
А вот деревенские мальчишки его побаивались. А причиной служило то, что учитель запрещал им играть в войну и курить. И хотя воевать Кузнецову не пришлось, войну он презирал всем своим существом. Если где‐то кто‐то говорил слово «война», он тут же менялся в лице и готов был кинуться на этого человека, как на врага. А уж если видел, что мальчишки бегают с автоматами, то это вызывало у него ярый гнев, сравнимый разве что с красной тряпкой, которой дразнят быка.
Бегая за мальчишками и догоняя их, он отбирал у них всё имеющееся оружие: деревянные автоматы, пистолеты, ножи, рогатки. Всё то, что мальчишки усидчиво и терпеливо делали не один день. Без нотации, конечно, не обходилось: «Ишь мне, вояки нашлись! Если бы вы знали, что такое война, так не бегали бы с оружием, пусть даже и ненастоящим. Одно только это слово должно навевать на вас ужас, а вы стреляете в друг друга. Кем вы станете после этого. Убийцами, что ли!? Идите лучше домой, уроки делайте или родителям помогайте по хозяйству». Прочитав нотацию, он отпускал перепуганных мальчишек.
На следующий день перед началом занятий он выстраивал весь класс в школьном коридоре, выносил из учительской «конфискат» и заставлял мальчишек его ломать. Напуганные ещё со вчерашнего дня, мальчишки молча ломали свои автоматы и пистолеты.
Затем на уроке учитель открывал журнал и, выдержав паузу, протяжно говорил:
«По-смо-три-м, как тут по-дго‐то-ви-лись наши во‐яки», – и терпеливо выдерживал паузу, скользя с карандашом в руке по школьному журналу в поисках знакомой ему фамилии. Страшнее этого тона для мальчишек ничего не существовало… У них дрожали не только руки, но и ноги. Им хотелось раствориться за партой, только чтобы учитель не видел их.
После того как его рука замирала в журнале на чьей‐то фамилии, опять слышался чуть слышный голос: «С ору-жи-ем бе-гать вы ма-ста-ки, а вот по-смот-рим, как вы по рус-ско-му вы-у-чи-ли пра-ви-ла». От такой психологической атаки мальчишки не только бледнели и краснели, но и испытывали страх. Но это был не тот страх, который можно было отнести к невротическим проблемам. Это был тот страх, который был связан с получением плохой оценки. При такой словесной «экзекуции» многие мальчишки делали для себя выводы и учили уроки. Но это не мешало им вновь выпиливать из досок пистолеты и автоматы… проходила неделя другая и всё начиналось сначала. Так было много лет.
Правда, в последние годы Алексей Степанович стал относиться к этому более спокойно. Что повлияло на него, сказать трудно, во всяком случае, за теми, кто играл в войну он больше не бегал. А вот с куревом бороться продолжал всеми силами. Используя при этом свою жёсткую методику. А заключалась она в том, что, поймав в туалете ученика с куревом, он тут же приглашал его в учительскую, рвал перед ним сигарету и «кормил», с силой всовывая табак в рот, приговаривал при этом: «Ну, как тебе табачок, будешь ещё курить, а?»
Мальчишки стойко переносили «пытку», не жалуясь никому, осознавая, что сами виноваты. Не чувствуя унижения, не понимая его, они гордились друг перед другом своим мужеством и продолжали курить. Такое отношение учителя их вполне устраивало. К тому же по разным причинам у большей части мальчишек отцов не было, и мужская «рука учителя» им нравилась.
Начальная школа в деревне Зеленовка была выстроена ещё в пятидесятые годы прошлого века. Небольшое одноэтажное здание школы больше напоминало жилой двухквартирный дом. Стояла она в центре деревни, в шестидесятые годы напротив неё построили ещё и восьмилетку. Две школы разделяла центральная дорога; летом она была пыльной, а весной и осенью грязной: пройти по ней можно было только в сапогах, да и те можно было «утопить». В середине девяностых, когда учеников стало значительно меньше, восьмилетнюю школу закрыли, а здание приспособили под сельский клуб.
Рядом со школой был расположен небольшой магазин, где продавали всё, начиная от спичек и кончая презервативами. Мальчишки на переменах часто бегали в магазин и ради спортивного интереса покупали «изделие». Затем надували его до невероятных размеров и бегали в школьной ограде. Учителя и родители были недовольны такой «доступностью», и в конце концов продажу презервативов ученикам запретили.
Стоящая рядом со школой кочегарка дымила как паровоз круглый год, выбрасывая в атмосферу не только угарный газ, но и посыпая твёрдыми частицами золы и оксидами серы головы всех деревенских жителей.
Рядом с кочегаркой были построена совхозная контора и невысокая кирпичная баня. По субботам все жители деревни гуськом шли на помывку, причём со своими тазами и вениками, это был неотъемлемый ритуал, и ему подчинялись все от мала до велика.
Учителя в школе долго не задерживались. Два-три года, и уезжали. Ехать «в глушь в деревню», как сказал поэт, никто не хотел, а уж тем более оставаться надолго. Условий и перспективы не было, даже в плане общения… тем более что учителями были в основном молодые одинокие женщины.
Приехав в своё время в деревню, Кузнецов долго жил один, снимая жильё у пожилой старушки Александры Петровны Нилиной, проживавшей в небольшом, полуразрушенном деревянном доме. Тихая и незаметная, она хорошо относилась ко всем, кто у неё жил, от продавщиц до учителей.
Со всеми она находила понимание и общий язык. Проходил год, два, и постояльцы по разным причинам менялись, сменяя один другого… Александру Петровну это нисколько не смущало, она понимала, что жилья больше в деревне нет, а людей приютить надо, да и поговорить она любила… Правда, о себе никогда не рассказывала, хотя было известно, что она москвичка и была в своё время осуждена и выслана в «места не столь отдалённые» как враг народа. Возвращаться в Москву не захотела, так и осталась жить в деревне. Прошло уже много лет, но Алексей Степанович хорошо помнил то время, когда жил и общался с этой замечательной женщиной.
Проработав около семи лет в школе, Кузнецов познакомился, а потом женился на Марии Карловне Лейман, высокой, статной, миловидной девушке. Жила она в деревне со своими родителями: Елизаветой Владимировной и Карлом Александровичем Лейман. В своё время Лейман был осуждён на десять лет лагерей, а за что, и сам не ведал. Отсидев в колонии от звонка до звонка, он приехал в Зеленовку, где жила в то время его семья, да так и остался, усвоив одно правило: «от добра добра не ищут».
Среднего роста, коренастый, с редкими рыжеватыми волосами, он был добрым, приветливым человеком. С той поры, как похоронил супругу, он жил один в небольшом финском доме. Все постройки в его небольшом дворе были ладные и аккуратные. Во всём чувствовалась рука мастерового человека. Главной его особенностью было то, что он всегда был при деле, несмотря на свой возраст. Постоянно что‐то пилил, строгал, одним словом, без дела не сидел ни минуты. Дочь Мария была вся в него. Хлебом не корми, а любила она похозяйничать по дому. И всё было ей в радость.
С Марией Кузнецов прожил всю жизнь. Жили дружно, хотя размолвки и были, но при этом совместную жизнь сумели сохранить. Правда, детей у них не было, что сильно огорчало супругов.
В молодости разговоры на эту тему вели часто, рассматривали вопрос даже о том, чтобы взять на воспитание ребёнка из детского дома, но дальше разговоров дело не пошло.
«Вон их сколько у нас, сорванцов, – говорил Кузнецов жене, показывая рукой на школу, – зачем нам ещё кто‐то нужен».
Наступил новый осенний день. Яркое утреннее солнце блестело и радовало. Утренний туман тихой ночи рассеивался и испарялся на глазах. Серый дым от печей, топившихся с утра в каждом доме, расплывался по всей деревне; превращаясь в дымку, он поднимался высоко в небо и растворялся в солнечных лучах.
Ещё с утра Кузнецов принял решение сходить всем классом в лес. Он понимал, что стоят последние прекрасные дни бабьего лета. Ему очень хотелось, чтобы его ученики ощутили всю прелесть осени, этих замечательных, ни с чем несравнимых дней. Да и сам он любил это время года больше всего.
Узнав о прогулке, дети обрадовались. Уже в полдень они гуляли по Крутому логу, прекрасному живописному месту недалеко от деревни. Дети были довольны и веселы, собирая опавшие листья для гербариев. Потревоженные детьми птицы: вороны и сороки – наполняли гамом осенний лес. Качая кроны высоких стройных берёз, высоко над головой дул тёплый южный ветер. Рыжие листья, пригретые солнцем, то и дело падали с деревьев. Они были повсюду: на траве, на земле, на тропинках. Словно напуганные, маленькие существа, они лежали, тесно прижимаясь к друг другу, будто прятались от кого‐то.
Небольшие, стройные осинки, стоящие в стороне, роняли последние наряды; лишь на отдельных веточках ещё висели багряные листья. Было очевидно: лес медленно пустел и становился одиноким. Кое-где, правда, вновь зацвели одуванчики. Сквозь берёзовую брешь виднелась неубранная полоска зерновых. Недалеко в логу, играя солнечными отблесками, тихо журчала вода.
Деревни не было видно. Её можно было увидеть только поднявшись на пригорок. Именно откуда открывался прекрасный живописный вид на деревню и небольшой, старый деревянный мост через речку, бегущую из запруды.
Гуляя по осеннему лесу, Кузнецов внимательно наблюдал за детьми. Вместе с ними он старался ощутить, почувствовать всем своим существом скрытые, незаметные звуки лесной жизни. Как ни странно, в их поведении он находил много нового и любопытного.
«Можно ли насладиться вдоволь когда‐нибудь всей этой неумирающей красотой? – размышлял он, глядя на ребятишек и на великолепные картины живой природы, где всё развивалось по его понятию в гармонии и любви. – Дети и природа очень похожи друг на друга, в них очень много общего:
они красивы, естественны, чисты и такие же беззащитные…»
Оглядываясь по сторонам, он всматривался в пожухлую осеннюю траву, усыпанную крупными каплями утренней росы; впитывая солнечные лучи, они переливались и блестели, подобно рассыпанным бриллиантам.
Осенние листья то и дело кружились над его головой, как бы приветствуя и прощаясь. Чистое голубое небо искрилось золотистым светом низкого солнца, до боли трогая сердце и душу.
Словно хорошо настроенный инструмент, Кузнецов готов был в эту минуту играть и петь ради детей и торжества природы, играть всё то, чему научился в этой жизни. Душа пела и рвалась в какое‐то неведомое пространство…
Проходя мимо развесистого куста черёмухи, он увидел совсем рядом кем‐то срубленную берёзку. Длинный ствол дерева с торчащими вокруг него тоненькими ветками, примяв траву, безжизненно лежал на земле.
«Зачем срубили эту стройную берёзку? – задал себе вопрос Кузнецов. – В этой ложбине ей было уготовано красивое место, и на́ тебе, срубили, срубили просто так, ради удовольствия, без всякой пользы. Интересно, кто кому мешает в этой жизни: человек природе или природа человеку?»
Взглянув ещё раз на срубленное молодое дерево, он увидел, как жухлые, скрюченные листья, висевшие на ней серёжками, медленно опадали на траву и тут же разносились ветром…
Отвернувшись, он медленно пошёл туда, откуда доносились голоса его учеников, удаляясь, он изредка оборачивался…
В последние дни осени погода резко менялась. Хмурое небо всё чаще было покрыто тёмными дождевыми облаками, а бывали дни, когда шёл небольшой снег. Крыши домов почернели и стали похожими на угрюмые, дымящиеся копны сена. Дороги в деревне развезло, однако жителей это не смущало, дело было привычное. Выручали резиновые и кирзовые сапоги, а по двору можно было ходить и в галошах.
В жизни Кузнецова всё шло размеренно и привычно.
Встав рано поутру, он сразу принялся за работу: принёс с колонки воды, наколол дров и навёл порядок во дворе. Этой работой он занимался ежедневно, и она доставляла ему большое удовольствие.
«Дела словом не заменишь, – любил говорить он при случае и тут же добавлял: – Много спать – добра не видать».
Позавтракав, Кузнецов привычно сунул под мышку папку со школьными тетрадками и направился в школу. По дороге ему встретилась Елизавета Никитична Куприянова, работающая уже много лет почтальоном. Невысокого роста, чуть полноватая женщина, она, как спутник, носилась вокруг по всей деревне. За день набегает столько, что и молодому не под силу.
– Здравствуйте, Алексей Степанович! – глядя на Кузнецова, сказала Елизавета Никитична.
– Здравствуйте! Не тяжеловато, вам? – спросил Кузнецов, глядя на сумку.
– Привычно уже, чего там, газеты получила ещё за вчерашний день, так что быстрей разнести надо. Читатель, он ведь ждёт.
– Это правильно. Чем обрадуете сегодня? – с нескрываемым любопытством поинтересовался тут же Кузнецов.
– Вас разве обрадуешь, Алексей Степанович, вон скока приходит вам изданий каждый день. Сегодня, правда, поменьше. Видимо, ещё не напечатали, – улыбаясь, проговорила Елизавета Никитична. – Вам отдать или домой занести? – спросила она, доставая целую кипу газет и журналов.
– Писем нет? – поинтересовался Кузнецов, кидая взгляд на сумку почтальона.
– Нет, писем сегодня вам нет.
– В таком случае занесите почту домой, вечером просмотрю.
– Хорошо, как скажите.
Попрощавшись, Кузнецов не спеша направился в сторону школы. «Вроде дождя сильного не было, а грязи‐то, грязи», – размышлял он про себя, с осторожностью ступая туда, где посуше.
Лоснящиеся хромовые сапоги были начищены Кузнецовым ещё с вечера, при каждом шаге складки сапог блестели и чётко выражали изгиб «гармошки». Этот небольшой штрих в его одежде всегда вызывал уважение у сельчан. Не обошлось и без юмора. Кто‐то из остроумных придумал даже частушку, которую знали в деревне все:
- Шумит белая берёза,
- Всем ветрам покорная.
- Сапоги у Кузнецова,
- Как гармонь раздольная.
Кузнецов знал про эту частушку, но не обижался.
Стараясь не увязнуть и не потерять галоши, надетые на сапоги, Кузнецов шёл с большой осторожностью и вниманием. Очистив грязь, он зашёл в школу, снял галоши и, тщательно протерев бархоткой сапоги, чинно прошёл в учительскую.
Зазвенел звонок, и Кузнецов, словно крадучись, вошёл в класс. При виде учителя дети замолкли и быстро расселись по партам. Всё были в ожидании.
Сидеть за своим столом в классе Кузнецов не любил, всё больше ходил, изредка поглядывая то на детей, то в окно. На уроке он всегда был спокоен и сдержан, голос на детей не повышал, говорил размеренно и внятно.
Своим классом Кузнецов был доволен. Дети учились ровно и с желанием. Хотя мало кто из них, закончив школу, шёл учиться дальше, об институте и говорить не приходилось, таких за всю историю деревни всего несколько человек было. Это огорчало его и наводило на многие размышления: «Нам бы в деревню новых учителей, как в городе, да хотя бы как в районе, то, наверное, и результат был бы другой, где уж нам, старикам, за молодыми угнаться», – с сожалением говорил он.
Тоска осенних дней то охватывала Кузнецова, то отпускала. Время не то, что летело, мчалось как вихрь, и не было этому конца и края. Дни становились короче, ночи длиннее, и во всём этом было что‐то таинственное и мистическое.
Вечерами он подолгу сидел и читал газеты, но что‐то непонятное и зачастую замысловатое часто встречалось в них. От одной статьи глаза увеличивались, а от другой хотелось стонать.
Отложив в сторону газеты, он брался за журналы. Но и там он не находил ответов на многие житейские вопросы. Слишком уж пёстро всё преподносилось: менялись взгляды, менялись приоритеты, менялась сама жизнь.
– А людей, людей вы куда денете… сукины вы дети! Нет, ты только послушай, Маша, – обращался он к жене в эмоциональном порыве, – у них про всё тут сказано… А вот про душу человеческую забыли. Как же так? Кого мы сегодня учим, когда от рекламы глаза рябит. Кто и что может удержать детей от такого соблазна? Да никто, ни одна школа, ни один учитель – это же преступление. Вот она, демократия, хрен ей в дышло.
– Лёша, – ласково говорила Мария, пытаясь успокоить мужа, – да что ты так распаляешься, не нравится – не читай, займись чем‐нибудь другим.
– Да ты понимаешь, что ты говоришь: что значит не читай? Я не буду читать, другой не будет читать, так мы знаешь дойдём до чего?
– Ну и до чего ты можешь дойти? – с иронией и некоторым любопытством спросила супруга. – Ты образованный, грамотный человек, проживший уже жизнь, что тебе эта реклама?
– Как ты не понимаешь: мне‐то ничего, вот именно, а как же дети, которых я учу? Я говорю им одно, а тут говорят другое. Я им запрещаю курить, а ты посмотри, что они рекламируют… Скоро не только ребятишки, скоро лошади закурят. И потом, кругом эти услуги… Это же полная деградация общества. Вот до чего мы дожили… Очень жаль, что сегодня все наши нравственные идеалы оказались преданы забвенью. А дальше? А дальше ни-че-го, – медленно, по слогам выговорил Кузнецов и тут же добавил: – Всё, приехали! Распрягай лошадей… Бедная Россия! Всё, на следующий год выписывать ничего не буду – хватит, начитался. Хочу дожить последние дни в гармонии с собой, – проговорил Кузнецов, в отчаянии отбрасывая журнал в сторону.
Надо сказать, что в последнее время после всякого чтения газет и журналов настроение Кузнецова портилось: он был молчалив, угрюм и задумчив. А главное, у него повышалось артериальное давление.
Вечером следующего дня к Кузнецовым зашёл Карл Александрович Лейман. У дочери он бывал редко: часто болел. Да и возраст уже был не тот, чтобы ходить по гостям. К тому же он был не любитель этого дела. После того как умерла жена и вовсе сутками сидел дома. Да и ноги болели с каждым годом всё сильнее; каторжные работы на рудниках не прошли даром.
«Можно забыть всё, даже самую жестокую обиду, – с горечью говорил часто Лейман, – а вот болезнь забыть невозможно, поскольку она нет-нет да и напомнит о себе, хочешь не хочешь, а приходится считаться».
Отца навещала обычно Мария, иногда заходил и Кузнецов, где дров поколет, где воды привезёт, где завалинку поправит. За лето куры её разроют так, что осенью всё по-новому делать приходится, сам‐то какой он работник. Хотя «выйти в свет» ему иногда хотелось.
«Потихоньку, стало быть, оно и получается, сиди не сиди, а ходить сподручней», – отвечал он каждый раз дочери.
При встрече говорили мало, в основном Мария спрашивала про здоровье. В этом она была дотошна. Вот и в этот вечер говорить было почти не о чем, общих интересов не было. О политике Кузнецов говорить не любил, зная, что этим причинит боль не только себе, но и тестю. И хоть обиды на власть Лейман не имел, но и забывать ничего не спешил:
«Всё, что сделала власть со мной и моей семьёй, из памяти не вытравишь. Это ведь не сорняк, который можно выдернуть с грядки и выбросить, тут всё сложнее, и забывать об этом нельзя…» – говорил он зятю, когда немного выпивал.
По молодости Кузнецов старался избегать подобных разговоров с тестем, но с годами на многие вещи стал смотреть по-другому. Он стал многое понимать, что в обществе что‐то не так. Но чем больше он это понимал, тем сложнее становилось ему жить и работать. Мог ли он подумать, что в обществе, где проповедовал всю свою жизнь духовные и нравственные ценности, он окажется лишним и ненужным, а быть участником «нового спортивного состязания» он не хотел, да и не мог. Стряхнув с себя всё унизительное, он хотел оставаться тем, кем был все эти годы.
Пытаясь чем‐то занять отца, Мария предложила сыграть в лото. Раньше этому занятию они посвящали многие часы. Кузнецов возражать не стал и молча пошёл за коробкой, где лежала игра.
Как ни странно, играли долго. Больше всего везло Марии, Карл Александрович с каждым проигрышем всё более нервничал и в конце концов засобирался домой.
– С вами, мошенниками, я больше играть не буду, – раздосадованный, проговорил Карл Александрович, – да и поздно уже, пойду я, пока ещё доковыляю.
Проводив отца, Мария ещё долго стояла во дворе, вглядываясь в тёмно-синюю глубину звёздного неба, переполненного созвездиями. Стылый осенний воздух нежно касался её лица и рук, словно удерживая в этом тёмном, бесконечном пространстве, приглашая ещё раз окунуться в звёздную стихию, переполненную вечным движением и суетой. Всё это восхищало и в то же время вызывало какое‐то чувство страха.
Свет, падающий от кухонного окна, тускло освещал ограду и куст черёмухи. Тени от веток, словно таинственные духи, в нагромождении отражались на земле и заборе, то и дело «перешёптываясь» о чём‐то между собой. Практически во всех домах света уже не было, все спали. Лишь на соседней улице были слышны чьи‐то разговоры…
Мария зашла в дом и сказала:
– Проводила, да постояла во дворе. Уж больно стыло что‐то, видимо, к снегу.
– И то хорошо, пора уже, – раздался из комнаты голос мужа, – зима – дело такое: быстрей начнётся, быстрей закончится.
– Зима быстро не кончается, нервы потреплет так, что мало не покажется, – почему‐то с досадой проговорила Мария.
– В природе худого не бывает, всякое время под стать, живи да радуйся, – зевая, проговорил Кузнецов, укладываясь в кровать.
– Так‐то оно так…
– Ну, а ежели так, то выключай свет, да и ложись, – подытожил Кузнецов.
Через минуту Мария выключила свет, и ничто уже не напоминало о какой‐то другой жизни. Таинство ночи поглощало всё, что могло беспокоить и волновать этих людей.
В ночь ударил мороз и пошёл снег. К утру лужи покрылись не только тонким слоем льда, но и коркой снега. Ходить без опаски было рискованно.
Укрывшись в белые одежды, крыши домов то и дело одна за другой оживлялись тонкими струйками дыма, тянувшимися из печных труб. Дым подымался высоко и медленно расплывался в небе. Гонимые ветром облака подхватывали его и уносили в заоблачную высь, в неизвестность.
Рано проснувшись, Кузнецов сходил за водой на колонку, но вскоре вернулся с пустыми вёдрами.
– Воды нет и не будет, – зайдя в дом, сказал он жене. – Разморозили трубу…
