Ты здесь?
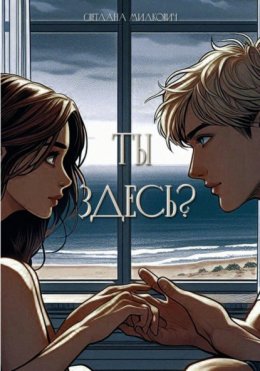
1 глава. Отрицание
Поразительно всё же, с каким упорством порою человек способен
отрицать очевидные вещи.
© Джонатан Коу
Я никогда не боялся смерти, потому что знал, что рано или поздно мне придется уйти. Как бы ни хотел и как бы ни верил в бессмертие – все рушилось. Трудно говорить о бессмертии, когда видишь чужую смерть настолько близко, что невольно хочется спрятаться в шкаф и не выходить оттуда до тех пор, пока всё не встанет на круги своя. Будто папины рубашки и мамины платья обязательно спрячут от тягости этого бремени.
Я понял это, когда впервые столкнулся с потерей. Понял, что смерть неотрывно связана с жизнью, как две нити незамысловатого браслета, болтающегося на руке. Там, где есть начало обязательно должен быть конец, иначе в чем тогда смысл существования, если не в том, что время в нашей жизни – никому неподвластный атрибут? Ты не знаешь своего конца, как и доподлинно не помнишь своего начала, но впереди у тебя лишь путь, который нужно пройти и успеть сделать все, чего так хочется сердцу.
Чего хотелось в те времена мне самому? Сложно сказать. Пожалуй, наслаждаться своим беззаботным детством, не сталкиваясь с проблемами взрослых. Но так не бывает, ведь жизнь – не подарок конфет, как говорила мама Фореста Гампа. Она похожа на весы: с одной стороны горячо, с другой – холодно, и смесь эта и есть та самая гармония, про которую все время пытаются сказать нам взрослые. Будто не бывает всегда хорошо или всегда плохо – есть определенный баланс. Нужно только научиться его видеть.
Забавно, не правда ли? Детям мириться с реалиями жизни гораздо труднее, чем взрослым. Все для них в беззаботности дней кажется привычным и правильным. Что игрушки, спрятанные под ёлкой, действительно приносит Санта, а купленные бейсбольный мяч с перчаткой всегда будут использоваться на заднем дворе при игре с папой вместо того, чтобы пылиться где-то под кроватью, когда пора юности захлестнет калейдоскопом иных чувств. Что смерть – это чей-то вымысел вроде тех же сказок, написанных кем-то и для кого-то.
Я верил в это правило до последнего. Но когда мне стукнуло десять, а мой дедушка скончался, это больше не работало.
Этот этап стал первым столкновением детских грез и суровой реальности, от которой я просто сбежал. Спрятался вдали ото всех, не зная, как реагировать на новость о том, что больше не увижу улыбчивое лицо дедушки, как и не услышу его веселых историй, связанных с его молодостью или папиным детством.
В тот день шел дождь. Огромное темное небо, будто бездна, утягивающая за собой корабли и судна, возвышалось над головой. На пляже было безлюдно; холодный морской воздух хлестко бил по лицу и заставлял слезы засыхать неприятной липкой коркой, которую стирала жесткая ткань промокшей насквозь кофты.
Я уселся на мокром песке, трясясь от холода, и вгляделся в бушующее море. Всплеск волн, выбрасывающихся на берег, вдруг показался мне почти таким же, как и я сам – разъяренным от правды и жалким одновременно. Море пыталось говорить со мной, но я молчал, потому что вряд ли знал какие слова нужно подобрать для того, чтобы описать всю ту боль, что поднималась до горла и жгла каждую мышцу моего юного тела.
Понимаю, это было глупо. Мои попытки бегства никогда не делали мне чести, но захлестнувшие меня чувства не оставляли места здравому смыслу, и я действовал, как ребенок, которым и был до того вечера.
Бегство показалось мне выходом. Игрой, которая, сколько себя помню, всегда меня привлекала. Если задумываться об этом сейчас, приходишь к неутешительному выводу: все это время я просто… прятался. Неважно где, когда и при каких обстоятельствах – я искал способ переждать бурю. Считал, что это поможет, как помогает одеяло при появлении подкроватного монстра. Но как только я неожиданно столкнулся с последствиями своего бегства, оказался в самом эпицентре этой боли.
Так, наверное, и выглядит принятие. Вопреки тому, чего ты не хочешь осознавать, все равно приходится встретиться с правдой, какой бы болезненной она не была.
Говоря о бегстве, я сразу же вспоминаю, как частенько играл в прятки, будучи маленьким. Прятался в самых потайных местах, куда ребенку забраться проще, чем взрослому. Папа любил меня искать – у него это выходило бесподобно. Такое умение приводило меня в восторг: казалось, он всегда знал, куда я сумею забраться в этот раз.
Он находил меня под кроватью – самым банальным местом, выбранным в спешке. За шторой, парящей над паркетом, иногда в углу, где стояли коробки с книгами и утварью, которой никто не пользовался. В чулане, где колыхались узоры паутин, даже внутри кухонных шкафчиков, куда мне с трудом удавалось вмещаться. Везде, где бы я не решил уместиться или куда не решил бы сбежать, папа чудесным образом обнаруживал мое присутствие.
Его неспешные шаги раздались за спиной аккурат к тому моменту, когда дрожь стала бить меня буквально всего изнутри. Накинутый на плечи теплый плед и зонт над головой не явили желаемой радости или облегчения. И только его ладонь, опустившаяся на мои мокрые волосы, вдруг заставила слезы с новой силой политься из глаз.
Он сказал мне, что переживать смерть близких – это нормально. По его задумчивому лицу нельзя было распознать: раздосадован он, опечален или не чувствует совсем ничего. Папе крайне легко удавалось спрятать эмоции под замок, улыбаясь даже в самые непростые моменты. Этот тоже не стал исключением, и я смотрел на него так долго и так упрямо, что клянусь, если бы это было возможно, то на его лице обязательно бы появился ожег.
Папа и сам неплохо играл в эти глупые ребяческие игры, хоть и не был ребенком. Эта его черта стала моим негласным атрибутом в будущем, о чем я сожалею до сих пор. Прятаться глубоко внутри – не выход, рано или поздно придется выбраться из того самого шкафа, столкнувшись с последствиями.
С мамой все было иначе. Она ненавидела прятки, сколько бы мы ни пытались играть в тайне от нее. Будто она всегда знала и чувствовала – на подсознательном уровне – что мы с папой можем учудить в следующий раз. Потому мама казалась весьма строгой и… серьезной для человека, который вставал рано утром для того, чтобы испечь мои любимые оладьи или сделать самые вкусные на свете вафли.
Она не любила многие вещи. Например, когда я не доедал яблочные дольки и они засыхали, страсть к травмоопасным занятиям или мою мазню по обоям, которую ей приходилось отмывать. Мама всегда ругалась из-за этого, а порой грозилась выпороть за мое своенравное поведение. Иногда я её боялся: чересчур недовольной и страшной она в те моменты казалась. С пушистыми волосами, что отливали золотом при косых лучах лампы, раскрасневшимися щеками и серьезным взглядом, в глубине которого я видел самого себя.
Помню, что в один из дней, когда вместо мелков или карандашей я решил использовать маркер, она терла стену до красноты пальцев. Открытые на распашку окна впускали свежий воздух, струящийся вдоль кожи. Я отсиживался под кроватью, наблюдая за её спиной, половина которой была скрыта свисающим покрывалом. Пение птиц смешивалось с её негромким, но тяжелым дыханием, разносившимся по комнате и отбивавшим у меня в висках.
Мне не было страшно. Я мало чувствовал себя виноватым за желание украсить стены рисунками, пускай и не такими умелыми, какими видел их в своей голове. Но совесть моя наряду с пониманием, что это неправильно, клокочуще вибрировала в груди.
Мама никогда не была злой. Строгой, требовательной, но не злой. Воспоминания о ней до сих пор отдаются чем-то горьким на языке и болезненно-тягучим в районе солнечного сплетения.
Так странно. Я думал, что уже давно ничего не чувствую. Думал, что смог смириться со всем и принять ту самую действительность, в которой они оба продолжали оставаться рядом.
Однако… Невозможно смириться со смертью. Ты никогда не будешь готов принять одиночество. Единственное, что у тебя остается – помимо альбомов с фотографиями – лишь самые дорогие сердцу моменты, которые отчаянно хочешь пережить из раза в раз. И тогда начинаешь задаваться вопросом: а был ли вообще искренне счастлив с тех самых пор?
Я был только там – в отрывках воспоминаний из детства, где краски и правда казались на несколько тонов ярче. Я думал, что обогнув время скорби, эмоции, распирающие изнутри, однажды покинут. Но все оказалось наглой ложью – даже спустя пять лет, что прошли в бесконечной попытке отпустить и принять, рана, покрывающая большую часть меня самого, так и не затянулась. Она кровоточит, гноится, пульсирует, ноет. Не проходит и не хочет проходить, будто напоминая о том, что ты еще здесь. Что жив и надо двигаться дальше.
У меня не получается, сколько бы я не пытался: эффект наполненного вещами шкафа, в котором прячешься от самого себя, заставляет убегать от реальности во что-то несерьезное и обыденное. С каждым днем выходить оттуда становится все сложнее. Принимать реальность – еще хуже.
Остается лишь помнить. О том, что тебя окружало, о том, каким ярким было солнце и какой теплой была мамина рука. О том, как пах табак в бабушкиной трубке или о том, каким красивым мне казался папин цвет глаз – словно само море, над которым медленно сгущался туман.
Я часто возвращаюсь к воспоминаниям о родителях. Школьные годы в памяти какие-то мутные. Как только пытаюсь представить, что делал в то время, нескончаемое ощущение одиночества разрывает ребра пополам, не давая возможности дышать полной грудью. Наверное, мозг до сих пор пытается заблокировать ту или иную информацию, спасая меня тем самым от правды. Может, оно и к лучшему.
Вот только терять воспоминания – больно. И совсем не потому, что я не помню большую часть своей жизни. Я не помню себя. Каким был с другими людьми в те годы? Таким, каким являюсь и сейчас – отстраненным и потерянным? Или дружелюбным и добродушным? Сложно сказать.
Настоящее, как и прошлое, остается все таким же непонятным. Своеобразный ребус, что кручу в руках и к которому никак не могу подобрать точную комбинацию.
Здесь – в этих отрывочных воспоминаниях и мыслях – я чувствую себя живым. Рука все такая же, ладонь – большая и на вид шершавая. Родительский дом невообразимо большой и при этом маленький, сужающийся до спальни, гостиной, ванной и кухни, где солнечный свет заливает пол и стены. Тени по-прежнему клубятся в углах, паутина там же, где и была, когда я в последний раз прятался в чулане. Пахнет затхлостью, вперемешку с оседающей пылью, что освещают ломаные лучи солнца.
Почти ничего не изменилось. Кроме наполненности: мебели минимум, живых – ни души. Ощущение родного дома эфемерное, еле осязаемое и легкое, как пушинка.
Я делаю шаг, и доска под тяжестью ботинка трещит, заставляя клубы пыли подниматься ввысь. Нос начинает чесаться, но я упорно игнорирую это, оглядывая взглядом комнаты. Моя была в южной части дома, там, откуда открывался чудесный вид на волны. Море разбивалось о берег, шумело и переливалось на солнце. Мое утро всегда начиналось с наблюдения за ним.
Я любил море. Соленый запах, которым пропитывались волосы, лижущую пятки морскую волну. Много времени проводил на пляже, пока мама лежала на шезлонге и наслаждалась детективами Сидни Шелдона. Я лепил из песка замки, смотрел на голубое плавучее небо, прикрывая испачканной рукой от палящих лучей глаза и дышал полной грудью, мечтая о том, чтобы лето никогда не заканчивалось.
Смотря на ту же гладь, за которой наблюдал раньше, я не чувствую ничего, кроме тоски и горечи. Не только по тому времени. Я сожалею о многом в своей жизни, и мысли о случившемся до сих пор заставляют черепную коробку разрываться на части от невообразимой боли.
– Лео! – шаги позади становятся звучнее. – Где ты? Эй, куда ящики с пивом? Оставить в гостиной или на кухню?
Я оборачиваюсь, встречаясь взглядом с Арчи. Как всегда, в излюбленной рубашке в клетку, потертых джинсах и с беспорядком на светлой голове. Лучи солнца яшмой расплываются на кончиках коротких волос и теряются меж прядями.
Арчи держит в руках один из ящиков, что наполняют багажник его пикапа и смотрит на меня выжидающе, но не торопит с ответом – чувствует, что дом, в котором я не был с пятнадцатилетнего возраста, хранит в себе призраков прошлого.
Он обводит комнату, в которой я раньше жил заинтересованным взглядом и, подхватывая ящик за дно, широко улыбается.
– Миленько тут у тебя. О, что это накалякано? – указывает взглядом на тот самый рисунок, оттереть который маме так и не удалось. Я делаю шаг, пальцами касаясь стены, где солнечные зайчики играют в догонялки. – Похоже на верблюда.
– Это жираф.
– Тогда почему у него горб?
– Мне было семь, а анатомия в тот период времени не была моим главным увлечением.
– Что не говори о сейчас, – хмыкает Арчи.
– Пошел ты, – улыбаюсь. – Неси пиво в гостиную. Можешь поставить возле стеллажей.
– А ты?
Взгляд снова цепляется за море, что отблескивает сквозь грязное и пыльное окно комнаты.
– Сейчас подойду.
Я слышу, как Арчи прикрывает ногой дверь, а затем и его удаляющиеся вглубь дома шаги, и вновь осматриваюсь. Обои пожелтели, люминесцентные звезды остались нетронутыми и наверняка до сих пор светятся в темноте, создавая недолгую иллюзию волшебства. Мне нравилось, лежа в постели, водить по ним пальцами, будто вычерчивая своеобразный путь от точки А до точки Б. Они все такие же неприятные на ощупь и покоцанные возле плинтусов. Кровать привычно стоит в углу, куча моих детских фотографий покоится на комоде. Толстый слой пыли на мебели, занавесках, что раньше отливали нежно-голубым, в воздухе. Глаза цепляются за учебники, ручку с изображением молнии Маккуина, разрисованные тетради. Потолок по-прежнему белый, с невообразимыми узорами, принимающими разную геометрическую форму. Все, как и тогда.
Я улыбаюсь. Вспоминается что-то хорошее и теплое. Такое же, как разливающееся по небу солнце. Мне кажется, что плечи обнимает что-то легкое, практически осязаемое, но задерживаться в этом чувстве дольше не решаюсь, в последний раз останавливая взгляд на том самом жирафе, контур которого расплылся по желтоватым обоям со звездами.
Помню, что мама в тот день готовила рагу – этот запах никогда не сможешь забыть, даже если пожелаешь. Черный маркер тек и пачкал пальцы, но я упорно водил им по шершавым стенам вдоль звезд и меж ними. Силуэт у жирафа был нечетким и таким же смазанным, как и сейчас, а кривые полосы отпечатывались на коже и одежде черными плывущими пятнами. Мамин недовольный голос из глубин сознания до сих пор раздается в ушах. Как же она тогда ругалась!
Шаг. Палящие лучи сменяются серостью, оставляя комнату пустой и привычной глазу. Звезды тусклые, небо – серое, а барабанящий по крыше дождь возвращает меня в реальность. Рука на вид все еще шершавая, большая, но я её не чувствую. Я и себя, если честно, совсем не чувствую и даже не вижу. Занимательно, что краткие воспоминания тех дней принимают настолько реальную форму. Будто позволяют вернуться обратно и попытаться исправить то, что должно произойти. Но все, что мне остается – это молча наблюдать и ждать.
Долго ли?
Треск паркета под тяжестью моих ног больше не слышим. Перед глазами – следы от висящих на стенах картин, стоявшей когда-то в гостиной мебели, пейзаж пустынного пляжа, окутанного дождем.
Пусто. То, что на протяжении долгого времени у меня внутри окружает меня и снаружи – здесь ничего нет.
Я усаживаюсь на пол. Дымящиеся вокруг тени двигаются в такт ветру и навевают очередное воспоминание.
– Элли, правда или действие?
– П-правда.
– Тебе нравится кто-нибудь в этой комнате?
Элли заметно краснеет, бросая секундный взгляд на меня. Девичьи пальцы подрагивают от волнения, светло-каштановые волосы липнут к пухлым щекам и лбу. Она молчит, кусая край губы и сверлит взглядом свой напиток, не решаясь отвечать на провокационный вопрос.
Я думаю, что ей страшно признаться в своих чувствах на глазах друзей и знакомых. Наверное, стоило бы ей улыбнуться, чтобы дать призрачную надежду хотя бы на что-то. Но я это не делаю.
Элли стремительно покидает гостиную. Я провожаю её фигуру взглядом. Заглядываю в свой стакан и делаю глоток, что обжигает пищевод и разливается по телу, как нагретая смола.
Алкоголь горький, неприятный, но я продолжаю хлебать его вместе с остальными. Чужие улыбки, смех – происходящее отвлекает, но не спасает от навязчивых мыслей о том, каким чужим я чувствую себя в родном доме. Голова с течением времени становится пустой, а картинка перед глазами – плавающей. Размытые силуэты, голоса, слышимые будто из-под толщи воды. В теле ощущается слабость. Желудок неприятно обжигает спазмом, тошнота вырывается сначала на ковер, а потом и мне на ноги.
– Вот так, приятель, давай, – доносится до слуха.
Кто-то цепко хватается за мои плечи, приподнимая с пола. Глаза и губы слипаются, хочется пить, но новый позыв вновь обжигает горло и пытается вырваться наружу. Не понимаю, сколько времени проходит, кажется, целая вечность, прежде чем я вновь оказываюсь в своей комнате и через несколько мгновений опускаюсь на что-то мягкое.
Шум стихает под мерным дыханием откуда-то сбоку.
– Фиби, поищи тазик. Эй, приятель, никто же не думал, что ты так быстро накидаешься. Я надеялся, что мы еще потягаемся.
– Сид, в ванной уже кто-то есть.
– Дерьмо! Поищи тогда лучше газету. Я переверну его, чтобы он не захлебнулся в собственной рвоте.
Вижу усталую улыбку сквозь прикрытые не до конца веки. Дышится тяжело, ком в горле не дает обжигающей консистенции выйти наружу, заставляя желудок болеть и скручиваться.
Сид переворачивает меня на бок и вздыхает.
– Полежи тут немного. Я скоро вернусь.
Я слабо киваю и стараюсь не отключаться. Веки закрываются против воли. Сид так и не возвращается.
Это последнее, что я помню. Последнее живое ощущение перед тем, как отключиться и провалиться куда-то в темноту. Тяжесть собственного веса в какой-то момент испарилась, и дышать стало настолько легко, будто кто-то наконец снял с меня гранитную плиту. Последовавшая за этим темнота сменилась чем-то светлым, приятным, обволакивающим, и мне казалось, словно я куда-то лечу.
Танцующие под закрытыми веками образы вновь принимают форму собственной комнаты. Я снова возвращаюсь в свой кошмар, где потолок все такой же белый, а музыка за стеной все такая же громкая. Мое тело в очертаниях темени выглядит неестественным, моим и не моим одновременно.
Крик, что должен сотрясать стены, всего лишь сотрясает меня внутри. Осознание приходит не сразу, оно похоже скорее на укус комара, когда через время рана начинает зудеть и желание расчесать её становится буквально единственным, о чем думаешь. Все кажется не настоящим, реальность фонит и трещит, раскалываясь на части.
Я судорожно оглядываюсь, судорожно пытаюсь понять, что происходит, но не получается. Потому что такого не может быть. Не со мной. Не сейчас. Не в момент, когда я вернулся домой и хотя бы немного сумел ощутить себя целым.
В попытке отогнать от себя эти мысли я начинаю ощущать скребущуюся по внутренностям панику, пытаюсь дышать, ущипнуть себя в конце концов!
Ничего не получается.
Мне страшно, и я кричу-кричу-кричу. Громко, так, что будь я жив мог бы сорвать связки. Но никто не слышит, не видит, не чувствует.
Все, что мне остается – это наблюдать. Как забирают все вещи, напоминающие о прошлом. Как фоторамка с изображением родителей разбивается в коробке, когда кто-то кидает в неё футбольный мяч. Как наполненный когда-то дом пустеет, а вместе с ним пустым остаюсь и я сам, даже не ощущая слез, что текут из глаз.
Мне больно. Так, будто из меня вырвали все живое, забрали тепло, оставив за ребрами лишь холод, стерли. Я стараюсь об этом не думать. Но когда ты мертв, единственное, что тебе остается – это вспоминать, наблюдать, ждать чего-то, и от этого не по себе. От ежедневных скитаний по пустому дому в попытке воспроизвести все воспоминания снова, наблюдения за жизнью из-под грязного стекла, понимая, что это совсем непохоже на фильм с Патриком Суэйзи, когда все герои обретают покой.
Правда моего забвения в том, что я одинок там, где когда-то был жив и счастлив. Наверное, так и выглядит посмертие.
Я не знаю, сколько времени прошло с тех самых пор. Дни медленные, тянутся, как карамель и навевают лишь ожидание. Чего? Я и сам не знаю. Покоя? Примирения? Долгожданного ухода в небытие? Пожалуй. Так или иначе, но я должен был уйти, переродиться или отправиться куда-то далеко, но… все ложь. Нет никакого рая, ада и других выдуманных кем-то миров. Есть смерть, а есть жизнь, и я – где-то между ними. Я мертв, но все еще в мире живых.
Недосягаем, не слышим, но существуем.
***
– Нет, Мириам, не стоит. Да. Нет. Да. Хорошо. Я позвоню позже. Пока.
Она не стесняется курить прямо в доме, перемещая сигарету к краешку губ. На вид не больше двадцати пяти. Черные – как непроглядная тьма – волосы, забранные в хвост, острые черты лица, об которые, если бы я был жив (о, самоирония!) с легкостью мог бы порезаться. Маленькая – рост едва ли достигает пять и семь футов. Тягает коробки из стороны в сторону и дышит настолько тяжело из-за жары, что мне кажется, будто это и мое дыхание тоже.
На дворе, судя по распустившимся во дворе цветам, лето. Её кожа – бледная и покрытая мелкими татуировками – поблескивает на солнце. Она бросает трубку в карман спортивных штанов. Вздыхает. Оглядывает масштаб работы и вновь принимается таскать элементы декора в гостиную, не забывая выпускать клубы дыма изо рта.
Вижу её не первый раз: уже была здесь с риелтором, рассматривая дом; с той самой Мириам – противной блондиночкой, от высокого голоса которой хотелось лишить себя слуха.
Это занимательно. Вот так просто взяла и купила дом, принадлежавший когда-то моей семье. Не знаю, что даже и сказать: то ли счастлив, что снова нахожусь в компании живого человека, то ли испытываю очередной приступ меланхолии в отношении того, что мертв.
Скучающе рассматриваю её из-за угла, то и дело цепляясь взглядом за татуировки. Интересное сочетание маленьких пауков и зеленых листов, в которых они прячутся. Выглядит красиво и необычно. Хочется рассмотреть поближе, а еще, что лучше – коснуться. Но если первое осуществить – не проблемно, то со вторым выходит накладка. Я уже пробовал сдвигать предметы, касаться людей, пытался говорить с ними, но все, что показывают в фильмах про призраков – чушь. Я всего лишь материя, не имеющая физических возможностей.
Риелтор явно умолчал о судьбе хозяина дома, раз она еще здесь. Впрочем, даже если бы сказал правду, вряд ли бы это что-то изменило. Цены у побережья кусаются, район отнюдь не молодежный, для семейства дом тоже маловат, хоть мы и жили здесь втроем. И я не знаю, может, по воли судьбы, а может потому, что я и правда чем-то насолил кому-то свыше, но другие здесь не задерживались.
Мне хочется думать, что именно она останется здесь для того, чтобы изменить это. Чтобы просто жить, вновь сделав это место таким, каким я его помню.
От этих мыслей я, почему-то, улыбаюсь.
Она опускается на пол, не переживая о том, что может запачкать домашнюю одежду в пыли и грязи, принесенной с улицы грузчиками. Я присаживаюсь рядом и вожу пальцами по воздуху в том месте, где короткие волоски выбиваются из хвоста. Вблизи моя сожительница выглядит иначе: на коже проглядываются веснушки в районе щек и проколотого носа. Золотая сережка-кольцо переливается в лучах рыжего солнца, которое освещает её лицо и серые – почти, как у моей матери – стальные глаза.
Выглядываю из-за плеча, ловя её секундное замешательство. Но не придаю этому особо значения, прекрасно зная, что она меня не видит.
Приютившиеся на ветках цикады тем временем продолжают щебетать свою песнь.
***
Её зовут Айви и у неё – огромный шрам на спине, рассматривая который сразу же вспоминаю о своем рассечённом колене, куда наложили пару швов. Травм, конечно, было больше, включая разодранные локти, часть щеки, которую я не успел прикрыть при падении, а еще содранной мочке уха, но по сравнению с её рубцами, мои – пустяки.
Как сейчас помню тот день. Мне было около тринадцати, летний солнечный день пах чем-то сладким, цветущим, и при спуске на скейте нога поехала куда-то в сторону.
Я рыдал, как маленький ребенок, который поскользнулся на ровном месте и упал, стукнувшись подбородком. Сидел и смотрел, как кровь заливает кожу, одежду и как багровеет колено, белея под тяжестью надавливаемых пальцев.
У меня было много подобных ситуаций. Мама часто называла меня ходячей болячкой и злилась за мою легкомысленность. Она всегда переживала за мое здоровье, особенно, когда я старался делать вид, что мне на самом деле не больно. Сдерживал слезы, кусал внутреннюю сторону щеки, стоило врачу прикоснуться к месту, что ныло. А потом, когда мы возвращались домой – каждый к своему делу – отчитывала отца за травмоопасные подарки, вроде того же скейта или роликов. Мама всегда боялась, что я сломаю себе шею и навсегда останусь инвалидом. А может вообще умру, с моим-то везением.
Череда переломов, ушибов и посещения больниц закончилась к годам семнадцати, когда их обоих уже не было в живых. Я остался жить с бабушкой, взявшей надо мной попечительство, и решил, что приношу ей слишком много проблем, вроде ежедневных скитаний по городу или игнорированием нравоучений по поводу и без.
Я прекрасно понимал, что она переживала. Мне нужно было взяться за голову. Нужно было перестать быть разочарованием для человека, который был всей моей семьей. Осознание этого пришло резко, в один из дней, когда бабушка заперлась в собственной спальне, и доносившийся оттуда тихий плач вызвал во мне нескончаемое ощущение стыда за то, кем я был и пытался казаться.
Потому я стал уделять особое внимание учебе, завел, вроде как, друзей, чтобы снова вернуться к привычной жизни. Но вспомнить остальное не получается, сколько бы ни пытался. Те дни почему-то смазаны. Напоминают отголосок, неяркую вспышку, что лишь на секунду ослепляет глаза. И только одно до сих пор всплывает перед взором, медленно собираясь по кускам.
Погода в тот день стояла теплая, не слишком жаркая, но настолько солнечная, что порой приходилось скидывать джинсовку и упрямо засовывать её в рюкзак. Тренировку по футболу отменили, и вместо того, чтобы прыгнуть в школьный автобус с остальными, я решил прогуляться.
Май пах растущими в саду ирисами. Причудливые шапки украшали подъездную дорожку нашего с бабушкой дома, и я часто замечал её копошащейся возле них подобно пчелке-наседке, что заботливо поливала цветы из лейки и срезала пару бутонов для украшения кухни.
Нагретые солнцем половицы дома скрипнули, стоило мне переступить порог. Бабушка должна была быть дома, так как по средам в прачечной у нее был короткий день, и наверняка готовить что-нибудь вкусненькое. Но в доме было подозрительно тихо. Я двинулся на кухню в надежде, что бабушка просто не услышала моего прихода, но все оказалось иначе.
Она лежала на полу с тоненькой струйкой крови у рта. Кухонный нож, которым она обычно нарезала овощи, валялся где-то в стороне. Её лицо, что обрамляли седые паутины волос, выглядело умиротворенно, словно она просто прилегла на пол для того, чтобы поспать. Клокочущая внутри меня паника затерялась где-то между вскриком и резким движением к ней в попытке привести в чувство. Её ладонь, что безвольно лежала рядом, была еще теплой, но осознание, что она уже мертва выбило из груди весь воздух.
Я прижал её к себе, укачивая как маленького ребенка, и снова ощутил разъедающую внутренности пустоту, что так упорно пытался из себя вытравить после смерти родителей. Но она, казалось, разрасталась во мне подобно метастазам, и я не знал, что теперь буду делать.
Уже в тот момент я чувствовал, что рядом со мной витает смерть. Не хотел в это верить, но все мое естество будто кричало об этом. Интуиция – интересная все-таки вещь, и жаль, что я никогда к ней не прислушивался. Возможно, сделай я это, многого в моей жизни можно бы было избежать.
Я мотаю головой, чтобы избавиться от наплывших воспоминаний. Пар в ванной заставляет зеркало покрываться легкой дымкой, через которую рассмотреть силуэт Айви становится сложно. Я изначально не собирался за ней подглядывать, просто… сложно устоять, когда понимаешь, что больше не один.
Интересно, скоро ли она признается, что видит меня? Или глаза обманывают снова? Хочется думать, что нет.
Пару раз я уже ловил себя на мысли, что Айви что-то замечает. Слишком много совпадений. Например, при попытках коснуться её – а их бесконечное количество, ибо мне нравится думать, что однажды все-таки получится – она сразу старается уйти в сторону. А когда мне становится скучно, и я начинаю болтать, волосы на её теле встают дыбом, пускай лицо и остается бесстрастным.
Возможно, это просто мое ярое желание думать обо всей этой ситуации в позитивном ключе. Однако не уверен, что если бы она меня действительно видела, то смогла бы так открыто себя вести. Как сейчас, к примеру. Надеюсь, на этот счет я и правда ошибаюсь.
Бесконечное количество разных по размеру, форме и цвету флакончиков, одинокая зубная щетка возле раковины буквально кричат о присутствии живого человека в доме, давно не видевшего уюта и хотя бы толики тепла. Айви погружается в ванную, наполненную горячей водой, и я усаживаюсь на корточки возле неё, замечая, как пена покрывает часть груди. Смущенно отвожу взгляд, понимая, что не должен находиться здесь, да еще и рассматривать её. Слишком интимная обстановка, тем более для того, кто уже давным-давно не видел обнажённое женское тело.
Как же безразлично я раньше относился к обыденным вещам, принимая их как должное. Интересно, вода обжигает кожу? А как пахнет белоснежная пена, которую Айви перекатывает из стороны в сторону? Так много вопросов и желаний, а всё, что я могу – молча наблюдать за всем этим, ощущая толику смущения. Наверное, если бы мог, то точно бы покраснел.
– Придурок, – вслух шепчу я, усмехаясь.
Желание рассмеяться щекочет ребра. Думаю, со стороны выглядит еще более жалко, чем ощущается. Пальцы рассекают воздух и пытаются дотянуться до пузырьков, пропадая сквозь них.
Айви закрывает глаза. Дышит равномерно, глубоко. Волосы распущены и еле достигают плеч. Красивая.
На ум сразу же приходит Фиби – моя первая девушка, в корне отличающаяся от Айви. Рдеющие пухлые щёки, такие же пухлые губы и мягкие – почти детские – черты лица. Она всегда щеголяла на каблуках, стараясь компенсировать таким образом свой небольшой рост и доставая мне едва ли до плеча. А еще отличалась быстрой ходьбой даже на самых неудобных и высоких каблуках.
Порой меня посещала мысль, что Фиби уже родилась в туфлях, и вместо ползунков вышагивала по полу от бедра, как самая настоящая модель Victoria's Secret. Выглядела она тоже соответствующе: подтянутая, с широкими округлыми бедрами, изящными ногами и небольшой, но красивой грудью. С невообразимым количеством родинок на теле, бледной кожей и тонкими музыкальными пальцами.
Фиби временами напоминала мне мою маму. Они с ней были в чём-то похожи: например, в чрезмерной опеке надо мной, любовью ко всему пышному, мелодичностью голоса и манерой раздувать ноздри, если её одолевал гнев. Такие мелочи, но всё еще всплывающие в памяти, как светлые пятна на тёмной футболке.
Забавно, что даже после того, как мы расстались, она все равно приехала ко мне на день рождения. Притащила коробку, обернутую в подарочную бумагу с хлопушками и колпаками, тепло улыбалась и смотрела точно также, как и тогда – в те беззаботные летние дни, которые мы провели вместе.
Мне было хорошо рядом с ней. Фиби всегда излучала какой-то невообразимый поток энергии, делая все вокруг себя не таким бесцветным, каким оно являлось на самом деле.
Иногда я по ней скучаю. Скучаю по возможности снова чувствовать, возможно, не так ярко, не так сильно, но… я скучаю по ощущениям, по тактильности, по своей старой жизни. Как и по всем остальным, кто остался там – за гранью живого.
За гранью, где сейчас существует и лежащая в ванной девушка, за которой я продолжаю наблюдать.
– Хорошо, что ты здесь, хоть и не слышишь, – произношу я. Ресницы Айви подрагивают. – Хотя бы эти пару дней не чувствую себя одиноко.
Она шумно выдыхает и, зажимая пальцами нос, погружается под воду. Я хмыкаю, решая оставить её одну.
Хватит надумывать, Лео.
***
Она много читает. Стеллаж в гостиной забит книгами. Я с интересом оглядываю каждый корешок, пытаясь вспомнить, как они пахнут. Чего тут только нет: и романы, и детективы, и беллетристика, фантастика.
Мне при жизни очень нравился Кинг. У него было действительно очень много крутых произведений, от прочтения которых захватывало дух. Чего стоила «Мизери» или «Кладбище домашних животных». Я любил «Кэрри» – своеобразная, жуткая, но интересная.
В ассортименте Айви его практически нет. У неё очень много учебной литературы, которой она время от времени пользуется. Рабочий стол, из-за которого она практически не вылезает, находится в моей когда-то комнате. Радует только одно – обои со звездами она так и не поменяла, и они до сих пор – сколько с тех пор прошло! – светятся ночью.
Айви вертит меж пальцев сигарету. Пачка «Лаки Страйк» валяется на журнальном столике. Сама она лежит на полу, что укрыт белоснежным пушистым ковром и буравит взглядом потолок.
Я наклоняюсь к ней так близко, что если бы это было возможно, мы бы точно столкнулись нос к носу. Такая мысль веселит, и я невольно улыбаюсь, рассматривая радужку её глаз. Будто замерзшая ртуть.
С момента её переезда прошло, как я думаю, неделя. Не могу быть уверен в этом точно, ведь когда ты мертв, время идет совершенно по-другому. Оно похоже на водоворот: затягивает, и пока делаешь тысячу оборотов вокруг своей оси, то забываешь о том, сколько уже прошло. Особенно остро это ощущается, когда ты один. Но сейчас все иначе: день не походит на «день сурка», пустые комнаты наполнены мебелью и декоративными штучками вроде японских ваз или картин, разрисованных кислотными цветами.
У Айви своеобразный стиль. Она и сама выглядит неоднозначно, что удивляет, но нравится. У неё странные повадки, вроде того же лежания на полу вместо того, чтобы расположиться на стоящем рядом диване. Курит дома, особенно, когда печатает что-то за ноутбуком, а еще практически не выходит из дома, кроме как за продуктами.
Не будь я мертвым, вряд ли бы обратил на нее свой взор. Но сейчас выбор у меня не велик, и я совсем не против подобной компании. Так, думаю, действует одиночество. Или смерть – точно не знаю.
Айви морщит нос, потирая тот рукавом кофты. А затем, содрогаясь, чихает.
– Будь здорова, – по привычке бросаю я.
– Спасибо, – не размыкая глаз, отвечает Айви.
Наверное, если бы у меня сейчас билось сердце, то услышать его стук мог бы не только я, но и Айви.
– Ой, – выпаливает она, прикрывая рот рукой. Я вздергиваю бровь. – Вот же черт!
2 глава. Взгляд
За секунду они успели обменяться двусмысленным взглядом – вот и всё. Но даже это было памятным событием для человека, чья жизнь проходит под замком одиночества.
© Джордж Оруэлл
Айви хватает пары секунд, чтобы подняться на ноги. Мне – мгновения, чтобы заметить в её глазах замешательство.
Занятный факт: мечтаешь о том, чтобы тебя заметили и подали знак, а тебя, на самом-то деле, увидели еще до того, как ты успел об этом помыслить. Обескуражен ли я? Вполне. Что делать с этим? Хороший вопрос, но задавать его я отчего-то не решаюсь.
Айви в два счёта пересекает гостиную и оказывается у порога, натягивая на ноги кроссовки. Я следую за ней, заслоняя собой дверь. Но какой в этом смысл, если она с легкостью пройдет сквозь меня, даже не выслушав?
– Прости, я не хотел тебя напугать, – сбивчиво тараторю я. Айви не поднимает взгляда, дрожащими пальцами пытаясь справиться со шнурками. – Не уходи. Обещаю, я больше не стану донимать тебя, только не уходи. Я не хочу снова оставаться один.
Она молча поднимается на ноги и хватается за связку ключей. Дверь с шумом открывается. Цикады, стрекочущие на улице, запевают свою песнь еще громче.
– Айви! – кричу ей вслед, но она не слушает. – Пожалуйста.
Наши лица находятся в нескольких сантиметрах друг от друга, и мой взгляд, цепляющийся за её, заставляет Айви остановиться.
Она не впервые так близко, но сейчас все иначе – мы смотрим друг другу в глаза. Пусть всего пару жалких секунд, пусть с сомнением и тревогой, но мне достаточно и этого мига. Достаточно, чтобы мысли в моей голове испарились, как по щелчку пальцев до одной-единственной:
Она меня видит. Видит так, как если бы я был жив.
Пальцы невольно сжимаются в кулак в попытке зацепиться за элементы одежды. Хочется отвести взгляд в сторону, но я не могу – не сейчас, когда я так уверен в желании остановить её. Зрачки Айви становятся еще больше, словно две бездонные дыры, под серой радужкой плещется гамма эмоций, прочитать которые довольно сложно.
Как и удерживать её. В любой момент она может перешагнуть порог и устремиться куда пожелает, а я снова останусь один, с кучей непонятных мыслей, терзающих сознание. Хочется думать, что Айви передумает.
Но нет. Ей требуется мгновение, чтобы пройти сквозь меня. Секунда, чтобы захлопнуть дверь. Я усмехаюсь.
Она действительно видит меня, – крутится, пульсирует, делает меня на миг живым. Непривычно.
Это дает мне надежду. Хрупкую, тонкую, такую же призрачную, как и я сам, надежду.
***
Дом пустует вторые сутки. То ли она испугалась моего присутствия, что вполне себе логично, то ли её напугала моя внешность, что бьет по самолюбию еще сильнее, чем то, что она с легкостью игнорировала меня все это время. Честно говоря, правильного ответа я не знаю. Но это довольно занимательно: такими темпами дом снова будет выставлен на продажу, а мое жалкое существование превратиться в один сплошной кошмар. И да, это напрямую связано с тем, что Айви обладает своеобразным даром видеть мертвых.
Наверное, она обескуражена. Оно и понятно, ведь если бы я мог видеть призраков, то наверняка бы рехнулся. Кто знает, сколько таких же неприкаянных душ обитает на самом деле? Не думаю, что я единственный, кто заперт на месте своей смерти. Люди умирают, и это, увы, круговорот жизни, ход которой не изменить даже если загадаешь подобное на день рождения или напишешь об этом в письме Санта Клаусу.
Еще будучи подростком, остро переживающим период смерти собственных родителей, я часто задумывался о бессмертии. Ну, о том, что однажды кто-то изобретет волшебную таблетку, после которой впереди будут ждать бесконечные возможности. Если бы такие таблетки изобрели чуть раньше, это, возможно, спасло бы многие жизни. Но одного я тогда не учел: люди умирают по разным причинам и не все они зависят от возраста или раковых опухолей.
Когда я думаю об этом, мне становится донельзя смешно от тех выводов. И, беря во внимание собственную смерть, с уверенностью могу сказать, что никакие таблетки не могут. Это, в общем-то, просто несчастный случай, и таких – миллион, если не больше. Равновесие в любом случае соблюдается: кто-то умирает, кто-то рождается. Невозможно прожить тысячу жизней, нарушив при этом свод правил, уготовленных природой. Все довольно просто и прозаично, если приглядеться.
К тому же… я бы не хотел жить вечность. Какова цена этой жизни? Всем бы выпал подобный шанс? Видеть, как умирают те, с кем был близок или кто являлся семьей – тяжело. Я сам не понаслышке знаю. Не желал бы знать, но… знаю. Когда остаешься один, пытаешься заполнить себя эмоциями, притворяясь тем, кем на самом деле не являешься. Окружаешь себя людьми, заводишь знакомства, вроде двигаешься дальше, но внутри только и остается, что вакуум. Пустота. Она никуда не исчезает, следует за тобой, как собственная тень, и я чувствую её до сих пор. Все, что я могу – это болтать сам с собой. Никакого веселья. Никаких эмоций.
Ничего.
Сложно оценивать себя. Что тогда, что сейчас. Мне кажется, это два разных Лео. Один – пытающийся делать вид, что живет и его все устраивает. Второй – жалеющий о своей беспечности и желающий всем сердцем вернуться обратно к началу. Но я не персонаж игры, где, совершив ошибку, можно вновь оказаться у старта. Реальность кажется куда хуже, чем пытаешься её романтизировать.
Я совру, если скажу, что не скучаю по прежней жизни. В особенности по родителям, отсутствие которых превратило меня из живого мальчика в существующего непонятно ради чего парня. Запутавшегося, не желающего исправлять ситуацию, а просто плывущего по течению. Мое занесло меня туда, откуда выбраться оказалось довольно сложно. Впрочем, я и сам не сильно пытался.
Да и в чем смысл? – думал тогда я. И только сейчас понимаю, что смысл все-таки был. Только я его в упор не видел. Иронично, не так ли?
Мне хочется к маме. Улечься к ней на колени, почувствовать тонкие пальцы в волосах, услышать её напевы песен, голос, отскакивающий от стен.
Мы часто разговаривали. Эти разговоры могли длиться часами в окружении оранжевых огней кухонной лампы и с горячим чаем в фарфоровых кружках. У мамы в арсенале было припасено тысяча разных историй. Интересных, захватывающих, фантастических. Она умела завлечь меня, заставить слушать, слышать то, о чем говорила. Я всегда считал, что ей стоило писать книжки. Но вместо этого она, не задумываясь, выбрала папу и ту жизнь, в которой мы были по-настоящему счастливы.
Не знаю, почему именно так вышло. В маме всегда было что-то творческое, таинственное, прекрасное – взять хотя бы то, как двигались её пальцы во время бабушкиной игры на фортепьяно. Как она отмеряла шаги, кружась в объятиях папы, её беззаботный смех от его шуток. Сколько в ней было… живого.
Как-то раз, в знойное лето – может быть, такое же, как и сейчас – мы снова выбрались на пляж. Вечер разливался по небу, подобно пролившейся краске, окрашивая облака в невообразимую палитру цветов. Закат почти догорел, линия горизонта сливалась с очертаниями моря, волны которого выбивались на берег и щекотали пятки. Мы стояли на хранившем тепло песке, пытаясь запустить воздушного змея, что никак не хотел взлетать. Температура не превышала семидесяти семи градусов, и ветер, трепавший волосы, обжигал кожу.
Она была одета в легкое платье. Кудри развивались на ветру вместе с подолом пышной юбки, а улыбка, озаряющая лицо, когда у нас все-таки вышло, навсегда отпечаталась в чертогах разума, подобно клейму.
Какой же она была счастливой в тот день. И каким беззаботным был тогда я, бегая с катушкой в руках и наблюдая, как очертания змея скрывались среди малиновых облаков.
– Молодец, малыш! – кричала она. – Но не разбегайся слишком сильно: пускай он сам плывет по ветру.
Я замедлился. Мама двинулась ко мне, будто паря над песком. Она казалась такой легкой, что если бы ветер подул с новой силой, то без проблем заставил бы её подняться еще выше, будто вдогонку за змеем.
Её взгляд был теплым, а рука, успевшая потрепать меня по уже достаточно отросшим волосам, вдруг переместилась на лицо.
– Нужно подстричься, милый.
– Не хочу! – возразил я. – Папа – ужасный парикмахер!
Мама рассмеялась. Звонко, прикрыв глаза, запрокинув голову, она с еще большей теплотой погладила меня по щеке, притянув к себе в объятия. И в объятиях этих было безмятежно, уютно, словно ты наконец дома.
Словно дом – это не место, а скорее чувство, в котором ты наконец становишься собой.
Я не врал, когда говорил, что папа стриг меня просто ужасно. Точнее, он никогда не пользовался ножницами и чаще всего прибегал к помощи машинки, звук которой пугал и казался чем-то действительно надоедливым и противным. Мне не нравилось, когда он заставлял меня усаживаться на высокий стул и состригал большую часть волос, оставляя какие-то жалкие десять миллиметров, из-за которых лицо виделось мне слишком худым и некрасивым. Мальчишки во дворе, в отличие от меня, ходили стричься в парикмахерскую, где приятные с виду женщины усаживали их перед зеркалом, включали погромче музыку, а затем копошились за спиной. Да и результат превосходил старания папы в тысячу раз: если я был больше похож на ежика, то остальные ребята походили на голливудских звезд.
Уже позже, когда навыки отца стали чуть лучше, я начал жалеть, что думал о нём слишком плохо в те мгновения. А с его уходом… сожаление, что больше не он копошится где-то за спиной, разрывало ребра на части.
Воспоминания настолько яркие, что каждое всплывает чаще, чем я успеваю о нем помыслить. Когда закрываю глаза, невольно возвращаюсь обратно – в дымку тех самых чувств, которые теперь кажутся далекими и чужими.
Раньше, во снах, я мог хотя на миг увидеться с ними, эфемерно почувствовать их присутствие. Но призраки не спят. Они, в общем-то, ничего не делают – для них предназначено лишь пустое и бесцельное существование в пространстве дома, не покидая его пределов. Это напоминает автономную работу машины, что запрограммирована на одно и то же действие, пока кто-нибудь не нарушит его порядок. Мне хочется думать, что этим кем-то стала Айви – видящая больше, чем должна.
И появления которой жду больше, чем что-либо еще. На протяжении этого долгого – о, не передать словами насколько – времени мысли крутятся только вокруг неё и развернувшейся сцены, после которой она с легкостью перешагнула порог дома.
Я стою напротив двери, сверлю её взглядом и представляю, что Айви вот-вот зайдет. Думаю, что скажу ей, о том, что мучает меня. О том, что вгрызается в мозг и никак не отпускает.
Но её так и нет. А я, в силу своего положения, терпеливый. Да и временем, если честно, не ограничен. Ожидание, правда, терпеть не могу, но это мелочи.
Она ведь придёт, правда?
***
Мрак, окутавший дом, кажется мне неуютным.
Щелчок. Тихие шаги. Вспышка света.
Она не разувается. Смотрит сквозь меня, двигается в направлении гостиной наверняка за сигаретами, что забыла на журнальном столике. Я двигаюсь за ней, подобно тени, пытаясь обогнать и привлечь внимание. Но Айви не дает – цепляется за пачку и, не говоря ни слова, достает оттуда сигарету, зажимая её меж губ.
Огонь обугливает край бумаги. Айви вздыхает.
– Хватит ходить за мной.
– А? – соскальзывает с языка. Айви оборачивается. Выглядит усталой, расстроенной и… грустной. – Все-таки видишь?
– К моему большому сожалению. Но не переживай: я соберу вещи и поживу у подруги до тех пор, пока дом снова не будет продан.
– Нет! – чересчур резко и громко бросаю я. – Я… я не собирался делать что-то плохое, честное слово! У меня нет намерений мешать, пугать или докучать. Просто… просто это странно. То, что ты видишь меня и… говорить с кем-то спустя долгое время.
Айви не смотрит в мою сторону. Выдыхает облако серого дыма, что своеобразным узором – как шаль – скрывает её лицо на долю секунды. Сквозь мрак в комнату попадают отсветы лампы, что освещает прихожую. Я делаю шаг ближе, она интуитивно отодвигается назад. Боится. Или просто не хочет находиться рядом? Честно говоря, я не знаю. Хочу ли знать? Возможно. Но становиться проблемой – не желаю.
Хотя бы потому, что именно сейчас мы ближе, чем можем быть, и уже за это нужно быть благодарным.
Я останавливаюсь. Выбора у меня нет – либо она действительно уйдет, либо останется, и мне страшно, что единственный человек, которому подвластно меня видеть и – о боги! – разговаривать со мной, навсегда покинет стены этого дома.
– Я знаю, что это эгоистично с моей стороны – просить остаться, и мне бы стоило исчезнуть, чтобы не привлекать лишнего внимания, но… мне страшно. Правда. Очень страшно. А быть одному – тем более, поэтому… пожалуйста, останься. Не стоит менять свои планы только из-за того, что в стенах твоего дома обитает кто-то вроде меня.
Она слушает. Внимательно. И я не могу отделаться от мысли, что тешу себя призрачной – почти такой же, как и я сам – надеждой. Её лицо не выражает эмоций, кроме дикой усталости. Возможно от меня, возможно от всего, что её окружает. Не могу сказать точно, ведь читать мысли стоящей напротив девушки мне не подвластно, как и изменить что-то в отношении её решения. Но где-то в глубине себя я надеюсь, что она останется. Я хочу верить в это.
Хочу, чтобы хоть раз в жизни мне наконец повезло.
В тех же самых спортивных штанах, с собранными в пучок волосами, без косметики. Сигарета скачет ото рта и обратно, становясь все меньше. Пепел Айви стряхивает в пепельницу, что находится на журнальном столике.
Мы встречаемся взглядами. Мой, скорей всего, выглядит жалко, но меня это не волнует. Айви же, несмотря на некую безразличность, скрывает под собой куда больше. Теперь вижу это отчетливо – серьезно вглядываюсь в её лицо, подмечая все тонкости.
Видимо, это не связано со мной. Только с тем, с чем ей ежедневно приходится сталкиваться. Мне хочется сказать ей о многом. И расспросить о многом. Но я молчу, потому что знаю, что одно слово или движение и конец этим безмолвным гляделкам. Конец ощущению, будто я ожил хотя бы на какой-то короткий промежуток времени.
Я опускаюсь на колени. Лоб соприкасается с половицами. Они, скорей всего, холодные. Жаль, что я не чувствую.
– Прости! – упираясь ладонями в пол произношу я. – Я виноват! С самого начала я вел себя неподобающим образом!
– Т-ты чего? Эй, встань с колен, не нужно! – Слышу звон пепельницы, а затем и твердый шаг. – Прекращай. Ну же, давай, я не собиралась вызывать у тебя чувство вины!
Я поднимаю голову, вновь встречаясь с ней взглядом. Сквозит недоумением, грустью, которой она окутана с головы до пят. Мне по-прежнему сложно – чувствовать, как она на меня смотрит. Потому что в этом взгляде то, что напоминает мне о прошлом. О моей жизни.
Такой же взгляд я встречал в отражении. И ненавидел себя за это.
– Все хорошо, честное слово. Ты здесь не причем. Я… уф… ладно. Давай лучше поговорим. Может, из этого выйдет что-то толковое. А теперь поднимайся. Мне неловко от того, что ты стоишь передо мной на коленях, это неправильно.
Её пальцы проходят сквозь меня в попытке схватить за плечи. Повисшее молчание искрит напряженностью и неловкостью, с которой Айви отводит взгляд в сторону, закусывая край пухлой губы.
– Извини, я… – вздыхает она. – Просто поднимись, ладно? Сегодня я точно никуда не уйду, даю слово.
Я встаю на ноги, замечая, какой маленькой Айви кажется рядом со мной. Едва достигает плеча, что немного веселит и приводит в чувство.
Почти как Фиби. Только без каблуков и вычурных нарядов.
– Так лучше? – интересуюсь я, оказываясь перед Айви. Она кивает. А после, приподнимаясь на носочки, пытается что-то разглядеть. – Что?
– Ты жуть какой высокий. Потомок Атлантов? Или баскетболист? Я же не могу быть настолько маленького роста, а?
– Гены. И если тебе неудобно, я могу присесть.
– Э, нет, не нужно. Я не комплексую. Просто поинтересовалась, не принимай это за издевку, договорились? – Айви отходит в сторону и, надавливая пальцами на выключатель, заставляет гостиную озариться ярким теплым светом. Морщится, потому что привыкла к темноте и ладонью прикрывает глаза. Я пропускаю смешок. – Не смейся! Иначе снова буду игнорировать.
Лицо вмиг приобретает серьезное выражение. Айви, замечая подобное, растягивает губы в полуулыбке. Видимо, сдерживает смех и считает меня идиотом, готовым подчиняться любому её приказу. Но я и правда готов на что угодно, только бы все было хорошо.
– О-ох, расслабься ты. Я просто шучу. У меня своеобразный юмор, не спорю, но не воспринимай всерьез.
– Прости.
Айви неспешно подходит к дивану. Я осторожно шагаю за ней, хотя на самом деле боюсь даже смотреть в её сторону. Мне мало верится в происходящее: найти человека, который способен видеть мертвых огромная редкость. Раньше я в потусторонние миры не верил, равно, как и в гадалок или медиумов. Не думал об этом, да и не хотел – если жив, значит нужно делать все, чтобы не думать о смерти. Но сейчас, видя собственными глазами происходящее, удивлен и обескуражен. Не только из-за того, что она может видеть меня, но и потому что говорит, хоть изначально и пыталась игнорировать.
– Как тебя зовут? – интересуется Айви, сбрасывая кроссовки. С ногами забирается на диван и снова тянется за сигаретой, предварительно поставив пепельницу рядом. – Раз ты уже знаешь мое имя, то и мне бы хотелось знать твое.
– Лео. Лео Коуэлл.
– Что ж, Лео. – Она вновь растягивает губы в легкой полуулыбке. – Приятно познакомиться.
Я киваю. Айви рукой указывает на стоящее напротив кресло, и как бы абсурдно это не звучало, намекает мне сесть. Осторожно приземляюсь на край, не зная, куда деть взгляд. Она же тем временем прячет сигарету за ухом, насупившись.
– По-моему, я просила тебя расслабиться.
– Извини.
– И прекрати извиняться. Ох, аж тошно, что ты такой правильный! – вздыхает она. – Я серьезно, ты ни в чем не виноват. Это моя вина. Не нужно было делать вид, что я ничего не замечаю, ведь теперь ты думаешь, что мешаешь мне, а я… уф. Теперь мне ясно, почему цена на дом была такой несущественной. Ты, видимо, бонус.
Она стягивает резинку. Волосы падают на плечи, делая лицо еще необычнее, чем прежде. Айви зачесывает их назад и не сводит с меня внимательного взгляда.
Я не знаю, что в таких ситуациях нужно говорить. Если бы мое чувство юмора было хотя бы на йоту лучше, я бы, несомненно, развеял подобную атмосферу шуткой. Но на ум ничего не приходит. Просто смотрю на нее, наблюдаю, пытаюсь запомнить этот момент.
Момент нашего знакомства.
– Я не буду спрашивать про то, что случилось. Не вижу в этом особого смысла, тебе наверняка неприятно вспоминать об этом. Что касается меня… все довольно просто – от призраков много проблем. И я игнорировала тебя не из-за того, что ты мне не нравишься. Мне, по правде говоря, многие призраки не по душе. Просто это… сложно. Они все начинают просить меня помочь. Ну, знаешь, связаться с их родственниками, передать им что-то, просят остаться. Людей, подобных мне, практически нет. Я, так сказать, самородок, и это усложняет мне жизнь.
Взгляд Айви блуждает по желтым огонькам лампы, что отражаются в окне. Через форточку слышится шум моря и разговоры редких прохожих, прогуливающихся вдоль берега. Она закусывает губу, усмехаясь, и ждет моей реакции. А мне и сказать нечего. Поблагодарить? Это нелепо, учитывая, что Айви сторонится призраков и вряд ли хочет здесь оставаться даже после моей просьбы.
– Не хочу ввязываться в это, понимаешь? Снова наступать на те же грабли, чтобы угодить эгоистичным прихотям тех, кто требует с меня больше, чем я могу. Это проблематично. И тяжело.
– Тогда почему ты сразу не отказалась от покупки дома?
– Потому что ты прятался. И Мириам… она в тот день слишком вымотала меня. Может, поэтому я тебя не заметила. Так или иначе, даже если я останусь, в чем польза? Ты мертв. Как бы хреново это ни звучало, но это так, и я буду напоминать тебе о том, что я – здесь, а ты – там.
Айви достает сигарету, зажимает её меж губ и закуривает.
– И куда ты пойдешь? – изгибая бровь интересуюсь я. – Ты не сможешь продать этот дом за день, жить у друзей – глупо, если учесть, что ты совсем недавно приобрела дом. Я не уговариваю тебя остаться навсегда или выполнить сотню моих требований. Этот дом… он достался мне от родителей. Они умерли, когда мне стукнуло пятнадцать. Я не был здесь пять лет, потому что боялся, что скорбь по ним сожрет меня. Боялся вспоминать, да и помнить, в общем-то. Въехал сюда и думал, что у меня получится побороть свои страхи. Начну мечтать, представлять наилучшую жизнь, но когда умер, осознал, что даже при жизни я был один. Ничего не поменялось, смерть родителей лишь помогла смириться с произошедшим намного быстрее. Так что просить тебя передать моим родственникам, как я скучаю не потребуется. Достаточно просто жить, делать свои дела, создавать уют, работать. Я не доставлю проблем. Просто… не хочу быть причиной твоего переезда. Хочу, чтобы это место… вновь стало живым.
В её взгляде я вижу сомнение. Но есть выбор? У меня – нет, ведь уйди она сейчас, и я снова начну вспоминать, теряться между реальностью и вымыслом, что поглотит без остатка. Я просто не могу допустить этого.
Айви кусает губу. Смотрит на меня долго, изучающе, с примесью грусти и сожаления. Я думаю, что это лучше, чем ничего. А еще – в глубине души – боюсь, что её отрицательный ответ станет причиной для самовольного и дурного поступка, который чуть было не случился до этого.
– Я хотел бы исчезнуть. Я… пытался исчезнуть, но так и не смог. Твое появление в этих стенах что-то изменило. Здесь наконец стало иначе, мне больше не так одиноко и страшно находиться одному. И, наверное, поэтому я приму любое твое решение, даже если ты захочешь продать дом и забыть об этом. Ведь я не настолько эгоистичен, чтобы думать только о своих желаниях.
Молчание повисает тонкой еле видимой стеной из сигаретного дыма, что кружит вокруг её лица. Айви на меня не смотрит, она вообще старается не встречаться со мной взглядом, будто с прокаженным. Я её понимаю – есть вещи, о которых жалеешь в определенные моменты жизни. Видеть призраков – одна из них.
Но разве я могу как-либо повлиять на это?
– Хорошо. – Она кивает спустя пару мгновений. – Я подумаю над этим и дам тебе знать о своем решении.
– Как скажешь. И… спасибо.
Айви тушит сигарету и поднимается с места, ничего мне не отвечая. Её звучные шаги стихают быстрее, чем я успеваю привыкнуть к необъяснимому и странному чувству в груди. Листы позеленевших деревьев качаются из стороны в сторону. Полоса заката расплывается по небу, море продолжает шуметь и наверняка пахнет все так же. Я прикрываю глаза.
Приятно поговорить с кем-то спустя столько времени. Но еще приятнее осознавать, что Айви меня видит и больше не игнорирует.
Улыбка – против воли – расплывается по уголкам губ.
***
– Лео! Ну-ка улыбнись и скажи «Сыр»!
Вспышка. Из полароида вылетает фотография, и Фиби трясет её из стороны в сторону, чтобы поскорее проявить изображение. Глаза находят её лицо, что при солнечных лучах неимоверно теплое, натыкаются на белоснежный ряд зубов, а затем перемещаются ровно туда, где пальцы обрамляют края фото. Фиби едва сдерживает смех и упирается щекой в мой подбородок – я чувствую её улыбку.
– Ну и лицо.
– Я же говорил, что не особо фотогеничен.
– Теперь верю.
След от помады теплом мажет по щеке. Кожа Фиби источает запах кипарисов. Внутри теплеет, и я улыбаюсь в ответ. Руки с привычной быстротой стискивают её в объятиях. Фиби смеется – громко, будто звон колоколов, что пробивает в церкви после молитвы.
– Но ты все равно красавчик. Мой красавчик.
Глаза Фиби светятся настолько ярко, что я не могу полноценно дышать и вымолвить хоть слово. Создается ощущение, будто свет внутри неё ослепляет, и мне становится завидно – я таким наделен никогда не был. Мне всегда думалось, что во мне его вообще нет. Что таким как я он просто не положен, это не заложено в мое ДНК.
Она всегда была… другой.
Глаза неосознанно находят собственную кровать, на которой видны очертания моей новой соседки. Они с Фиби совершенно разные. Хотя бы потому, что Айви – всего лишь человек, с которым мы делим одно пространство.
Она выглядит умиротворённой, когда спит, словно ребенок, которого невольно хочется погладить по голове. Грудь вздымается равномерно, дыхание плавное, а сидящая на краю кровати игрушка в виде лисы навивает мысли о детстве. Не знаю к чему я вспомнил о Фиби, смотря на неё. Что делаю в её – или все-таки моей? – спальне. Но быть сейчас здесь кажется мне наиболее правильным решением.
Я наблюдаю за Айви, как тень, что притаилась в углу, и чувствую себя весьма… странно. Совсем не потому, что это неправильно, а скорее из-за того, что я уже давным-давно ловлю себя на мысли, что мне нравится это делать. Смотреть на неё, находиться рядом, пока она об этом не догадывается, делить с ней пусть и такие мгновения. С ней я просто… чувствую. Моменты, мелочи, которые раньше никогда не брал во внимание, чувствую этот дом так, будто он начинает дышать и жить.
Все здесь иначе, не такое, каким было до моей смерти. Казалось бы, ровным счетом ничего и не изменилось: те же стены, тот же пол, потолок и вид из окна, но именно в это мгновение я чувствую себя чужим здесь. Только и делаю, что раз за разом всматриваюсь в рисунок жирафа и пытаюсь провести по нему пальцами. Как тогда, перед вечеринкой. Но не выходит. И это разочаровывает – моя бесполезность.
Я усаживаюсь рядом с Айви, проводя ладонью по её голове. Хочу почувствовать тепло, мягкость, хоть что-нибудь вместо пустоты за пролетами ребер. Даже укладываюсь рядом с ней в дурацком порыве ощутить себя живее, чем прежде.
Я стараюсь её обнять и прижаться максимально близко. Чтобы слышать стук сердца и размеренное дыхание.
Ничего, что так вышло, – думаю я. – Хотя бы сейчас я не один. И чувствую себя намного лучше лишь благодаря тебе.
Я закрываю глаза. И отчетливо на периферии сознания улавливаю все тот же смех Фиби.
– Еще одно фото! Улыбнись!
Щелчок. Вспышка. И наши лица, где моя улыбка кажется по-настоящему искренней.
– Сохранишь это фото для меня? Я хочу, чтобы ты помнил об этих моментах.
– Я и так не забуду.
– Знаю. А теперь поцелуй меня.
– Останься… – сквозь сон шепчет Айви, и это заставляет меня немедля выбраться из кошмаров собственной памяти. – Останься.
Если бы сердце было способно биться, если бы я только ощущал эти болезненные толчки в груди, если бы только я был жив – все было бы иначе. От осознания всего этого становится действительно неприятно, но рука – несмотря на мысли – продолжает рассекать пальцами воздух рядом с головой Айви. И я чувствую – на самом деле, без самообмана, – как от неё исходит тепло.
Айви делает глубокий вдох. И затем, расслабляя напряженные руки, что до этого сжимали одеяло, укладывается по удобнее, оказываясь ко мне еще ближе. В этом движении чувствуется, как беспокойство внутри неё уходит куда-то прочь вместе с моими плохими мыслями.
Ветер тихонько проникает в комнату вместе с далеким всплеском волн.
3 глава. Принятие
Сложно принимать свою жизнь всерьёз, когда видишь её целиком.
© Айзек Марион
В тот день было так холодно, что выбираться из-под одеяла мне не хотелось до последнего. Даже запах любимых блинчиков с кленовым сиропом, вызывающий зверский аппетит и болезненные спазмы в районе желудка не могли заставить меня встать с кровати.
За окном, как и сейчас, лил дождь. То был конец весны: кроны деревьев в сером затянутым тучами небе смотрелись нереально высокими и, казалось, старались прорезать кусок облаков.
Море за окном плескалось крайне беспокойно. Волны поднимались выше и пенились у самого берега, разбиваясь об него, будто норовили пробить своей силой песок. Пляж пустовал. И пусть дымка от падающих на землю капель выглядела удручающе, мне нравилась эта картина.
Я любил дождь. И сейчас, если честно, люблю, с упоением наслаждаясь его шумом.
Помню, что встал ближе к обеду, когда аппетит все-таки взял надо мной верх. Теплый свет от светильника на кухне расплывался под ногами, паркетная доска была прохладной. Ветер шкодливо сквозил по оголенным ступням и проворно забирался под пижамные штаны.
Крыльцо, на котором я любил сидеть в такие дни и с упоением читать Гарри Поттера, было укрыто под навесом, но край дощечек все равно оставался мокрым. Приютившаяся на них кошка завороженно наблюдала за погодой. Взгляд пушистой был настолько спокойным, настолько свободным и беспечным, что он навсегда отпечатался в моей памяти.
Мама, сидевшая за кружкой ароматного чая с бергамотом, внимания на меня не обратила, задумчиво уставившись в окно. Желтый отсвет лампочки над головой мазал по её собранным в хвост волосам, накинутая на плечи вязанная кофта слегка съехала с плеча.
Я прошмыгнул мимо. Тарелка с блинчиками стояла возле плиты, от души политая сиропом и украшенная взбитыми сливками. Воздушный крем был таким сладким, что немного сводило зубы. Но именно за это я его и обожал.
– Лео, милый, ты поздно, – произнесла мама, выплыв наконец из своих мыслей. Я пальцем смахнул сливки и отправил их в рот. – Опять съешь весь крем, вместо того чтобы полноценно позавтракать.
– Он вкусный, – довольно пробормотал я, взяв тарелку в руки. – Как себя чувствуешь?
Мама была слегка бледной. Под глазами пролегли синяки, уголки пухлых губ, что всегда были растянуты в улыбке, теперь были опущены. Тонкие пальцы рук, туго стянутые кожей, стали костлявыми и едва держали кружку.
Она взглянула на меня. В её светлых глазах отчетливо проскальзывала усталость. С каким бы теплом или заботой мама бы на меня не смотрела, осознание того, как тяжело ей это давалось в буквальном смысле убивало меня изнутри. Я видел, как ей было плохо, понимал, что из мамы в буквальном смысле уходила жизнь, и об этом кричало абсолютно все: её внешний вид, поза, воздух, пропитавшийся лекарствами.
Она не рассказала про свою болезнь никому, кроме папы. Посчитала нужным не впутывать в это меня, надеясь, что наступит ремиссия. Папа стал чаще задерживаться на работе, чтобы оплатить счета за врачей, старался баловать её, дабы не давать ей впадать в унынье окончательно. Но болезнь была гораздо сильнее. Она съедала маму подчистую.
Как бы я ни пытался выяснить причину – ничего не получалось. Этим мама нередко напоминала мне партизана, которого пытай сколько хочешь и все равно останешься в дураках. Понимаю, она оберегала меня от правды из хороших побуждений, но тогда – будучи пятнадцатилетним подростком, коллекционирующим комиксы, игры для PlayStation1 и живущим в мире, где всегда все было хорошо – я только и мог, что злиться. Злиться на ситуацию, на свою беспомощность, на жизнь, которая по кусочку, день за днем отнимала у меня маму.
Я не знал, как смириться с этим. Принять саму мысль, что однажды таким же дождливым утром я войду на кухню, а её там больше не будет. Все продолжит двигаться в своем темпе, жить дальше, но без мамы. Я просто не мог. Не мог вынести, вообразить, каково это – окончательно потерять её. Казалось, это было невозможно. Что я задохнусь без присутствия её смеха, запаха, взгляда, я сгорю в агонии без шанса идти дальше без её напутствий и поддержки. Вот какие мысли одолевали меня день за днем.
Я старался бежать от них. Не думать. Не представлять наихудший из исходов, ведь это слишком больно. Злость стала расти. Её сплетение с беспомощностью, грустью и ожиданием делали только хуже. Я изо всех сил старался все контролировать, но в итоге закрылся в себе настолько глубоко, что так и не смог найти оттуда выход.
В тот переломный момент в моей жизни появился Курт Спесси – низкорослый, прыщавый пацан с брекетами и комплексом самоуверенности в придачу. Я не нравился ему, а он – мне, и вовсе не потому, что я отличался – все мы, по сути, разные и не похожи друг на друга – или притягивал к себе внимание нарочно, вовсе нет. Просто иногда в твоей жизни находится тот, кому становится скучно. И единственное, что может его хоть как-то развлечь – это попытка вывести тебя на эмоции, которые ты насильно прячешь внутри.
Именно этим Курт и занимался. Он донимал меня, казалось, везде и постоянно: на совместных предметах, в коридорах школы, в школьном автобусе по возвращению домой, при поездках на выездные игры нашей команды по футболу. Таким образом Курт пытался самоутвердиться: если человек не отвечает на твою грубость грубостью, значит, он вряд ли когда-нибудь поднимется на тот же пьедестал, что и ты. Для того, у кого имелись богатые родители и новейшие вещички, это было в приделах нормы.
У меня – среднестатистического подростка из обычной семьи – таких изысков не было, но я и не парился, ведь кичиться перед остальными было глупо. Но Курт, для которого хвастовство являлось частью образа, смотрел на это иначе.
Сдерживаться было сложно, особенно, когда он собирал вокруг нас народ, будто делая из перепалки одно из цирковых шоу. В такие моменты мне хотелось превратить его лицо в цвет малинового пирога, однако сдерживало множество факторов. Одним из них была мама, и мне не хотелось становиться еще одной причиной её беспокойства.
Однажды мы с Куртом все-таки подрались. Это произошло в старших классах, когда родителей уже не было в живых, а моральная составляющая перестала иметь значение для прогнившего Курта хоть какую-либо ценность. Я думал, что буду сожалеть, но, видимо, за все годы его извечных придирок, издевательств и неприязни, сидевшие внутри меня эмоции нашли выход через кулаки.
Я плохо помню, как это произошло. Красная пелена ярости перед глазами застелила собой все, что только было возможно. Нас растащили лишь когда от уродливого лица Курта не осталось ничего, кроме сплошного месива из крови, потому что я умудрился сломать ему нос и парочку зубов, вставших из-за брекетов на место. Но те ощущения… они живы до сих пор.
С тех пор Курт оставил меня в покое. Бросал косые взгляды до окончания обучения, делал вид, что презирает меня и не хочет связываться, но я знал истинную причину. Он боялся. Не остановись я тогда, его не самое красивое лицо стало бы одной единой массой, которую собирали бы по кусочкам врачи.
Последствия этой истории не столь серьезны, какими могли быть: бабушку вызывали к директору, я месяц посещал психолога, считавшего, что мне нужно научиться лучше контролировать свой гнев, а родители Курта, узнав о ситуации, не стали обращаться в полицию и списали весь инцидент на мою острую восприимчивость после смерти родителей. Но это было неважно: Курт заслуженно получил за свой длинный язык, и никто не стал с этим спорить. Справедливость восторжествовала, пусть и с опозданием.
Мама же тем временем потрепала меня по волосам. Она это дело любила. Говорила, что у меня такие же шелковистые волосы, как у папы. Только цветом они уходили не в шоколад, а в пшеничный, который я всем сердцем ненавидел. В отличие от матери, которой этот цвет безумно шел, я выглядел блекло и странно с короткой стрижкой ежиком, с которой ходил большую часть детства и юности.
Потом, конечно, волосы стали отрастать, и я наконец успешно посетил парикмахерскую, воплотив в жизнь то, что давно хотел. Но от ощущений, что позади орудует не папа с машинкой, а полноватая негритянка с ножницами становилось тоскливо.
– Я в порядке, малыш. Просто плохо сплю. – Мама наклонила голову вбок, измученно улыбнувшись мне уголком губ. – Ты такой красавчик. В этот раз папа отлично справился со своей ролью парикмахера.
– Да, за эти пару лет он наконец добился успеха, – хмыкнул я.
Волосы хоть и были коротковаты, но все равно ложились довольно непослушно. Мне часто приходилось прибегать к помощи воска для укладки или лака для волос.
Я коснулся маминой руки – холодной, почти безжизненной, прозрачной – и почувствовал, как внутри все стремительно потяжелело.
Умом я в тот момент понимал, что мама, скорей всего, умирает. А вот сердцем отказывался. Лелеял надежду, что все обязательно наладится. Детские мечты, вроде той же веры в супергероев или в Бога, вознося ему молитвы и соблюдая своеобразный пост. Мне хотелось верить. Не в Господа Бога, а в чудесное исцеление. Она его заслуживала.
Но… никакого исцеления не произошло. Она умерла уже в больнице, через неделю после того, как мы мирно сидели на кухне и вместе наслаждались интенсивными постукиваниями дождя.
Я обнаружил её в ванной без сознания. Она нехило приложилась головой еще при падении, о чем свидетельствовали разбросанные по полу флаконы, полотенца и туалетная бумага, что всегда покоились на небольшой тумбе. Не знаю, что меня дернуло заглянуть туда перед тем, как отправиться в школу, но не сделай я этого, она не прожила бы чуть дольше.
Запах в больнице был плохим. Мне жгло ноздри, щекотало гортань и впитывалось в кожу рук, которые постоянно хотелось чесать. Нервы. Беспрерывные гляделки на дверь, сидя в коридоре, что был полон людей. Ожидание. Бесконечное ожидание и долгожданная встреча с её еле живым подобием. Все та же рука в моей ладони. Легкая, как пушинка и ледяная, как у мертвеца.
– Лео, милый, – прохрипела она, заглядывая в мои глаза. – Я так сильно люблю тебя, мой чудесный мальчик. Моя мама, знаешь… перед тем, как бросить меня у дверей приюта сказала мне очень мудрую вещь. Я хочу, чтобы ты помнил о ней и вспоминал в самые трудные для тебя моменты. Ну же, не плачь.
Она утерла мои слезы. Движение далось ей тяжело, гримаса боли выступила на худом и бледном лице, что почти сливалось с больничными стенами.
Я улегся рядом и послушно положил голову маме на грудь, вслушиваясь в то, как билось её сердце.
Бум. Бум. Бум. Пулеметная очередь.
– Спасти себя можешь только ты сам. И исцелить себя – тоже.
Я ничего не ответил ей. Не мог найти подходящих слов, успокоиться. Мне казалось, что еще немного и её тяжелое дыхание затихнет, тепло, что слабо ощущалось сквозь больничное одеяло, превратиться в леденистый холод. Я плакал и вжимался в неё, боясь, что мама вот-вот исчезнет, и страх, как и боль от понимания этого буквально разрывали меня на части.
Я молился о том, чтобы она выкарабкалась. Впервые в жизни, сколько себя помню, я просил Бога не забирать её у меня, потому что не мог представить своей жизни без неё. Не хотел представлять, ведь это же моя мама. Та, кто всегда учил меня хорошему, кто был рядом в самые непростые моменты моей жизни, кто подарил мне эту самую жизнь.
Я не выпускал её из объятий до самого вечера, пока в палате наконец не появился папа. Мы недолго просидели втроем. В молчании, под звук пикающих приборов, при слабом свете настольной лампы, стоящей неподалеку. Будто снова вернулись в наш дом у моря.
Через время папа отправил меня за кофе. Я послушно поднялся на ноги, но не хотел уходить. Боялся, что, уйдя не обнаружу маму, когда вернусь. Медлил, эгоистично полагая, что тем самым могу замедлить её смерть.
Но смерть не знает времени. Она берет свое по праву, неважно когда: сейчас, через мгновение или через несколько долгих минут, проведенных возле кофейного аппарата. Поэтому, когда я вернулся в палату, мама уже не дышала. Сжимающий её в объятиях папа впервые плакал при мне, и мысль, что мама умерла у него на руках, ядом расползлась внутри. Видимо, все это время она ждала и терпела лишь для того, чтобы попрощаться с ним, оставшись наконец наедине.
Вслед за этим не стало и папы. Он ушел без слов напутствия, записок и того, что обычно говорят перед уходом на тот свет. Он не боялся. Кажется, смерть мамы забрала и его смысл для того, чтобы жить. Врачам так и не удалось откачать его от лошадиной дозы снотворного, что он принял.
Только потом я узнал, что они дали друг другу обещание, невзирая на то, что будет. Не бросать друг друга. И сколько бы я не плакал и не пытался понять, почему, ответ на самом деле был довольно простым и плавал на поверхности.
Дело было не во мне. Дело было в их любви – слишком сильной для двух людей, поглощённых ею полностью. И несмотря на то, что я занимал в их жизни важное место, я никак не мог повлиять на подобный исход. Слабость ли это? Или, быть может, сила – добровольно пойти на подобный шаг? Сложно сказать. Но теперь, став старше и его приняв чувства, осуждать папу не имеет никакого смысла.
Первый год дался мне тяжело. Боль была осязаемой, живой. Я жил в ней, дышал ею, я варился в этом чувстве так долго, что за ней пришли ненависть и ярость. Бесконечная агония ломала кости, и я не понимал, как люди вообще могут справиться с чем-то подобным, будучи предоставлены сами себе. Как принять смерть дорогих людей, если все, чем ты жил до этого больше не имеет никакого значения?
Бабушка не раз становилась свидетелем моих истерик. Я больше не плакал, только и делал, что срывал злость на вещах. Резал футболки, купленные мамой, сжег перчатку для бейсбола, выкинул ролики, предварительно швыряя их об асфальт с такой силой, что отскочило пару колес. Я даже порывался сломать скейт, но в какой-то момент остановился. Подарки не были виноваты в моей потере, они всего лишь память, которую я должен был сохранить вместо того, чтобы бездумно уничтожить.
С тех пор я не мог находиться дома. Казалось, что стены давили на меня и пробуждали болезненные воспоминания. То, как папа смотрел на маму, как держал её руку, с какой любовью целовал и кружил по гостиной, танцуя под мотив Cranberries, песни которых были записаны на кассетах, ведь магнитофон был их своеобразным атрибутом. Не мог заходить на кухню, потому что там больше не было её. Я перестал выходить к пляжу, где проводил почти все свое свободное время, будучи маленьким.
Тогда-то бабушка и увезла меня к себе. Её дом был больше, в нем всегда пахло выпечкой, цветами, в нем ощущался уют. Возле него не было моря, а значит не было и этих самых воспоминаний. Все то же бегство, но с верой, что я сумею построить новое, непохожее на собственное прошлое будущее. Без боли, сожалений и оглядки на мир, что в один из дней превратился в пепелище моих детских грез.
Занятно, что спустя некоторое время в моей жизни появилась Фиби.
Я по праву считал её своей первой любовью, хоть и понимал, что это не так. Я чувствовал к ней самые светлые чувства, на которые был способен, но настоящей любви – никогда. Рядом с ней было просто… хорошо, спокойно. Рядом с ней я дышал, пусть и не полной грудью.
Фиби вызывала во мне желание. Я хотел её касаться, коротать рядом с ней время, я был благодарен за то, что, будучи ярче солнца, она вновь вдыхала в меня жизнь. Но когда мы расходились по домам, я практически не думал о ней. Вспоминал только когда она появлялась или проявляла инициативу. Фиби была двигателем отношений, и меня это устраивало. Я думал, что так и должно быть, это правильно.
Только сейчас понимаю, насколько обреченными оказались эти отношения. Она заслуживала лучшего.
Я трясу головой. Думать о Фиби не хочется. Воспоминание о родителях отдается мимолетным теплом, будто растекаясь по телу, делая меня не просто сгустком энергии. Улыбаюсь, продолжая наблюдение за каплями дождя.
На крыльце вместе со мной за тем же действом наблюдает кошка. Та самая, которую я видел тем днем. Красивая. Пушистая, да еще и трехцветная. Должно быть, счастливица, пускай и выглядит чересчур худой.
И взгляд у неё все тот же. Свободный. Боже, как же я завидую.
– Ну привет, красавица, – тянусь к ней. Пушистая поднимает голову, переводя взгляд на меня.
– Что ты тут делаешь? – Я слышу, как скрипит дверь. Голос у Айви сонный и серьезный. Я не оборачиваюсь. – Ох, привет пушистым!
Она присаживается на корточки рядом с кошкой. Трепет её по шерсти, чешет за ухом и заставляет ту замурчать. Я замечаю, что Айви все еще в пижаме, с шухером на голове и опухшими ото сна глазами. Босиком.
– Ты, должно быть, голодная. И жуть какая худая! Тут что, людям денег на корм жалко? – интересуется она.
Я пожимаю плечами.
– Не знаю. Пока мы тут жили, моя семья всегда её подкармливала.
– А почему не взяли себе?
– У меня аллергия. Хотя я очень хотел себе питомца, – улыбаюсь, переводя взгляд на кошку. Та начинает тереться об руки Айви. – Приходилось довольствоваться рыбками. А с ними, знаешь ли, не поиграешь.
– У меня была крыса. Черно-белая, с длинным хвостом. Её звали Вилли, в честь солиста группы HIM. Она ненавидела чужаков и кусалась. Все мои подруги её ненавидели. А я любила. Потому что она была похожа на меня. Такая же странная, но ласковая с теми, кто дарит ей ласку вместо кнута.
Повисает неловкое молчание. Айви продолжает одаривать лаской пушистую, а я – наблюдать за ними, вслушиваясь в шум дождя. Должно быть, запах на улице стоит чарующий: я замечаю, как Айви втягивает воздух через нос, что гулко проходится по носоглотке, а после улыбается уголком губ.
Мне кажется, что несмотря на весь свой внешний вид, Айви выглядит мило. Эта мысль не покидает моего сознания уже очень долгое время. Странно.
На самом деле, у меня довольно противоречивые чувства на её счет. С одной стороны, я благодарен за то, что имею возможность быть рядом и участвовать в её жизни. Айви держит дистанцию, что правильно и рационально с её стороны. А вот с другой… с другой мне кажется, будто все это надувательство. Что сейчас она даст мне надежду и в самый последний момент уйдет, когда я привяжусь и буду испытывать боль – настоящую, а не фантомную – от того, что она так поступит.
Мне не хочется думать об этом, потому что я не считаю Айви такой. Но и поводов не верить в подобную теорию у меня тоже нет. Своеобразная ловушка. Мы не доверяем друг другу (хотя я не должен даже помышлять о подобном, в моей-то ситуации), но делимся какими-то незначительными вещами вроде питомцев.
Мы сидим так несколько минут, в наслаждении слушая шум дождя, негромкое, но слышимое мурчание кошки и прогоняем в голове былые воспоминания детства. Каждый своё.
А чуть позже возвращаемся обратно. В гостиной приглушен свет, от кружки, что стоит на столике, тянется еле заметный пар, а по цвету содержимое напоминает кофе.
Ужасно скучаю по латте. По его запаху, по сладости напитка и по тому, как горячо он обдает желудок, спускаясь вдоль пищевода. Как после него колет язык, как разгоняется по телу кровь, заставляя согреться.
Я всегда покупал себе латте, прежде чем идти на пары. Милая бариста – худенькая девушка с белёсыми волосами и выразительными глазами – не только готовила самый вкусный в мире кофе, но и каждый раз подписывала мой стаканчик, делая мелкие заметки. Вроде «Поправь волосы» или «У тебя сегодня классная рубашка».
Она была немного стеснительной и нерешительной, когда мы пересекались в кофейне. Меня в то время мало волновали девушки, а она так и не решилась переступить через свою неуверенность и боязнь быть отвергнутой, оставшись баристой, что работала на Роук-стрит и обладала красивым голосом, вкупе с невинным взглядом.
Мне приятно помнить такие моменты. Словно я снова жив и это было вчера, а не два года назад.
Айви, судя по всему, пьет растворимый кофе. Его вкус мне всегда претил: чаще всего излишне горький, но при этом сладкий привкус лип к зубам и языку. Нестерпимо хотелось почистить зубы после одного единственного глотка.
Сегодня Айви собирается работать в гостиной. Об этом свидетельствует раскрытый ноутбук, приютившийся на диване. Пока на заднем плане будет работать телевизор, я буду отвлечен хотя бы на него. Это всяко лучше, чем искоса наблюдать за ней.
Вспоминаю произошедшее ночью и хочу дать себе пощечину. Мысли, словно паразиты, грызут сознание. Стыдно за вольность. Да и за слабость, признаться, тоже.
– Ну вот, теперь на одну голодную кошку меньше, – сообщает Айви, прикрывая за собой стеклянную дверь, что ведет на крыльцо. Подходит к столику и, цепляясь за кружку, делает глоток. Она уже успела сходить в ванную, но по-прежнему стоит в своей милой пижаме с нарисованными авокадо. – Ну и что будем делать?
Айви изгибает бровь. Я выпадаю от вопроса и от взгляда, обращенного к мне.
Что будем делать? В каком это смысле? Мне надо исчезнуть или что?
– Я похожа на горгулью? Твое выражение лица заставляет меня думать, что да.
Она улыбается. В серых глазах плещутся смешинки, сверкают, как изумруды под ярким светом лампы. Уголки губ ползут вверх, заставляя меня с облегчением выдохнуть и смеша тем самым Айви.
Её смех приятный, с легкой хрипотцой. Да и сам голос – низкий и звучный, сливающийся в одно целое с дождем – звучит хорошо. Из тех, чей тембр успокаивает, убаюкивает и заставляет вылезти наружу самые потаенные чувства. Мне нравится.
– Ладно. Я подумала, что раз мы под одной крышей, то должны хотя бы подружиться. Не думай, что я изменила свое мнение о призраках: они все еще мне не нравятся. Тебе просто повезло, что у меня нет желания разбираться с бумагами и бегать по агентствам. Да и времени у меня на это сейчас никак нет. Так что давай договоримся: ты можешь наблюдать, но не мешать. Я много работаю и ненавижу, когда кто-то мне докучает. И еще, – её взгляд становится серьезным, – не ходи за мной по пятам. Тот случай в ванной я стерпела, но следующий – навряд ли.
Если бы я мог сейчас вспыхнуть, подобно спичке, то сделал бы это, даже не успев помыслить о подобном.
– Так что постарайся.
Я киваю. Айви улыбается.
– Ну и ладушки. А теперь извини, но мне нужно вернуться к ноутбуку. Дела не ждут.
Она усаживается на диван.
– Ты будешь… м… работать в тишине? – интересуюсь я. Секунду Айви обдумывает сказанное, а потом приподнимает бровь. В глазах отчетливо виден немой вопрос. – Просто… я подумал, что мог бы глянуть что-нибудь, чтобы не отвлекать тебя. Не думаю, что тебе нравится, когда кто-то смотрит на тебя во время работы. Мне, например, не нравилось. Я ненавидел, когда мама нависала надо мной, проверяя уроки.
– Хорошо. Хочешь что-то определенное или без разницы?
Меня удивляет поставленный вопрос. В таком положении она просто могла бы включить телевизор и не задумываться: а хочется ли мне посмотреть ужастик, к примеру? Я не знаю, как реагировать. Наглеть не хочется, да я никогда и не пробовал. А если откажусь, то поведу себя, как идиот.
Айви замечает смятение.
– Присядь-ка пока на кресло, а я найду что-нибудь. Мне нравится смотреть обзоры на игры. Хоть по мне и не скажешь, что я могу любить что-то такое, но иногда реальность кажется настолько дерьмовой, что ты находишь спасение в чем-то подобном. Думаю, ты понимаешь, о чем я. Ты играл в Until Dawn2? Одна из сценаристок моя бывшая однокурсница. Я помогала ей с вычиткой пары эпизодов. Это была колоссальная работа и жуть какая интересная. А проходить то, с чем имеешь дело – отдельная степень удовольствия.
Её взгляд. Горящий, живой, наполненный эмоциями. Она воодушевлена и счастлива только от одной игры.
Мне нечего сказать. Такое чувство, будто в рот налили клея, заставив язык намертво прилипнуть к нёбу. Хочется просто смотреть и слушать, о чем говорит Айви. Это ощущается, как самый настоящий гипноз: действуешь будто по наитию, не до конца понимая, что делаешь.
Вместо того, чтобы сесть на кресло я оказываюсь на диване, краем глаза замечая в ноутбуке открытую страницу ворда. Она наполнена текстом: буквы выстроены в ряд, собираясь в слова и предложения. Айви пишет. Или редактирует? Точно непонятно. Но мне становится до жути интересно.
На экране телевизора всплывает картинка. Айви откладывает пульт и ставит ноутбук к себе на колени. Между нами небольшая дистанция, каждый находится на своем краю дивана. Про то, что я свольничал и занял место рядом она ничего не говорит. Снова делает глоток кофе и принимается бить по клавишам.
Я перевожу взгляд и полностью отдаю свое внимание происходящему на экране.
***
Пару дней я просто нахожусь рядом с Айви. Она полностью сосредоточена на работе, а я, будто живой, радуюсь телепрограммам на ТВ. При жизни телевизор не представлял для меня ценности. Сейчас же я думаю, что многое потерял, не отвлекаясь на зомби-ящик хоть изредка.
Наши с ней отношения тоже слегка изменились. Она перестала меня сторониться, приняв все, как неизбежное. Я же, стараясь особо не докучать, большую часть времени провожу в гостиной, все также смотря на море.
Айви все равно собирается съехать. Не сейчас, в будущем. И как бы эта мысль меня не огорчала – остается только мириться.
А еще я немного помогаю ей в работе. Что, кстати говоря, не только удивляет, но и радует. Чувство нужности. Я больше не бесполезен.
Еще один жаркий день: Айви утирает пот с висков, откидываясь на кресле и отнимает руку от мышки. В комнате царит полумрак из-за задернутых штор.
Я тем временем перечитываю очередную главу. У неё довольно легкий язык и красочные описания. Но ситуации между персонажами кажутся мне притянутыми за уши.
– Ну что? – интересуется она, поворачивая кресло. – Все сильно плохо?
– Что замышляет Джексон?
– В смысле?
– Это не первая глава, в которой говорится, что у него есть четкий план для отместки за брата. Но что за план? И когда он уже сделает хоть какой-то шаг для осуществления этого плана? Ты тянешь время.
Айви хмурится.
– Мне нравится все, кроме этой интриги. Её можно держать по началу, но к середине произведения от нее начинаешь уставать. Люди любят зрелища, а ты их словно избегаешь.
Она кивает. Я выдыхаю в надежде, что не задел её своими словами.
– Ты прав. – Айви тянется за журналом и обмахивает лицо. Кондиционер сдох еще вчера, а ремонтник обещал заглянуть сегодня только после обеда. – И я злюсь только на себя. Если бы ты не указал мне на это, работа вышла бы неинтересной и затянутой, а это как писателя меня ничуть не красит. Я думала, что смена обстановки поможет. Но, похоже, я иссякла, как автор.
– Нет. – Качаю головой, делая шаг ближе. – Не нужно так думать. Твоя проблема в том, что ты не знаешь, о чем пишешь. Возможно, не примеряешь роль своих персонажей на себя. Вот какой бы план придумала ты, если бы узнала, что брат умер от рук своих же друзей? Я бы втерся в доверие и сжил бы со свету каждого. Это было бы вполне логично.
Я вижу тень задумчивости на её лице. Ломанные лучи солнца, упорно пробивающиеся через шторы, падают на испарину в районе ложбинки её груди. Майка облегает по фигуре и делает Айви по-домашнему красивой. С пучком на голове, легкими синяками от недосыпа – она практически не спит, хлестая кофе и проводя все время за ноутбуком – и безоблачными серыми глазами.
Рука тянется поправить спавший на лоб волос. Айви, в задумчивости размахивая журналом, этого не замечает. А я вовремя вспоминаю, что не могу даже волосинку сдвинуть, бросая дурную попытку.
Телефон, лежащий на столике, резко начинает ездить по поверхности, издавая мелодию. Айви тянется за ним. Выражение её лица становится донельзя измученным. Я замечаю скачущие буквы, собирающиеся в одно единственное имя – Мириам.
– Привет, – отвечает Айви. Проходит пару секунд, прежде чем она говорит, что дела у нее хорошо и книга в процессе. А потом, выслушав монолог на три минуты, закатывает глаза. – Нет, Мириам, никаких свиданий вслепую. Не подписывай меня на это. Да, я знаю, что могу остаться старой девой. Прекрати. Что? Нет. Даже не думай! Мириам!
Гудки. Айви растерянно глядит на телефон. Вздыхает. Откладывает гаджет в сторону и следует в ванную. Я выскальзываю за ней, пока она не видит и покорно остаюсь в коридоре, не смея пересекать границы.
Похоже, разговор с подругой не закончился ничем хорошим.
***
– Ты скучаешь по морю?
В свете вечернего солнца её волосы отливают позолотой. Ветер треплет их, заставляя взлетать над плечами. Она рассматривает морскую гладь, сидя на том же самом месте, где раньше сидела кошка. Сегодня на Айви платье с тонкими бретельками, нежно-голубое.
Я сижу рядом, и мне кажется, что если бы мое сердце все еще билось, оно сумело бы замереть от красоты, что открывается перед глазами. Малино-розовые облака и движущееся к горизонту солнце.
– Пока жил с бабушкой, то скучал. Но сюда не возвращался, потому что слишком много воспоминаний. Их груз очень тяжек. До сих пор.
– Знаешь, – она заправляет прядь за ухо, за которым вижу сигарету – излюбленная привычка, которая ей очень идет, – а я сколько себя помню всегда его боялась. Столько потерянных душ, которых никто не замечает. На пляже, в море, даже там, – Айви пальцем указывает на лазурную кромку, – их столько, что у меня сжимается сердце.
– Почему ты вдруг заговорила об этом?
– Ты единственный, с кем я могу это обсудить. Другие покрутили бы пальцем у виска, назвав меня больной.
– Если соседи заметят, что ты разговариваешь сама с собой, то это станет вполне возможным, – шучу я.
Она улыбается.
– Возможно. Но мне как-то плевать. Хорошее место. Здесь я чувствую себя так… спокойно. Странно. Эти пару недель в корне отличаются от того, что я представляла.
Айви вытягивает ноги, касаясь босыми ступнями травы. Газон перед домом – единственное, что осталось неизменным с тех пор, как я умер. Помню, с каким трепетом за ним ухаживала мама, равно, как и за цветами. Она любила белоснежные лилии. Их чарующий запах часто украшал кухню, как и сами бутоны. У мамы был свой маленький садик, растения в доме – атрибут, который я перенял от неё за эти годы.
В день собственной смерти, помимо пива, закусок и прочего, я привез с собой горшки с агавами. Примостил их в гостиной, придав ей особый антураж. Тогда дом казался живым, будто бы хранившим не только воспоминания о моем детстве, но и ту самую атмосферу.
Хочется до щемящей грудь тоски обратно.
Айви кладет свою руку рядом с моей.
– Ты сказал, что перехотел уходить, – тянет она. – Почему?
Из-за тебя, – крутится на языке. Но вслух я этого не произношу.
– Думаю, что нужен здесь. Зачем, не знаю. Пару раз я пытался уйти. Не получалось. Такое чувство, будто есть то, что меня держит. Может, это связано с кем-то из прошлого, может, связано с кем-то из тех, кто рядом. Я не знаю, – вздыхаю. – Но то, что ты здесь подтверждает мои слова. Это не просто так.
Наши взгляды пересекаются. Айви заглядывает куда-то вглубь меня, будто пытаясь принять сказанное. Впервые смотрю в её чернеющие зрачки так долго и не перестаю восхищаться глубиной радужки, из-под которой открывается гамма эмоций. Проносится, подобно калейдоскопу, и где-то внутри, то, что умерло вместе с моим телом, отдает резкий толчок.
Больно. Грудь резко начинает сжимать в тиски, а через секунду затихает, вызывая недоумение. Айви щурится от слепящих лучей заходящего солнца, что прямым светом направлены прямо на наши с ней лица. Она прикрывает глаза рукой. Улыбается, опуская взгляд. Рассматривает свои пальцы – тонкие, изящные, на нескольких из них сидят кольца.
– Может, ты и прав, – произносит она, не поднимая головы. – У судьбы своеобразное чувство юмора.
Мысль, что я совсем не знаю Айви бьет резко. Это вполне естественно, тем более в нашем с ней положении. Проявленная любезность – не признак того, что каждый из нас готов раскрыть свою душу и выложить все подчистую. Мне всегда было сложно высказываться, давать волю эмоциям. С тех пор ничего не изменилось.
Но сегодня – в свете заходящего солнца, слыша шум прибоя и видя её лицо, что обдувает морской бриз – хочется рассказать о себе чуть больше. Надеюсь, что когда-нибудь она тоже будет готова к подобному диалогу.
А пока я буду рядом. Время еще есть.
– У тебя красивый оттенок глаз, – произносит она. Я, как и при жизни, задерживаю на секунду дыхание. Абсурдно, призраки ведь не дышат. – И волосы. Эта прическа делает твои черты лица острее.
Улыбка тянется от одного края рта до другого. Мне неловко. Айви, судя по всему, нет, раз она так прямо заявляет о подобном.
– Хочешь, я тебя нарисую? – Она вздергивает темную бровь. – Тебе же наверняка интересно взглянуть на себя, спустя…
– Два года, – подсказываю я.
Она кивает.
– Мхм. Да и мне не помешает отвлечься. Я сейчас.
Айви поднимается с места, буквально порхая над полом. Завороженно наблюдаю за её тонкой фигурой, скрывающейся в коридоре, и думаю, что чувствую что-то другое. В корне отличающееся от того, что было раньше. Оно теплится, бьется, как сердце в груди. Горячее. Если бы мог, то дотронулся бы пальцами и наверняка обжегся.
Но оно того стоит. Такое ощущение, словно я возвращаюсь к тому, что потерял еще до смерти. Ту часть воспоминаний и чувств, которые до сих пор будто бы находятся под замком. Даже после кончины сложно подобрать подходящий ключ, чтобы выпустить их наружу. Произошло что-то плохое? Или просто не столь важное, чтобы об этом помнить? Не знаю. Да и не хочу, если честно.
По крайней мере, не сейчас. Потому что важнее утраты памяти оказывается Айви и то, как она вновь усаживается рядом, держа в руках карандаши и охапку листов.
Я улыбаюсь, прикрывая глаза. Хорошо.
4 глава. Существование
Нет действия без причины, нет существования без оснований существовать.
© Франсуа-Мари Аруэ Вольтер
– У тебя её взгляд. Глаза Тома, а взгляд Ребекки. Такой же осмысленный и проницательный. Ты так похож на нее.
Бабушка осторожно коснулась моей щеки, обдав лицо теплом своей ладони. Длинные пальцы с тонкой кожей и выпирающими косточками были едва ли теплыми.
Я всегда считал, что у бабушки красивые руки. Морщинистые в силу возраста, немного грубые, но все равно изящные – в прошлом бабуля была пианисткой, и пылящееся в её доме фортепьяно редко, но издавало разного рода звуки.
Она всегда любила плавно перебирать клавиши, заставляя мелодию буквально плыть по воздуху, любила разрушать тишину, ловя чужие взгляды, любила отдаваться этому делу настолько, что восхищение так и витало вокруг. На одной из стен в её доме висели фотографии с выступлений: большая округлая сцена, окруженная светом, сидящая за фортепьяно бабуля. Она играла в театре, в музыкальной школе, обучая детей, играла на большей сцене и в своей гостиной.
И хоть я знаю, что посвящала она эту игру своим зрителям, на самом деле играла она всегда для дедушки, наслаждаясь его реакцией и букетом чувств, что отражался во взгляде.
Жаль, что это стало редкостью: после его смерти прикасаться к фортепьяно бабушка не решалась. В том возрасте я этого не понимал и часто ждал момента, когда она вновь усядется за клавиши, создавая неописуемое ощущение волшебства. Папе не часто удавалось её переубедить – бабуля была на редкость упрямой. Но когда у него получалось, мама за милую душу начинала ей подпевать. И это были самые прекрасные, самые чудесные и самые счастливые мгновения.
Они всегда были наполнены своеобразной атмосферой. В белоснежных фарфоровых чашках плескался самый вкусный на свете чай, пахло тыквенным пирогом, а мои ноги свисали с дивана, едва достигая пола.
Бабушка выглядела иначе: моложе, с туго забранными на затылке волосами, широкой улыбкой и морковной помадой на губах. Она с упоением рассказывала нам о своем прошлом, о дедушке, которого ждала с моря, о том, какой была её жизнь до появления папы.
Все тогда казалось другим. Реальность воспринималась иначе. Будто заглядываешь в прошлое через штору, ослепленный утренними лучами солнца, греющего кожу жарче обычного.
То, как бабушка утерла влагу с моих глаз в тот день я запомнил отчетливо. Её нежную, сочувствующую улыбку, что буквально кричала о том, как ей жаль. Забыть об этом сложно, ведь именно такой я видел её впервые. Грустной, возможно, слегка сбитой столку, не знающей, как подобрать нужные слова.
По правде говоря, я понимал это, чувствовал, будто получая импульс, но на деле не мог выдавить и слова: ком, вставший поперек горла, мешал не только глотать, но и дышать. Я молча смотрел на неё, удивляясь, как она до сих пор могла держаться. Каким образом улыбка так легко расплывалась по её сухим и тонким губам? Почему ей удалось отпустить боль, поселив в свое сердце прощение вместо того, чтобы горевать? Но ответ был простым и совсем очевидным: бабушка сумела принять горькую правду. А я, ребенок, потерявший в один миг все – не смог. Винить родителей в их эгоизме казалось мне на тот момент самым правильным и верным решением. Наверное, потому что только так было легче пережить боль.
Но, по правде говоря, это ничуть не помогало, а делало только хуже. Мы стояли возле могилы, согреваемые теплым весенним солнцем. Прошел ровно год со смерти родителей. Время пролетело так быстро, словно за секунду переместив меня от похорон до того самого дня. Собраться с силами было еще сложнее, как бы сильно я ни пытался делать вид, что все происходящее давалось мне так же легко, как и моя новая жизнь.
Бабушка знала это, чувствовала и видела, как любая женщина, имеющая огромный жизненный опыт за плечами. Она многое понимала и прощала мне: мои всплески эмоций, затяжные депрессии, отказы от еды и углубление в себя. Это было по истине самое тяжелое время не только для меня, но и для неё – той, кому и дальше предстояло заботиться о подростке. Растить и дарить любовь, учить признавать ошибки, набивать шишки и принимать самые сложные в жизни решения.
На самом деле, я благодарен бабушке. Несмотря на то, что я был не прав во многих наших с ней перепалках и мое мнение почти всегда разнилось с её, бабушка никогда не заставляла меня думать иначе. Она пожимала плечами и говорила: «Когда-нибудь ты поймешь, что я была права». И так оно и было. Всегда и во всем.
У неё был тот же дар, что и у моего папы: видеть больше, чем остальные. Заглядывать в душу и знать всю твою суть. Она умела легонько подталкивать меня к правильным решениям, не делая выбор за меня, умела понимать без слов, будто читала, как открытую книгу. Дарила любовь, пускай и своеобразную, наполненную горькой правдой о том, что ничто не может продлиться вечно. Её ведь тоже скоро не станет. Даже раньше, чем я успею оклематься и встать на ноги.
Их сходство с папой было не только в понимании многих вещей, но и во внешности. Бабуля имела те же черты лица, широкую улыбку, которой улыбался мне папа в детстве, тот же взгляд, от которого я порой ловил дежавю. К старости, правда, бабуля сгорбилась и набрала вес, но это не делало её хуже. От неё все также веяло выпечкой, терпкими духами и, почему-то, сухой листвой, что встречаешь ближе к осени. Поредевшие волосы с сединой на висках, морщины у носогубки и в уголках глаз.
Красивая. Вся такая утонченная, выглядящая, как самая настоящая леди. Со шляпкой на голове и хриплым прокуренным голосом. Она никогда не выпускала из рук курительную трубку, походя на копию Шерлока Холмса в женском обличии. Даже когда легкий ветер разносил по округе свежесть от распустившихся цветов, она продолжала курить и выпускать изо рта клубы сизого дыма.
На деревьях зашумели листья. Солнце нежно коснулось кожи, обдав её теплом. Я склонился над землей, уложив цветы возле возвышающегося памятника. Всхлипнул, но вовремя утер рукавом нос, стараясь собраться – выглядеть слабаком не хотелось. Бабушка на это только погладила меня по плечу, наблюдая за тем, как по небу поплыли белоснежные, будто из ваты, облака и снисходительно улыбнулась.
Конечно, нет ничего зазорного в том, чтобы проявлять эмоции, но плакать, как маленький мальчик я не собирался. По крайней мере до тех пор, пока стены комнаты не укроют меня от всего мира.
– В том, что тебя переполняют эмоции нет ничего плохого, мой дорогой, – протянула она. – Ты же человек. Людям свойственно чувствовать боль от утраты. И плакать – тоже. Если твой отец когда-то говорил тебе, что мальчики не плачут, то он был не прав. Знаешь, как заливался слезами твой дед, когда на свет появился Томас? Похуже, чем любая девчонка, так и знай. Да и твой папа тоже был хорош, особенно когда попадал в передряги. Однажды мы выбрались на пляж, а Томас всегда таскал с собой ведерко – подарок Генри, привезенный с очередного рейса в море. Оно было синим, с нарисованным осьминогом, от которого твой папа был в диком восторге. Мы ушли плавать, а Генри уткнулся в газету. У твоего деда тоже была привычка таскать с собой что-нибудь эдакое: интересные вырезки, к примеру, свой потрепанный блокнот, в котором он постоянно делал какие-либо пометки. Видимо, Томас перенял эту привычку от него, ведь помимо игрушек внутри всегда лежали засохшие цветы, которые он отрывал, пока я не видела, листва для украшения, найденные ракушки. Он всегда старался брать пример с твоего деда. Не по годам умный, – бабушка снова затянулась. – Так вот когда мы вернулись обратно, то ведерко кто-то, заметив такую красоту, – а оно и правда было довольно симпатичным – стащил. Твой папа заливался крокодильими слезами. Стоял, сжимал мою руку и утирал щеки кулаком, думая, что если будет тереть слишком сильно, то их поток наконец-таки прекратится. А я все никак не могла его успокоить. Даже рожок с мороженым не помог, хотя Томас обожал мороженое больше всего на свете. Шоколадное, потому что горчинка приятно колола язык. И ничто не могло заменить это ведерко, какие бы игрушки Генри ему ни покупал. Казалось бы – обычное ведро, коих на рынке полным-полно. Но он потерял что-то очень дорогое сердцу – подарок, доставшийся от любимого человека. И ты, мой дорогой, испытываешь сейчас те же ощущения. Неважно, в какой ситуации мы находимся – боль делает нас людьми, а её принятие помогает смириться с происходящим. Не сдерживайся.
Она вновь улыбнулась. В её глазах я неожиданно заметил собственное отражение. Бледное, безжизненное, без каких-либо эмоций и мыслей. Пустой, как фарфоровая статуэтка, что пошла трещиной где-то внутри.
Слезы обожгли глазницы неожиданно и резко, а бабушка без слов притянула меня к себе, поглаживая по волосам и молча вслушиваясь в мои тихие всхлипы. И я не стал сдерживаться.
Я впервые дал волю своим чувствам при ком-то спустя год. Впервые позволил себе показать слабость, перестал храбриться и блокировать ощущения после случившегося.
Мы простояли над могилой довольно долгое время, большую часть которого я пытался успокоиться. Глаза жгло, кожа из-за соленых слез продолжала гореть – я утирал дорожки рукавом свитера, что был довольно колючим на ощупь. Стоял, шмыгал носом, вдыхая аромат бабушкиных духов и чувствовал, как отстукивало её сердце. Собственное будто пыталось проломить грудь, скача меж пролетами ребер.
А потом встретил Фиби – улыбчивую, словно солнце. С взглядом, обращенным на мир с каким-то несвойственным мне обожанием, сидящей на скамье с книгой Сары Джио «Соленый ветер» и утопающей под солнечными лучами.
Встречи на кладбище всегда казались мне несусветной чепухой и вымыслом, хотя в реальности все было совсем иначе. Без лишних мыслей, с какой-то простотой и душевным спокойствием. Именно так я в тот момент себя ощущал, ведь копившиеся во мне долгое время эмоции наконец нашли выход и их груз, будто сковывавший меня за шею тугой веревкой, перестал тянуть ко дну.
Был ли я тогда на дне? Вполне возможно. Но это уже не так и важно.
Фиби сидела на самом краю скамейки, прямо возле небольшой церквушки, купол которой поблескивал на солнце; болтала ногами, подобно ребенку и разглядывала голубое плавучее небо, оторвавшись от строк. В ситцевом платье с рукавами, со струящимися вдоль плеч волосами и светящимися на солнце родинками, что танцевали хоровод на бледной коже. Джинсовая куртка примостилась рядом. Зелень вокруг её миниатюрной фигуры смотрелась до жути красиво. День, почему-то, казался мне по-особенному теплым. И дело было далеко не в температуре.
Я никогда не верил в Бога. Увы, но произошедшее в моей жизни дерьмо нельзя списывать на бородатого дядю, что вмиг простил бы мне мои грехи, стоило только покаяться. Отсиживать мессы я ненавидел, а родители и не порывались таскать меня на службы – они, может, и верили во что-то, но показывать это не спешили. Да и мне в существование Господа верилось с трудом. Есть ли рай или ад, или чистилище, да хоть забвение – значения не имеет. Каждый верил в то, во что желал, и мне трудно было перечить хотя бы по этому поводу.
Потому что я тоже верил во что-то. Не в вымышленного персонажа, что отдувался за все наши деяния. Я верил в смысл существования, хоть и не мог найти его. В те годы это давалось особенно тяжело. Но бабушка верила, и мне приходилось делать вид, что я тоже.
По пути к выходу она неожиданно потянула меня в сторону церкви. Ей хотелось помолиться за души тех, кого с нами уже не было, но в первую очередь почувствовать связь с дедушкой. Она часто говорила, что служба будто бы давала ей возможность услышать его голос в голове, а Господь передавал её молитвы напрямую. Было ли это правдой, я точно не знаю, но если она верила в это, значит, так оно и было.
Когда бабуля вошла внутрь, я остался топтаться у порога. Плакать больше не хотелось, но появляться там с раскрасневшимся лицом не было никакого желания.
Впрочем, я не пошел не только поэтому. Большое скопление людей вызывало мигрень и раздражение. Наверняка там были наши знакомые, и мне пришлось бы отвечать на довольно глупые вопросы, делая вид, что я всем сердцем заинтересован проявленным вниманием. А врать – хотя бы тогда – казалось неправильным. Вместо того, чтобы отсиживать мессу, вслушиваясь в голос святого отца и ощущая, как спертый воздух щекочет нос, я остался рядом с незнакомой на тот момент девчонкой, наслаждаясь погожим теплым днем.
– Классные кеды.
Голос у Фиби тогда был еще слегка детским, до жути звонким и остро касающимся ушей. Она с интересом разглядывала мою потрепанную обувь, заметив, видимо, каракули на подошве. С рисованием дела обстояли так себе – выходило посредственно и криво. Но сдаваться так рано я не намеревался, считая, что любой навык требует труда. Жаль, что с рисованием у меня в будущем так и не вышло.
– Может, нарисуешь что-нибудь и мне?
У неё на ногах, как сейчас помню, были белоснежные конверсы. Как новенькие, честное слово. Наверное, ходить на каблуках по засаженным травой тропинкам было не особо удобно. Потому что, клянусь, увидеть её в кроссовках удавалось еще реже, чем в туфлях. Но в тот момент меня это не удивило. Только цвет, яро бросавшийся в глаза.
Я с недоумением уставился на неё, но Фиби на этот выпад рассмеялась, явив белозубую улыбку и ямочки.
– Мне не жалко испортить их. Белый цвет очень быстро приедается и начинает раздражать. А твои выглядят круто. Мне нравится.
– Спасибо. – Я улыбнулся. – Но лучше использовать краски, если хочешь, чтобы выглядело по-настоящему красиво. Сюда хорошо вписались бы подсолнухи.
– Почему?
– Потому что они напоминают о лете. О тепле.
Она кивнула, будто сама себе, соглашаясь с моими словами.
– Почему ты не заходишь внутрь? – невзначай поинтересовался я.
Знаю, вопрос был глупым и неуместным, ведь у неё на это были свои причины, но в тот момент я подумал, что он неплохо вписывается в наш краткий и ничего не значащий диалог.
Фиби пожала плечами.
– Потому что для того, чтобы верить в Бога не нужно молиться. Достаточно чувствовать его своим сердцем.
Она говорила об этом с не самым серьезным выражением лица, но те слова имели огромное значение. Меня прошибло током. Когда я говорил, что Фиби напоминала мне маму – я не сорвал. Не только по внешности и отдельным предпочтениям, но и теми мыслями, что были сказаны вслух как бы невзначай.
– Я думаю, что ты понимаешь, о чем я.
Её пальцы вскользь прошлись по распущенным волосам, что трепал ветер. Внимательный взгляд вызывал во мне острое чувство неудобства, но я с легкостью принимал его, стоя рядом. Ответить было нечего, потому что казалось, что Фиби знала. И повисшее в воздухе безмолвие говорило о том же.
Больше мы не разговаривали: она вновь уставилась в ровные ряды букв, прикусив губу. А я, почувствовав накатившую резко усталость, мечтал поскорее попасть домой.
Потому что мне впервые за долгое время захотелось украсить листы теми самыми подсолнухами.
***
С того момента прошло, наверное, пару дней.
В школьных коридорах по-прежнему витала смесь разных запахов: чьей-то пот, что смешивался с духами, моющее средство, которым мыли полы. Через толщу окон пробирались проворные лучи рыжего солнца, легонько касаясь лица.
Мой локер с пресловутым замком вечно заедало, и это бесило наравне с огромными очередями в буфете. Но поделать с ним я ничего не мог, равно, как и со скоплением людей во время ланча. Оставалось только свыкнуться со своим не самым везучим положением, пытаясь раз за разом отворить чертову железную дверцу.
Она поддавалась раза с третьего, скрипя, как консервная банка. Стоявший рядом Сид только подтрунивал, наблюдая за этой весьма незанимательной борьбой.
Его локер находился слева от моего. Мы с Сидом неплохо ладили, но назвать его своим другом не поворачивался язык, ведь тогда мне казалось, что друзей у меня нет. Деление было довольно простым: есть я, а есть социум, и я смутно вписывался в его рамки, предпочитая находиться в одиночестве. Старался, так сказать, держаться ото всех особняком, но люди, почему-то, все равно старались ко мне тянуться.
В их число входил Сид: высокий, с широкими плечами, огромными ладонями и подстриженный почти налысо. Внешность у него была отталкивающая, особенно ряд наезжающих друг на друга зубов и большой нос-картошка, что украшали родинки. Он вообще с головы до пят был покрыт ими, будто долбанный далматинец. Но в этом и крылась его изюминка, если не брать в расчет умение находить общий язык абсолютно со всеми и любовь к регби.
Мне он, по правде говоря, нравился не только за это. Было в нем что-то еще, помимо хорошо подвешенного языка и чувства юмора. Он будто знал меня всю жизнь, хотя я никогда не делился с ним тем, что происходило в моей довольно серой реальности. Может поэтому Сид был единственным, с кем мне было комфортно общаться, не затрагивая больные для себя темы. Мы обсуждали домашку, пройденные видеоигры, спорт или какую деку3 лучше выбрать. Казалось, он разбирался абсолютно во всем, о чем ни спроси.
О том, что Фиби его подруга детства, я узнал уже позже, когда заметил её в классе по биологии. Она занимала предпоследнюю парту среднего ряда и, увидев меня, приветливо помахала рукой. До этого я не обращал на нее ровным счетом никакого внимания. Может, потому что слишком глубоко был прогружен в себя, а может, потому что не хотел – не помню. Но тогда, когда разговор наконец зашел о девчонках, её имя всплыло неосознанно, и Сид, удивленно приподняв бровь, усмехнулся.
– Я думал, что ты асексуал4.
Он достал из шкафчика рюкзак.
– С чего такие выводы?
– Вывести тебя на разговоры о девчонках труднее, чем заработать место капитана команды по регби. Но я приятно удивлен, что ты заговорил об этом. Хорошо, что хотя бы до выпуска.
– Эй! – я пихнул его в плечо. Сид пропустил смешок. – Я же не монашка какая-то. Сам знаешь, что я не люблю забивать голову подобным.
– Как и разговаривать о типичных вещах, что должны интересовать подростка в пубертатный период, – хыкнул он. – Из всех возможных красавиц ты, почему-то, решил обратить свой взор на это чудо в фут с кепкой в прыжке. С чего бы вдруг? Хотя не отвечай, – Сид отмахнулся, захлопнув дверцу. Скрежет металла вновь коснулся ушей. – Уж лучше бы ты обратил внимание на кого-нибудь другого. На меня, к примеру.
– Пожалуйста, не говори, что подкатываешь ко мне.
– Не в этой жизни, дружище. Даже будь ты Меган Фокс, меня не возьмешь красивой мордашкой. Просто это впервые, когда мы треплемся о девчонках. О конкретной девчонке. Я ревную. В смысле по-дружески, и не её, а тебя.
Я фыркнул, добравшись наконец до содержимого собственного шкафчика. Куча ярко-пестрящих листовок, зазывающих вступить в клуб, фантики от Сникеркс и валяющиеся кеды, поверх которых покоился потрепанный временем рюкзак. Пальцы зацепились за ткань и резко потянули ту на себя, из-за чего листы чуть было не упали на пол, если бы я вовремя не затолкал их обратно.
– Это глупо.
– Нет, Лео, вовсе не глупо. Я первый решил с тобой подружиться, и это немного обидно, когда месяцы попыток становятся пустым звуком при появлении хорошенького личика этой мелкой занозы.
Историю о том, как мы встретились возле церкви, я решил оставить без огласки. Не из-за себя – многие в школе знали о случившемся. Просто рассказывать было особо и не о чем. Я не придал этой встрече никакого значения и не вспомнил бы о Фиби, если бы она не обратила на меня внимание уже будучи в школе. Но утаивать эту информацию от Сида долго не пришлось: он знал о произошедшем. Опять же из-за болтливости Фиби, которая не могла скрывать что-то важное от своего друга детства.
Мы вышли на улицу под свежий ветерок, что проворно забрался за шиворот футболки, скользя вдоль позвонков. Створки школьного автобуса, находившегося на парковке, были раскрыты. Мы медленно двинулись в его сторону, наслаждаясь опустившемуся на город теплу и окончанию школьных уроков.
– Ты ей понравился, – оповестил меня Сид, когда мы заняли последний ряд у окна. Благо солнце освещало другую половину салона. Обивка кресел источала своеобразный запах пыли и масла. – Сказала, что с нетерпением ждет, когда ты нарисуешь ей подсолнухи. Боюсь её разочаровывать, ведь вместо них у тебя выйдут только желтые кляксы.
– Похоже, ты ревнуешь больше, чем нужно.
– Поймал с поличным, – Сид улыбнулся. – Я не считаю этой хорошей идеей, но… хочешь, я дам тебе её номер? Только предупреждаю: Фиби обожает строчить смс-ки и отправляет по одному слову. Придурковатая привычка, ей-богу.
Я не собирался брать её номер. Меня ровным счетом не волновали мысли о ней или о том, чего она от меня хотела. Но я согласился. Наверное, потому что подсолнухи, что я старательно выводил на листах, на кляксы похожи не были. А может из-за типичного подросткового интереса, который в тот момент захлестнул мое юное сердце. Из-за моей обособленности девушки редко обращали на меня внимание, стараясь держаться подальше. Но я и не жаловался, ведь так было проще.
Я написал ей вечером, когда комнату окрасил теплый свет от ночника, а из гостиной доносился шум очередного ток-шоу, под которые бабуля чаще всего засыпала. Это выглядело смешно: с трубкой в руке, накрытая колючим пледом в клетку.
Я уменьшил громкость, в последний раз кинув на бабулю свой взгляд, а затем в очередной раз достал телефон из кармана штанов, проверяя почту.
Но Фиби в тот вечер, почему-то, так мне и не ответила.
***
Выходные тем временем подкрались незаметно. Мы с Сидом договорились сгонять в скейтпарк, который недавно отстроили. Сид затормозил на доске возле окон моего дома примерно в полдень, подхватив жесткую деку в руки. Я увидел его сразу же и, достав из-под кровати закатившийся скейт, подаренный папой, метнулся вниз по ступеням.
Очередная поездка по улочкам города, плывущий сквозь пальцы воздух и пустые разговоры ни о чем – так, пожалуй, я и проводил все свое свободное время, под вечер запираясь в комнате для того, чтобы сесть за компьютер и отдаться шутерам. Будни стали проносится хороводом мелких событий, помогающих забыть о ноющем ощущении пустоты. Поблагодарить за это стоило Сида: он не давал мне прохода, занимая пространство собой буквально подчистую.
Призраки прошлого беспокоили меня лишь ночью, протекая под сеточкой вен и выжигая дыры на сетчатке закрытых глаз. Справляться с кошмарами было бесполезно, и я свыкся с ними, стараясь не захлебываться в боли так сильно, как делал это раньше.
– Опять придешь весь в крови и ссадинах, – недовольно пробурчала бабушка, встретившись со мной внизу.
Она осторожно пристроила бумажный пакет с покупками на столик в коридоре и, повесив шляпку на вешалку, недовольно прошлась по мне взглядом. Ей мои бесчисленные попытки увечить себя не нравились, но запретить мне кататься она не могла, даже если бы очень захотела. В то время я был слишком своенравным и упертым, не желая слушать нравоучения.
– Скоро из-за тебя аптечка опустеет.
– Не волнуйся, ба, – я клюнул её в мягкую щеку, – я буду осторожен.
– Как же ж, – фыркнула она. – Каждый раз мне обещаешь и все равно поступаешь по-своему. Будь дома к девяти, я приготовлю ужин.
– Хорошо, – уже перешагнув порог, крикнул я, захлопнув за собой дверь.
Фигура Сида по сравнению с маленькой фигуркой Фиби казалась огромной. Они стояли возле лужайки, переговариваясь о чем-то и попутно с этим смеясь. Их смех был громким и искренним.
Я узнал её сразу, пускай она и стояла ко мне спиной на пару с велосипедом: темно-шоколадные волосы, что она поправляла, прямые светлые джинсы Levi's и безмерная футболка, прикрывающая бедра. В тех же самых конверсах.
– Привет. – Сид стукнул свой кулак об мой. Улыбка, сияющая у него на лице, была, казалось, от уха до уха. Впрочем, он всегда улыбался, и стереть её удавалось только на играх в футбол. Тогда Сид становился не тем добродушным парнем, которого я знал, а машиной для убийств. – Готов к заезду?
– Ага, – кивнул я, переведя взгляд на Фиби.
Щеки той покрылись румянцем, стоило нам только встретиться глазами.
– Привет, Лео, – поздоровалась она. – Надеюсь, я не помешаю?
Я подозревал, что это была идея Сида – позвать её с нами. У него была дурная привычка пытаться свести меня с теми, о ком я просто затевал единожды разговор. Стоявшая рядом девушка не стала исключением, и меня это взбесило. Но, как позже выяснилось, Фиби напросилась сама, изъявив желание понаблюдать за нашими трюками и ездой. И злиться на нее за этот шаг было глупо – девочкам всегда интересно, чем увлекаются мальчики. От природы не убежишь.
Я не был против: она в любом случае не участвовала, а просто сидела на скамейке, с излюбленной книгой Джека Лондона, что еще немного и точно бы развалилась в её руках. Помню, что даже подклеивал ту по просьбе самой же Фиби. Правда, клей заляпал пару страниц, исказив текст, но Фиби это не волновало. Книга была ценной не только из-за содержания, а потому что досталась ей от сестры. Старшую сестру Фиби просто обожала.
