Паутина земли. Рассказы современных авторов
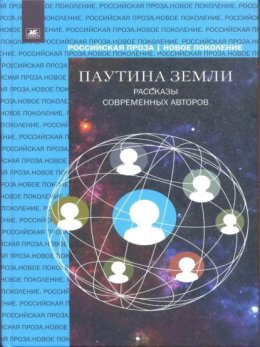
Издание осуществлено при финансовой поддержке Министерства цифрового развития и массовых коммуникаций Российской Федерации
© Издательство «Художественная литература», 2024
© Дизайн Костерина Т. И., 2024
© Иллюстрации Скоморохов Ю. С., 2024
Светлана Юрьевна Войтюк
Родилась 22 ноября 1964 г. в Уфе, где живет и работает по сей день. В 1987 г. окончила с отличием филологический факультет Башкирского государственного университета. Член Союза писателей России с 2006 г. Лауреат конкурса детской и юношеской литературы им. А. Толстого 2007 г., серебряный призер конкурса «Золотое перо Руси» 2009 г. Автор книжек для детей: «Как троллейбус с трамваем бодался», «Веснушки моей бабушки», «Паруса в горошек», «Как бегемотик в школу ходил», «Лифт по имени Леня и другие необыкновенные истории» и др. Стихи и рассказы для детей Светланы Войтюк неоднократно печатались в журналах «Веселые картинки», «Миша», «Костер», «Мурзилка», «Бельские просторы» и др. Также Светлана Войтюк ведет активную деятельность по пропаганде детского чтения, ее хорошо знают во многих школах и библиотеках родного города.
Тюря
Любашка заворочалась на печи. Сквозь сладкий утренний сон она слышала, как мама и тетка разжигали примус и стучали жестяными кружками. Любка тоже была не прочь позавтракать, в животе противно посасывало, впрочем, как и всегда. Но просить взрослых она не стала – все равно не дадут, скажут: «Не до тебя, на смену торопимся, дед покормит». Дверь захлопнулась, и Любашка, привычно прижавшись к спящему рядом с ней на печке деду, задремала. Она знала, что он совсем скоро закряхтит, зашевелится, да и слезет с остывшей за ночь печи, предварительно подоткнув под Любку одеяло со всех сторон. Потом истопит печь, вскипятит воду и только потом позовет ее: «Любаня, айда тюрю хлебать!» И Любка вынырнет из-под одеяла, натянет на ноги чуни и сядет рядом с дедом за стол.
Но сегодня он что-то разоспался. Любка тихонько сползла на холодный пол, стараясь не шуметь, не тревожить старика. Попыталась умыться: бр-рр, вода в умывальнике была ледяной. Самой разжигать примус четырехлетней Любке было строго-настрого запрещено. Она представила, как дед обычно делает ей тюрю: крошит в миску хлеб, мелко режет лук, чуть солит и заливает водой, пополам разведенной кипятком, и только потом добавляет в миску несколько капель постного масла. Любаша нашла на столе завернутую в тряпицу краюшку хлеба. Часть краюшки сжевала сразу, не утерпела, а остаток раскрошила в миску Лука не нашла, да и ладно, все равно брать нож в руки ей пока не разрешено. Зачерпнув ковшиком воды из ведра, плеснула ее в миску А потом щедро, совсем не так, как дед, налила туда масла из бутылки.
«Дед, а дед, сегодня я тебя кормить буду, вставай!» Но тот продолжал спать.
Любке страшно хотелось есть, поэтому ждать она не стала и уселась хлебать тюрю. Вкуснота! И почему только дед капает в тюрю так мало масла? Ведь если побольше – гораздо вкуснее! Постное масло, которого с излишком налила Любка, не хотело растворяться в холодной воде и липло к губам. Любка облизывала их и продолжала орудовать ложкой. Но вовремя спохватилась: деду надо оставить. Любка четко знала: всё съедать одной нельзя. Она усвоила это с той поры, когда они с мамой пришли прямиком с поезда в «родной дом», как называла его мама, а потом долго топтались в холодных сенях под тяжелым взглядом тетки Катерины. Любка была такого маленького росточка, что не могла дотянуться до маминой ладони, а потому держалась за мамину ногу, обхватив ее замерзшей ручонкой. Тетка Катя, загородив собой входную дверь, громко выговаривала матери: «И куда ты с дитем принеслась?! С мужем она развелась! Ишь чего удумала! Не могла до конца войны дотерпеть, что ли? Кто тут твоего дитенка кормить будет? Объесть нас хотите!» Мама тихим голосом возражала: мол, пил муж и бил до крови, и терпеть это было уже невозможно. Но тетка и слушать ничего не хотела, все вопила, не пуская их в теплую комнату. Потом скрипнула дверь, и в сенях с несколькими поленьями под мышкой появился дед. Его Любаша испугалась даже больше орущей тети Кати: лицо у него было уродливое, все в рубцах. Любка вздрогнула и еще сильнее обхватила рукой мамкину ногу. Но страшный дед вдруг улыбнулся почти беззубой улыбкой, бросил на пол топор и дровишки и закружил крошечную Любку в воздухе. А потом цыкнул на тетку Катерину: «Прекрати голосить, ко мне внучка любимая приехала!» и занес Любашку в прогретую печкой комнату.
Вскоре мать устроилась на работу телеграфисткой, а Любка целые дни проводила с дедом. Поначалу она пугалась его изуродованного лица и отказывалась спать вместе с дедом на теплой печке. Но дед знал, чем Любку приманить: он рассказывал ей сказки. Помнил их он несметное количество. И Любка, никогда еще в своей коротенькой жизни не видевшая книжек, увлеченно слушала деда, пытаясь представить в своем неискушенном воображении Ивана Царевича, Елену Прекрасную, коварную Бабу Ягу и злого Кощея. Постепенно Любка с дедом стали друзья не разлей вода.
У деда болели ноги, и он передвигался по избе, неловко переваливаясь с одной ноги на другую. «Деда, ты ходишь, как уточка», – говорила Любка. Она нарочно кривила ноги, совсем как дед, и показывала ему, как ходят утки. Дед смеялся и говорил: «Я не уточка, а селезень». «А кто такой селезень?» И он объяснял ей, кто такой селезень, и заодно рассказывал сказку про гадкого утенка, из которого вырос вовсе не селезень, а прекрасный лебедь. А Любашка внимательно разглядывала бугристое лицо деда с седыми, торчащими во все стороны бровями и спрашивала: «А ты, дед, можешь превратиться из селезня в прекрасного лебедя?»
Старик только хмыкал и тут же предлагал Любке:
«Тюрю будешь?»
Хотя мог бы и не спрашивать: есть Любка хотела всегда. Она уплетала за обе щеки и овощную похлебку, и вареную картошку, но особенно любила тюрю с молоком. Молоко в доме появлялось нечасто, а когда появлялось, дед крошил в миску с молоком кусочек хлеба и потчевал Любку, приговаривая: «Ешь молочко, дитю без молока нельзя расти».
Зима в тот год стояла студеная, а у Любки из обуви только чуни. Дед на мороз из избы ее не выпускал. Лишь изредка, когда погода позволяла, он брал с собой Любку отоваривать хлебные карточки. Дед сажал Любку на салазки, укутывал ватным одеялом и, с трудом передвигая скрюченные недугом ноги по заснеженной улице, вез ее вдоль невзрачных и низких бревенчатых домишек. Укутанная по самый нос Любка вертела головой в разные стороны, с удовольствием любуясь искристым снегом и разглядывая спешащих по делам хмурых людей. Эти походы за хлебом казались Любке необыкновенным приключением. Они приоткрывали ей дверь в другой, большой мир, отличавшийся от ее мирка, состоящего из печки, деда, его сказок, тюри по утрам и вечно ворчащей тетки Кати. А мать Любашка теперь почти не видела: та завела себе на службе кавалера – лишившегося на фронте правой руки старшину, который теперь командовал молоденькими телеграфистками – и дома почти не появлялась.
Но обычно дед ходил получать хлеб по карточкам один, оставляя Любку сидеть на едва теплой печке. Любка, укутав худые ноги одеялом, послушно ожидала деда и, как мультфильмы, прокручивала в голове сюжеты сказочных историй, рассказанных дедом. Хотя сама Любка сравнения с мультфильмами тогда не поняла бы: мультики будут смотреть ее дети потом, когда закончится страшная война и пройдут годы… А Любка просто будто бы погружалась в другой, волшебный, мир настолько, что забывала на какое-то время о постоянном чувстве голода. И постепенно покидали ее детскую душу гнетущие воспоминания о ненавистном отце, который съедал в пьяном угаре их с мамой паек и со злости вонзал нож в столешницу, когда мама пыталась у него забрать кусочек хлеба для Любки. Ей было тепло и спокойно на печке. Так и бродила Любаша по сказочным тропинкам, пока с хлебным пайком не возвращался дед.
«Эх, иждивенцы мы с тобой, иждивенцы», – вздыхал он, вынимая из мешочка брусочки хлеба. Любка совсем не понимала, о чем идет речь, и с вожделением вдыхала запах хлеба: «Кушать хочу, деда». Дед что-то отмерял, делил лакомый брусочек на кусочки и только тогда протягивал внучке два хлебных ломтя.
Однажды неожиданно рано воротилась со смены тетка Катя. Увидела Любку, сжимавшую в руках ломти хлеба, деда, впустую прихлебывавшего кипяток из большой кружки, и заорала во все горло: «Ты, старый, чего делаешь-то, помереть до срока хочешь?! У нее ведь родители есть!»
Дед тогда засуетился: «Да ты чего, доченька, я похлебки поел, сытый. Садись сама-то за стол. Вот твой хлебушек. А Любке-то расти надо, смотри, она росточком-то как годовалая».
А Любка быстро-быстро запихнула в рот один кусок и юркнула под одеяло, сжимая в кулачке другой ломоть хлеба.
На следующее утро Любаня, выглядывая из-под одеяла и наблюдая, как дед крошит для нее тюрю в миску, спросила: «Деда, а деда, отчего тетка Катя такая злыдня? Прямо как Баба-яга из сказки».
«Да ты, внученька, на нее не серчай: горе у нее, муж без вести пропал. А она его, знаешь, как любит: ну просто как Елена Прекрасная Ивана Царевича. От переживаний она такая. Слезай с печи – тюря готова».
Любка похлебала тюри, оставив немного деду на дне миски. Потом они пили кипяток вприкуску с малюсеньким кусочком сахара. А после Любашка забралась деду на колени и попросила: «Сказку про аленький цветочек расскажи». Она не раз уже слышала ее от деда, но всякий раз заставляла его пересказывать заново. Каждый раз, когда дед описывал встречу Настеньки со страшным чудовищем, Любочка вздрагивала от ужаса. А когда сказка благополучно заканчивалась и чудовище превращалось в доброго и красивого молодца, дед забирался на печку и погружался в дрему Любка пристраивалась рядом и долго разглядывала уродливое дедово лицо, осторожно проводила ладошкой по его страшным шрамам и иногда целовала деда в шершавую щеку, втайне надеясь, что вдруг, как в сказке про аленький цветочек, ее уродливый дед превратится в одночасье в бодрого и молодого красавца.
Однажды она набралась смелости и, пока дед не успел уснуть, спросила: «Деда, а почему у тебя лицо как у чудовища из сказки про цветочек аленький?»
«Так это оспа меня изуродовала».
«А что это – оспа?»
«Да болезнь скверная. Вся семья у нас болела, а я один в живых остался: молодой был, сильный. Только вот уродом остался».
«А ты можешь превратиться в доброго молодца, если волшебство случится?»
Дед не сразу ответил. Помолчал, задумавшись, а потом кряхтя слез с печки и полез в старый комод, на полку с документами.
«На, смотри!» – и он протянул Любашке старую фотографию, приклеенную к картонке. С фотографии на нее глядели прелестная молодая девушка, расположившаяся в кресле, и стоящий рядом с ней мужчина со страшным, обезображенным рубцами лицом.
«Деда, это кто? Настенька из “Аленького цветочка?”» – спросила Любка, тыча тонким пальчиком в лицо девушки на фотографии.
«Ну считай, что почти так оно и есть».
Дед помолчал, повздыхал, а потом начал, будто новую сказку, свой рассказ: «Когда-то давно совсем в другом государстве-царстве жил-поживал и добра не наживал гадкий урод: лицо такое страшное, что все девки взгляды отводили. Но чего переживать, жить-то надо. Он и жил: работал с утра до ночи по строительству.
Руки у него ловкие были, умелые, не один дом в нашем городке построил. А одинокими вечерами пристрастился он читать книжки, много он их прочитал. Однажды забрался на верх строящегося дома, чтобы крышу крыть, и вдруг с высоты заметил, как внимательно разглядывает его молодая девушка красоты необыкновенной. И смотрит не косым взглядом, какие часто ловил он на своем изуродованном лице, а по-доброму так смотрит. Ну и загляделся он на красу-девицу, уж больно хороша была. Да так загляделся, что с крыши свалился. Ударился оземь…»
«И превратился в красавца-добра молодца», – закончила за деда его новую сказку Любка.
«Да погоди ты, не торопи события, – дед обнял Любку. – Слушай лучше».
«Ударился он о землю, да и разбил себе пятки, встать не может. А красавица позвала на помощь отца своего (это для его семьи умелец дом строил), они покалеченного к себе в дом и перетащили. А так как родни у него не было, ухаживать за ним некому было, они милосердие проявили: у себя в доме выздоравливать оставили. Дочка хозяина за больным присматривала, а он долгими вечерами ей книжки прочитанные пересказывал. Перебитые косточки срослись быстро, хоть и не совсем правильно. И вот тогда-то и превратился уродливый мужичок в красавца-добра молодца. И женился на прекрасной девице. А это и есть их свадебная фотография», – закончил рассказывать дед, поглаживая ладонью фотоснимок.
«Погоди, деда. Он же превратился в красивого, да? А на фотографии он страшный», – удивилась Любка.
«Может быть, и так. Да только Настеньке красивым он показался… Такое вот превращение». Дед помолчал и добавил: «А на фотографии это я в молодости и жена моя Анастасия Ивановна, она же и твоя бабушка».
«Как бабушка? На снимке же молоденькая тетенька».
«Состариться она не успела, померла рано, а я остался с дочерями жить: с мамкой твоей Клавдией и Катериной».
Тогда Любашка долго вглядывалась в фотографию, надеясь разобрать, как же могло произойти волшебное превращение урода в красавца. Но так и заснула, ничего не поняв.
…Вот и сейчас, устав ждать, когда же дед проснется, Любашка достала из комода эту фотографию и принялась разглядывать ее, то и дело оборачиваясь на спящего деда, изучая его лицо, пытаясь понять смысл рассказанной дедом сказки. Стало смеркаться (зимой темнеет рано), и Любке вдруг показалось, что грубые рубцы исчезают с лица деда, оно разглаживается и становится красивым и молодым.
Тем временем печка уже окончательно остыла, и Любка начала замерзать. Не спасал от холода даже накинутый ею на плечи старый затертый пуховый платок, который дед называл бабушкиной шалью. Да и голод снова стал одолевать.
«Деда, вставай! Тюрю будешь? А за хлебом пойдешь? Есть хочется…» – она потрясла старика за плечо, похлопала его по щеке. Щека была холодной и какой-то странной на ощупь, не такой, как обычно.
«Ну раз ты не будешь, я немножко поем».
Любка похлебала еще тюрю из миски, но не доела, оставила на самом дне немного. А потом залезла под одеяло и, прижавшись к деду, задремала.
Хлопнула входная дверь. «Эй, чего в темноте сидите?» – крикнула тетка Катерина. А потом вдруг растерянно прошептала: «И в доме почему не топлено?» Она зажгла лампу и подошла к печи. Потрясла сначала Любашку – та зашевелилась, открыла глаза. Потом Катерина дотронулась до деда и, быстро подхватив на руки племянницу, сняла ее с печи.
«Деда не просыпается, – пояснила ей Любка и добавила: – Я тюрю тебе оставила, не ругайся, тетя Катя».
В этот момент в дверь настойчиво постучали, и тут же, не дожидаясь ответа от хозяев, в избу ввалилась почтальонша – соседка Нюрка.
«Катька, радость какая! Вот счастье-то! Мужик твой нашелся, живой, письмо тебе прислал!»
Тетка Катерина выхватила из Нюркиных рук треугольный конверт, развернула его, пробежала глазами по бумаге раз, другой, третий… А потом обняла Любку и зарыдала. Закоченевшая Любка изо всех сил прижималась к Катерине, пытаясь согреться, и все спрашивала, отчего же та плачет. Тетка ничего не отвечала, а только крепче обнимала Любку.
Солнечный зайчик сорок пятого[1]
Голова двенадцатилетней Нинки была лысой, как коленка. Худющей спиной Нинка старательно вжималась в стенку и отчаянно тянула тонкую цыплячью шею по направлению к окну. Будь ее воля, она бы слилась с этой холодной, влажно-липкой стеной, лишь бы никто из мальчишек, пинающих во дворе мяч, не заприметил в оконном проеме ее отливающей синевой головы. И только веснушчатый, вечно шмыгающий нос отражался в давно немытом стекле, выдавая Нинку.
Середина марта. Рановато вроде для футбола. Но местные пацаны еще утром расчистили от начинающего темнеть снега площадку и радостно гоняли по ней самодельный мяч, скрученный из старого тряпья. Игроки покрикивали друг на друга, свистели, время от времени завязывали отваливающиеся от мяча тряпочные жгуты – и снова пинали это жалкое подобие спортивного снаряда, не отрывая от него азартных глаз. И только один из пацанов – Генка, Нинкин сосед по парте – то и дело украдкой посматривал на окна старого барака. Нинка ловила его взгляд, вздрагивала – и еще сильнее вжималась спиной в стенку.
В школе Нинка не была уже несколько месяцев.
«Уж больно жалостливая ты, доча, – выговаривала ей мать, по вечерам втирая в кожу дочкиной головы вонючую мазь. – Всех кошек в округе обласкала, вот зараза к тебе и прилипла. Ох, лишай стригущий проклятущий, черт бы его побрал!»
Да только мазь исхудавшей за четыре военных года Нинке помогала плохо. Лишай разъедал кожу головы и Нинка сидела дома «на карантине», изнывая от скуки, отчаяния и приступов малярии. Время от времени она ощупывала холодной ладошкой облысевшую голову: не проклюнулись ли вдруг волосы, и пыталась разглядеть себя в замызганном окне (но только тогда, когда двор был пуст). Зеркала в доме не было, и Нинка не могла лицезреть себя «во всей красе».
Зеркало, занавески с окна, немногочисленные книжки и игрушки мать продала и обменяла на продукты еще в первую военную зиму, когда один за другим от холода, недоедания и болезней стали чахнуть Нинкины младшие братишки и сестренки. Как ни билась мать, а сделать ничего не смогла. Схоронила всех четверых малышей. Была Нинка старшенькая, а стала – единственная.
Отцу на фронт мать написала всё как есть, утаить до времени правду не смогла, хоть и разрывалось сердце на части.
Отец долго не откликался, но потом все же прислал скупое письмо:
«Как же ты детей не уберегла, – с обидой писал отец, – вы же в глубоком тылу, а не на передовой под пулями и не в осаде, как ленинградцы. Нинку хоть сохрани. А к тебе я, коли жив останусь, не вернусь. Сошелся я тут в госпитале с медсестрой, с ней жить буду и детей заводить».
Мать как письмо прочитала, так и застыла над ним. Но не заплакала. Не было уже сил плакать.
Летом завели огород на городской окраине, у железнодорожных путей. Там они с Нинкой выращивали капусту, репу, морковь, картошку, свеклу и лук. Когда урожай уже вызревал, огороды охраняли по очереди вместе с соседями по участку: иначе выкопают такие же, как они, недоедающие, но не имеющие участков. Свекла, картошка и лук помогали не опухнуть от голода зимой, к тому же иногда мать меняла их на молоко и поила им дочь. Но летом Нинка заболела малярией да еще подцепила от обитающих во дворе кошек стригущий лишай.
Однажды вечером мать принялась жечь на блюдце оберточную бумагу. Вернее, сначала аккуратно отрезала от нее кусочек, свернула его в трубочку, потом поставила на блюдце и подожгла с верхнего конца. Бумажная трубочка сгорела, оставив после себя остатки пепла и желтое маслянистое колечко. Вот эту желтую самодельную мазь мать соскребала пальцем с блюдца и втирала Нинке в ее лишайную голову. Нежную девчоночью кожу жгло и щипало, но Нинка терпела, куда ж теперь деваться…
Постепенно лишай начал подсыхать, и на его месте образовались корочки. А Нинка все чаще и чаще щурилась от весеннего солнца и иногда даже улыбалась.
С нехитрым домашними делами она управлялась быстро. В общий коридор барака старалась не выходить. Вот и дежурила у окна, отвлекаясь только на сводки Совинформбюро, которые набатом звучали из черной тарелки на стене. Хотя бывали дни, когда Нинка не могла даже встать с кровати. Ее трясло в лихорадке. Жар и озноб изводили Нинку. Ее кожа синела и покрывалась пупырышками, сердце билось так быстро, что, казалось, еще немного и Нинка не сможет дышать. Мучительные приступы малярии – «трясучка», как она их называла – делали и без того изможденную Нинку все слабее и слабее. Спасти ее могла только хина, горькая противная хина, которую просто в рот взять невозможно. Достать ее было непросто. Но мать продала последние, сохранившиеся в погребе до апреля свеклу и морковку и, посулив денег соседке-медсестре, уговорила вынести из госпиталя, а точнее украсть (будем все-таки называть вещи своими именами!) лекарство по названию хинин.
Однажды утром Нинка проснулась с отчетливым желанием наесться пареной калины. Весь день она представляла себе, как пьет прямо из кастрюли отвар, а потом большой ложкой съедает терпкую коричневую ягоду, изредка сплевывая мягкие плоские косточки. К вечеру мечта о калине только усилилась, и Нинка поделилась ею с матерью. «Боже, где я тебе калины в апреле возьму, ведь люди уже все припасенное за зиму съели!» – произнесла мать и заплакала.
На следующий день соседка, та самая, что продала им хину, один бог знает где раздобыла сушеную калину. Весь вечер мать парила ее на общей кухне, и горький калиновый запах витал по всему бараку. Наконец Нинка от души напилась отвара, наелась пареных ягод и заснула, отчаянно потея во сне.
Наутро Нинка проснулась позже обычного с каким-то незнакомым ощущением легкости. Привычно прижавшись к облупленной стене, вытянув тощую шею, она посмотрела в окно. Футболистов во дворе не было: в школе еще не закончились уроки. Перед домом уже начинала цвести черемуха, и ее легкий аромат проникал сквозь открытую форточку. Расслабившись, Нинка «отлипла» от стены и, никого не опасаясь, свободно расположилась у окна. Тут же по ее лицу замельтешил солнечный зайчик. Да так бойко запрыгал с одного глаза на другой, что Нинка зажмурилась, а когда солнечный зайчик наконец исчез и она, моргая выцветшими от долгой болезни ресницами, распахнула глаза, то обнаружила прямо напротив своего окна улыбающуюся Генкину физиономию. От ужаса, что Генка видит ее такой изможденной и лысой, Нинка инстинктивно обхватила руками изъеденную лишаем голову. И вдруг нащупала на месте непонятно когда отпавших струпьев тонкие мягкие волоски…
Счастливое имя[2]
Феликс лежал, угрюмо уткнувшись лицом в подушку Нет, он не плакал. Чего реветь из-за тряпок-то! Хотя какие это были тряпки: любо-дорого посмотреть! Настоящие добротные штаны из плотной ткани, названия которой он не знал. С накладными карманами, выпуклыми блестящими пуговицами и шнурками-завязками снизу. Эти штаны вместе с ворохом другой непривычно красивой одежды директор детского дома привез из районного центра вчера вечером.
«Вот и помощь от союзников пришла», – с грустной ухмылкой сказал директор. И всю одежду самолично распределил между воспитанниками, никого не обидев. Девятилетнему Феликсу достались эти невероятные американские штаны. Он долго разглядывал их, ощупывал, расстегивая и заново застегивая пуговицы, развязывая-завязывая тесемки. А когда наконец решился примерить, то попросту утонул в них. Таких, как он, мальчишек, в эти шикарные штаны могло поместиться сразу трое. Перед сном он еще долго любовался модным подарком союзников, а потом положил штаны под подушку для надежности и крепко заснул.
Утром, еще не открыв толком глаза, Феликс пошарил рукой под подушкой. Ни-че-го! Сон как рукой сняло. И такая обида нахлынула на него, что даже в груди сдавило.
Директор – коренной ленинградец, привезший детдом в эвакуацию в их интернациональный татарско-русский поселок, велел «вверх дном все перевернуть, штаны возвратить владельцу, а вора привести к нему в кабинет для разбирательства». Но ни штанов, ни вора найти не удалось, как ни старались.
Донельзя расстроенный Феликс, уже битый час лежал на своей койке, не шевелясь и ни с кем не разговаривая. Детдомовская воспитательница Елена Павловна, или Лена-апа, как называли ее татарские ребятишки, осторожно присела на краешек кровати и вдруг спросила:
– А ты знаешь, Феликс, что означает твое имя?
– Разве имя может что-нибудь означать? – подумал он, отвлекаясь от своих переживаний.
– Феликс – это значит счастливый. Так называли везунчиков в Древнем Риме. Видишь, как мудро тебя мама назвала. А мое имя Елена в Древней Греции означало «светлая». И некоторые исследователи считают, что имя Елена произошло от слова «селена», так в древности Луну называли.
Феликс никогда не употреблял такого слова как «исследователи», а также впервые слышал о Древнем Риме и Древней Греции.
– Ох, и ученые они там все, – эта его мысль относилась уже к самой Елене Павловне и Ленинграду, откуда она была эвакуирована в их забытый богом поселок.
Феликс повернулся и проглотил комок в горле.
– Дружочек мой, не переживай ты так, это не горе! – продолжала утешать его Елена Павловна. – Вот война скоро закончится, и все у тебя будет хорошо, ведь родители дали тебе счастливое имя.
Феликс отвернулся к окну. Да, действительно, еще немного потерпеть – и всё, войне конец. И мама наконец-то сможет забрать его и сестренок из детдома. Заживут они снова своей семьей. Но уже одни, без отца…
Феликс помнил тот летний день, когда с мамой и сестричками пришел на станцию провожать его на фронт. На путях стоял готовый к отправке эшелон с новобранцами. Отец, завидев их, спрыгнул с подножки вагона и по очереди поднял на руки сестренок, крепко обнял Феликса. А потом что-то достал из кармана, крепко держа это «что-то» в кулаке. Он вложил свой мужицкий кулак в мамину руку и только тогда разжал его: оттуда в маленькую мамину ладонь выпало несколько спичечных коробков. Их выдали солдатам вместе с махоркой накануне отправки на фронт. До самого паровозного гудка отец так и стоял, не выпуская из своей руки легкую мамину ладошку с зажатыми в ней спичками.
А через месяц пришла похоронка.
Феликсу тогда исполнилось шесть. Ему как самому старшему из детей мать доверила козу. За козой нужно было ухаживать, а главное – стеречь ее, не оставляя пастись одну. Сама-то мать дома бывала мало: работала с утра до ночи на консервном заводе, где делали тушенку из капусты для отправки на фронт. Летом мама варила для Феликса и сестренок свекольные листья, а потом разводила похлебку козьим молоком. Выручал огород, на нем весной и летом мать проводила все свободное время, стараясь вырастить как можно больше овощей для пропитания. Но зимой капуста-картошка-свекла быстро заканчивались, а иждивенческого пайка не хватало – есть хотелось нестерпимо.
Однажды Феликс стал невольным свидетелем, как на дороге забили кнутами возницу. Рабочий вез в телеге ящики с тушенкой с завода на станцию, откуда их отправляли на фронт. Мужики черной безликой толпой молча окружили телегу и безжалостно исхлестали кнутами работягу. А потом быстро-быстро растащили ящики с консервированной тушеной капустой и растаяли бесследно в зимних сумерках. Только тогда напуганный Феликс вылез из спасшего его сугроба и стремглав помчался домой, забыв о том, куда и зачем шел.
А позапрошлым летом Феликс потерял бдительность и оставил всю семью без кормилицы. Он позволил козе одной пастись на полянке – уж больно сочной была там трава – а сам поддался на уговоры мальчишек и отправился на речку, что была всего-то в двух шагах. Когда, накупавшись в прохладной воде, Феликс возвратился на полянку, козы там уже не было.
Мать убивалась по козе так же сильно, как и по погибшему на фронте отцу. И Феликс понимал почему: без козы умереть могли все: и малолетние сестренки, и он, Феликс. С голодухи. Осенью как всегда выручили свекла-картошка-морковка. А зимой Феликс и сестренки стали пухнуть с голода. Поначалу они, с трудом передвигая отекшие ноги, еще могли ходить по избе. Но потом уже почти неподвижно лежали на еле теплой печи, руки и ноги раздулись и стали будто стеклянные. А мать, которая и прежде была тщедушной, таяла на глазах: свой паек почти весь она отдавала дочкам. Видимо, обычно сдержанная и очень терпеливая мама, все-таки поделилась своей бедой с людьми. Вот тогда-то Феликса и сестренок определили в детдом на полное государственное содержание. Временно, чтобы не умерли с голоду.
…Каким-то образом до матери дошла история с пропавшими штанами, и она после рабочей смены пришла в детский дом навестить Феликса. Мама гладила его по бритой голове и быстро говорила ему по-татарски: «Скоро, совсем скоро заберу вас домой. Зима кончается, весна на подходе, огород посажу…» А потом достала из кармана в зажатом кулаке кусочек сахара и сунула Феликсу в руку. Он тут же отправил лакомство за щеку, а потом обхватил мамину загрубевшую ладонь своей шершавой мальчишеской ладошкой и долго-долго держал ее, как тогда на станции отец. Держал и думал: «Интересно, а что означает мамино имя – Венера? Завтра спрошу у Лены-апы».
А штаны потом нашли в отвале. Так называли место в детдомовском дворе, куда сваливали золу из печей и еще кое-какой мусор. Вероятно, воришка поспешил избавиться от модной вещицы, услышав приказ директора во что бы то ни стало найти и наказать вора. Штаны лежали под кучей золы и совершенно потеряли товарный вид, превратившись в старую грязную тряпку.
Анастасия Николаевна Жирнякова
Поэтесса, прозаик, бард. Родилась в 1990 в городе Ростове-на-Дону. Писать художественные тексты начала с 8 лет. Автор трех сборников стихов: «Красная полоса» (2016), «Апостериори» (2019), «Наотмашь» (2022), и цикла рассказов «Комната с видом вовнутрь», вошедшего в повесть «Рецепт будущего» (2017), написанную в соавторстве с известным сетевым писателем Ярославом Чеботаревым.
Более 30 раз публиковалась в изданиях различного уровня, в том числе – печаталась в журналах и альманахах «45-я параллель», «Белый Мамонт», «RELGA», «Нижний Новгород», «Южная Звезда», «Филигрань», «Дон Новый», «Моремания», «Гостиный Двор», «Юность».
Финалист международного творческого конкурса Всемирный Пушкин (2017) в номинации «Проза». Обладатель Гран-при XIV Всероссийского фестиваля молодых поэтов «Мцыри» (2018). Победитель Международного Грушинского конкурса в номинации «Малая проза» (2018). Финалист в 2-х номинациях Международного молодежного поэтического конкурса «Каэромания» (2018). Лауреат «Золотой сотни» среди поэтов IV Международного фестиваля «Всемирный День Поэзии» (2019) и бронзовый призер в рамках своего города. В последние годы активно пишет песни и самостоятельно исполняет под акустическую гитару.
Гитара номер пятнадцать
– Ма-ам, я решил не поступать на юриста! – лихо встряхнув русой челкой, заявил шестнадцатилетний Виталик.
Мама, в тот момент перетиравшая посуду, так и села на подвернувшийся табурет.
– Так, а ну-ка рассказывай мне, это еще почему?
– Я решил, что мы с ребятами вполне самодостаточны как рок-группа!
– Ах, рок-группа!.. – в глазах мамы сверкнул недобрый огонек.
Увлечение сына гитарой она не одобряла, а когда тот наотрез отказался стричься и стал отращивать волосы – то вовсе решила, что ее дорогому ребенку окончательно промыли мозги эти «орангутанги». На борьбу с порочным увлечением тратилась немалая доля материнских усилий, направляемых в русло воспитания. Но воля сына, на беду, была под стать материнской. Поэтому борьба велась беспрестанно, но – для обеих сторон тщетно.
– Ах, рок-группа!.. – повторила мама тихим, сдержанным голосом, не предвещавшим ничего хорошего. С быстротой молнии вскочила с табурета, схватила посудную тряпку, сделанную из старых колготок, и начала гонять Виталика вокруг обеденного стола.
– Вот ему чего захотелось!!! Я не для того тебя растила, чтобы ты к этим наркоманам подался!..
– Все равно, все равно не пойду в твой чертов юридический!!! Я там сдохну со скуки!!!
– Не пойдешь в юридический – пойдешь бутылки собирать!!! Сам потом прибежишь плакаться, да поздно будет!!!
– Да я сегодня сто двадцать рублей заработал, за один день!!! Поровну поделили, на троих!!! Посмотрела бы хоть!!! Спросила бы!..
– Сегодня сто двадцать, а потом месяц ни гроша! Ты чем месяц питаться будешь?! Святым духом?!
– Откуда ты всегда все знаешь?!
– Знаю потому что!!! Хоть бы раз мать послушал!..
Парень по опыту знал, что после этой ключевой фразы продолжать разговор было решительно бесполезно, будь ты хоть сам премьер-министр Великобритании. Не дослушав гневные выкрики, он хлопнул дверью и ушел в свою комнату – переживать.
В грустных карих глазах Виталика между мамой и рок-музыкой с самого начала существовало непреодолимое противоречие. Мама ненавидела русский рок и всё, что было с ним связано, лютой и необъяснимой ненавистью. Впрочем, рок-музыке как раз было наплевать на маму Виталика. Так что вражда была скорее из разряда «Моська лает на слона», поскольку ни одна мама в мире не способна нейтрализовать массовое культурное явление, чему юноша был втайне рад. Иногда по ночам он думал, что было бы, если бы против рока объединились все мамы мира… Пожалуй, что тогда силы стали бы примерно равны, и еще неизвестно, во что все это могло вылиться в итоге…
Несколько лет назад первые искры нового интереса только начинали озарять впечатлительную подростковую душу. Давно отгремевшие хитовые песни прошлых лет, не сделавшись из-за своего солидного возраста ни капельки хуже, с охватывающим до самых пяток восторгом открывались Виталиком, как Америка Колумбом.
Вот тогда-то и завязалась эта непримиримая враждебность двух значимых частей Виталькиного мира.
Слушать любимые песни через колонки так, чтобы трясся пол и аж стены трещали – вот это да, вот это он любил!.. Однако такое радостное времяпрепровождение оказалось невозможно категорически. С первых аккордов мама, как пригородный экспресс, мчалась из кухни, неся полные легкие крика, а иногда и мокрую тряпку вдобавок. Самое интересное, что незадолго до этого, когда из колонок с примерно такой же громкостью звучали хиты из американских фильмов про супергероев, подобной реакции не было. Виталька даже провел эксперимент, пытаясь установить, в жанре ли дело. Оказалось, что на взятые наугад симфонии Моцарта, вопящие на весь дом, за все три опытных дня мама ни разу так не отреагировала. Но кому нужен этот Моцарт, когда есть Цой, и все остальные!.. Они же ведь самые настоящие люди – не то, что все эти супергерои из кем-то придуманных комиксов! Надо ли говорить, что зарубежные фильмы мальчишку больше не увлекали.
После нескольких подобных скандалов почти физическая тяга к русскому року у стремительно растущего организма, конечно же, никуда не испарилась. Но продолжать в том же духе, и в результате нарываться на мамин гнев по-новой – не было никакого смысла. Виталик понял, что из нарисовавшейся ситуации необходимо придумать какой-нибудь выход, не спал полночи, волнуясь и продумывая план действий. Утром проснулся в твердой и непоколебимой решимости. И начал копить деньги.
Копил долго, обманывая, что требуют сдать в школу на довольно дешевые столовские завтраки. Завтраки действительно имели место быть. Но после третьего отравления то ли котлетами, то ли киселем ярко-сиреневого цвета, который, наверное, мог бы светиться в темноте, поглощать их Виталик больше не хотел ни в какую.
Скоро набралась достаточная сумма, и парень, наконец, разжился вымечтанными наушниками. С ними неожиданная мокрая тряпка во время самого лучшего аккорда в припеве ему уже не грозила. Конечно, все равно доставать их при маме в открытую было нельзя, но в целом жить стало чуточку спокойнее.
Душа, как известно, очень быстро привыкает к хорошему и всегда начинает требовать большего. Песни с такими простыми, но пронзающими мотивами, с такими замысловатыми, но правдивыми текстами – хотелось не только слушать, но и петь самому.
Честным трудом по ночной разгрузке вагонов четырнадцатилетний тогда Виталька за лето заработал себе на гитару. В полиэтиленовом мешке из-под сахарной свеклы инструмент был тайно пронесен в квартиру и спрятан под кровать, где в пыли и нагромождении многочисленных ненужных предметов выглядел достаточно незаметно.
Первые репетиции происходили в те редкие и захватывающие вечера, которые мама проводила у подруги из дома напротив.
Поначалу струны не слушались, и получавшиеся звуки резали ухо. К тому же еще и Виталькин голос начал ломаться. Какофония получалась такая, что соседи по вечерам прятались под матрас. На третью неделю, не выдержав, они обратились с жалобой напрямую к ни о чем не подозревающей маме.
Тем же вечером война открыла второй фронт.
Скандал произошел жуткий. И очень громкий. Соседи успели не одни раз крупно пожалеть о своей жалобе, коротая вечер все под тем же матрасом.
Инструмент отстоять удалось в качестве дорогого предмета мебели, который можно хранить «на черный день» ради его денежного эквивалента. За это гитара даже получила почетное право оставаться под кроватью без маскировочного мешка. Новая жительница квартиры, однако же, должна была навсегда перестать использоваться по ее прямому назначению, под честное Виталькино слово – во благо материнского сердца, чутких соседских ушей и мира во всем мире. Парень, обрадовавшись положительному исходу дела, не задумываясь, дал обещание.
Несколько дней подряд он доставал гитару из-под кровати, как свою величайшую драгоценность. Рассматривал, крутил в руках и, порадовавшись хотя бы немного, со вздохом убирал инструмент обратно, до лучших времен.
Душа тем временем изнывала без репетиций.
Однажды Виталька полез на лестничную площадку самого верхнего этажа – ему показалось, что там мяукает котенок. Котенка он не нашел, зато заметил, что дверь чердачного люка приоткрыта и больше не заперта на замок. Увидев это, Виталька понял, что лучшие времена наступили.
Теперь мальчишка дожидался, пока мама уснет, и уходил орать свои песни на чердак, пугая и заставляя озираться по сторонам редких ночных прохожих.
Парню иногда казалось, что инструмент живой. С ним можно было делиться настроением и общаться по душам, как с человеком. Он всегда оказывался рядом в трудную минуту, как хороший товарищ, успокаивал, как настоящий друг. С появлением в квартире нового «жильца» наушники были понижены в чине и разжалованы из благодатного источника до обучающего приспособления, источающего безошибочные мотивы и потому полезного для подбора на слух все новых и новых аккордов.
Разумеется, про чердачные репетиции рано или поздно тоже стало известно. Информация просочилась от соседей с последнего этажа, проследивших в дверной глазок перемещения вечернего гостя. Эта нелюдимая семейная пара из сорок пятой долго расспрашивала лавочных старушек, прежде чем удалось установить адрес. Они точно так же нагрянули с кляузой к матери.
По счастью, Виталька на тот момент был в лагере, в связи с чем благополучно избежал немедленной взбучки. Свой первый порыв – разломать злополучную штуковину на мелкие куски, сложить из них ритуальный костер и поджечь во дворе во имя Всех Светлых Сил – мать в себе подавила. Нацедив для верности валериановых капель, женщина окончательно взяла себя в руки и решила действовать хитрее. Бесконечно радуясь тому, что сына нет дома, она втихомолку предложила соседу с многочисленными «нехорошими» связями в среде барыг купить у нее гитару за какой-то бесценок, дабы он мог потом перепродать им инструмент втридорога. На другой же день сосед реализовал ценный подарок в связи с насущной потребностью в водке.
Казалось, что проблема была решена.
Приехав из лагеря, Виталик устроил первую в жизни истерику, и ушел из дому на два дня. Вернулся с синяком под левым глазом и со своей, отвоеванной невесть как и у каких дельцов, гитарой, на передней деке которой кто-то успел коряво вывести красной краской число «15».
Впрочем, темно-коричневую гитару это даже украсило. Благодаря кровавому, как шрам, двузначному числу инструмент сумел выделиться из толпы себе подобных, стал узнаваемым (с претензией на уникальность) и даже приобрел собственную легенду.
Виталик и его «гитара № 15» скоро и вправду стали знаменитостями на все три подъезда многоквартирной высотки. Юноша, закалившийся в боях за свое право на инструмент, теперь выходил играть прямо во двор, уже не стесняясь ни публичности, ни сплетен соседей. Ведь мать уже успела разнести чуть ли не всему району, что ее непутевый сын изволил исчезнуть из-за, видите ли, гитары! Так что – все знали, как он пропал. Теперь же – все видели, как он вернулся.
Заинтересованным лицам парень охотно рассказывал, почему он поет не в квартире, а здесь, и откуда гитара приобрела свою странную нумерацию. История расходилась из уст в уста между мужиками, которые по вечерам коротали время у своих гаражей. В связи с этим случаем они охотно вспоминали свою небезынтересную молодость и собственные безумства…
Мать злилась пуще прежнего, ибо ее недоброе дело пошло только на руку сыновьему увлечению, и глубоко сожалела о нереализованной идее ритуального костра.
Как-то раз выбрав время, когда Виталька отсутствовал дома по причине занятий в школе, она крадучись зашла в комнату сына.
Гитара лежала там же, под кроватью, и всем своим видом гордо посмеивалась. За это ее хотелось просто придушить. Руки невольно потянулись к грифу – будто к горлу… Но какая-то невидимая сила окружала победоносный инструмент золотистым ореолом неприкасаемости, и руки, так и не дотянувшись до своей цели, бессильно отпрянули назад. Мать быстро вышла из комнаты, грызя заломившийся ноготь.
Злой «рок» тяготел, очевидно, надо всем домом, ибо скоро Виталька нашел себе сотоварища по хобби. Он приобрел друга в лице подросшего Валька из третьего подъезда, у которого была отцовская почти расстроенная гитара и неплохой, с едва заметной хрипотцой, голос.
Теперь они могли с полным правом петь прямо на скамейке перед детской площадкой, представляя собой уже не взъерошенных загнанных одиночек, но цивилизованное творческое объединение. Пива мальчики не распивали, так что запозднившиеся мамочки не гоняли их, а иной раз даже слушали импровизированные концерты с любопытством и, случалось, жиденько аплодировали.
Мать презрительно фыркала на такую популярность и все чаще уходила к той самой подруге из дома напротив – рассказывать про то, что ее единственный сын отбился от рук. Соседка с дружеской готовностью, достойной сравнения с боевой, слушала, как именно он отбился, и в каких масштабах. Сетовала на современную молодежь. Давала одни и те же бессмысленные советы.
Крепнущий в своих убеждениях Виталька в пику матери завел себе черную кожаную косуху и ходил в ней, не снимая. Больше всего он любил прямо так сидеть на драгоценном диване в гостиной, с которого при случае неизменно прогонялся тряпкой под крики: «Не ходи по дому в верхней одежде, сколько раз тебе говорить!!!»
На свой шестнадцатый день рождения, вдохновленный невесть чьим непотребным примером, Виталька проколол себе левое ухо. Дома – чудом его не лишился. Но серьгу снимать не стал даже под угрозой проклятия.
Вскоре к спетому дуэту прибился еще один парень из спортивной школы, куда ходил Валек.
Димон оказался сочинителем неплохих, почти осмысленных стихов, которые легко перекладывались на песни, и обладателем тамбурина. Решено было организовать собственную музыкальную группу. Незамысловатое название «ВДВ» – Виталик, Димон, Валек – было выбрано путем долгих споров и горячих препирательств.
Группа стала собираться по выходным в людных переходах и играть там всё, что только было разучено – свои «первые ласточки» и чужие хиты, спетые уже сотни раз до хрипоты в горле.
В тот самый день, когда они заработали за три с лишним часа непрерывного искусства триста шестьдесят семь рублей, Виталик ощутил неповторимый, искрящийся счастьем вкус зарабатывания денег любимым делом, и решил из принципа не поступать на юриста.
Конечно, он еще ни в чем не был уверен. Будущее пролегало вперед и только вперед, растворяясь в тумане уже через пару шагов и делаясь еле заметной тропой… Парень смутно понимал, что пробиться по-настоящему – будет непросто. Но прикладывать свои усилия в иных направлениях – не хотел до дрожи в коленках.
Громкое и уверенное заявление об отказе поступать в юридический перед матерью было ничем иным, как попыткой убедить самого себя в сделанном выборе – а заодно и в реальности достижения заветной мечты.
Да и кроме того, утереть нос матери, так крепко солившей ему все эти годы, похваставшись перед ней своими успехами, тоже хотелось.
Однако маму не интересовали его успехи. Ее интересовало исключительно его поступление, потому что кто-то там, через кого-то там, после приложенных ею всесторонних усилий, весьма неопределенно пообещал ходатайствовать за Виталика в случае подачи им документов на юрфак. Мать схватилась за это обещание, как утопающий за соломинку.
С такой матерью и с такой соломинкой Виталик был почти обречен.
Он и сам понимал это. И поэтому после произошедшего знакового скандала заперся в своей комнате, чтобы ему не мешали думать.
Ничего путного за весь вечер в голову так и не пришло. На следующий день – тоже… В растерянности юноша решил посоветоваться с первокурсником Андреем, жившим этажом выше, который был известен тем, что умел изображать из себя любое животное, благодаря чему в прошлом году удачливо проскочил на первый курс по специализации «актер драматического театра».
– Здорово! – приветствовал его Андрей, открывший дверь в домашних тапочках на босу ногу, – Ты по какому поводу?
– Привет. Мне, в общем, поговорить надо.
– А, ну заходи!
Мальчики прошли на кухню. Гостеприимный Андрей молча достал еще одну кружку, сварганил в ней чай и поставил ее перед гостем.
Без лишних предисловий Виталик начал:
– Повезло тебе, поступил куда хотелось! Золотые у тебя родители… А моя мать хочет, чтобы я поступил на юриста.
Андрей присвистнул и немного подумал.
– А сам ты чего хочешь?
– Играть в группе! И ничего другого не хочу! Незачем тратить силы на то, что не нравится, как думаешь?
Андрей глубокомысленно отпил чай из своей большой чашки в горошек.
– Вот я поступил, куда хотел. И что, ты думаешь, оказалось? Оказалось – тяжело. Первый курс. Занятия с утра до ночи – почти круглосуточно. Шесть дней в неделю, иногда и по воскресеньям бывают, по полдня… Это сегодня хорошо, выходной как выходной наконец-то, отоспаться хоть за целую неделю – дрых до одиннадцати утра… вот ты меня в непарадном виде и застукал… Думаю оттуда валить, и в этот год поступать на что-нибудь нормальное.
– Что – нормальное? Юридический – нормальное, что ли?
– «Вас ждут фабрики и заводы!» – глубокомысленно процитировал Андрей. – Так нам на каждой паре говорит преподавательница по сценическому движению. А еще у нас отсев после первого курса двадцать процентов. И знаешь, что мне кажется? Если я окажусь в их числе и вылечу отсюда, потом, скажем, поступлю туда снова – и снова вылечу, в итоге не будет у меня нормальной вышки – фабрики и заводы меня действительно ждут…
Обладатель гитары № 15 грустно вздохнул. Самого Виталика, по заверению его мамы, не ждал никто. Не ждали даже и там. Несобранные бутылки не в счет – такие незначительные предметы, скорее всего, ждать не умеют.
По прошествии многих часов раздумий и полубессонных от переживания ночей документы в юридический были поданы.
Наконец настал знаменательный день, в который должны были объявить результаты набора. Протолкавшись среди абитуриентов к списку поступивших, Виталик прочел свое имя. Вздохнул – но едва ли с облегчением, скорее с чувством неотвратимости грядущей пятилетней тоски… Он должен был, со своими-то экзаменационными результатами, быть благодарным тому самому кому-то там, из-за которого он теперь настоящий студент, он – здесь. Но на сердце упрямо скребли неблагодарные кошки.
Теперь времени на нереализованную, но не позабытую мечту оставалось мало, да и выкраивать его удавалось далеко не каждый день. Верить в нее стало еще трудней оттого, что распылилась его группа. Димон махнул на все рукой и подался к поэтам, поймать Валька было трудно из-за постоянных соревнований…
Толстенные скучные учебники Виталька скоро возненавидел. Постановления, Приказы и Положения снились ему в страшных снах. Нетворческая учеба давалась туго. Теперь вместо ночных репетиций Виталик зубрил законодательные статьи и в перерывах бился головой о стену.
В первую же зимнюю сессию очередной экзамен он завалил с треском, придя с путаными от переутомления обрывками фраз в голове и без взятки в кармане. Не стал выпрашивать себе шанса на пересдачу – молча развернулся и ушел.
Надумав про себя что-то по дороге, домой зашел мрачнее тучи. Мать, как всегда, убиралась на кухне.
– Я завалил экзамен. Пересдачи не будет. Я вылетаю с твоего юридического.
Мать замерла на секунду. Развернулась всем телом.
– Ты не посмеешь… – после секундной паузы прошипела она, и вдруг ахнула: —…да ты это специально!!!
– Я?.. Я – специально?! Я??? – Виталик ощутил, что расширяется, расширяется и сейчас взорвется, как атомная бомба. – Это ты!!! Это все ты!!! Ты разбила мою мечту, я бросил гитару, растерял свою группу! Из-за тебя я не стал музыкантом, и юристом тоже не стану!!! Паршивый из меня юрист!!! Никакой!!! Провались он, этот твой чертов юрфак!!!
– Придурок! – сорвалась мать и бросилась за сыном по привычному около-стольному кругу – Что, вот что ты теперь делать будешь?!
– Мечту свою реализовывать! – на бегу открики-вался парень. – Осенью в музыкальное училище пойду! Соберу новую группу! Ты про меня еще по телеку услышишь!
– И думать не смей, я тебе сказала!!! Не смей, слышишь меня? Проклятая твоя музыка!!! На наркотики сядешь, до тридцати не доживешь, как отец твой, будь он неладен!!!
Виталик сразу забыл, что куда-то бежит, и застыл на месте, как каменное изваяние. Поперхнулся, задохнулся застревающими в перехваченном спазмами горле словами:
– Ты… мне… никогда не говорила!
Руки и ноги почему-то сразу стали тяжелыми, стало трудно думать, дышать и вообще передвигаться.
– Оставил меня одну, без мужа, с тобой годовалым на руках… Ни о ком не подумал… – плакала навзрыд мама, сидя на табурете и вытирая с увядшего лица слезы мокрой посудной тряпкой…
Витальке впервые за последние несколько лет, если не вообще впервые в жизни, стало жалко мать. Он подошел к ней на свинцовых ногах, неловко обнял за содрогающиеся плечи.
– Почему ты не говорила мне… Так вот оно что… Мам… Мама. Это мой выбор. Понимаешь, мой выбор? А отец… Я ведь тут ни при чем… Ни при чем… Слышишь?! Понимаешь меня?! Ма-ма!..
Мать не слушала, размазывая текущие из глаз, опустошенных многолетней вынашиваемой болью, слезы…
Виталька был невозмутимо-спокоен, забирая из деканата поданные при поступлении документы. Он рассчитывал, что до августа ему как раз хватит времени на подготовку, и уже присматривался к факультетам «музыкалки».
Весной освобожденному от рутины высшего образования Виталику пришла повестка. Его забирали в армию. Дать взятку было некому. Болен Виталий не был. Мать проводила его спокойно, впервые без эмоций, без слез, какая-то вся притихшая.
Сын пошел в армию покорно, как барашек на заклание. Такие понятия, как патриотизм и любовь к Родине, выдуло из его головы сразу и начисто. Армия с ее униформой и строевым шагом казалась ему пугающей, ломающей душу каторгой, пройдя которую, он уже не сможет остаться прежним… Остаться тем самым патлатым подростком Виталиком, который мог решать за себя сам и всегда знал, чего он хочет. Тем Виталиком, к которому он привык и которого так любил в себе сам.
Виталик плакал, стиснув зубы до хруста, а на пол одна за другой сиротливо падали длинные, некогда бывшие роскошными, русые пряди…
…Он вернулся окрепший и подросший. Открыл дверь в свою комнату, вдыхая широкими легкими до странности знакомый, но при этом почти забытый запах родного дома.
На кровати его терпеливо ждала положенная сюда матерью припылившаяся гитара с криво написанным потрескавшейся от времени красной краской числом «15»…
Все дороги были открыты.
Анна Киссель
Родилась 16 сентября 1976 года в Карачаево-Черкессии, училась в таежной школе на Севере и в университете на Урале. Работала продюсером и редактором на телевидении и в онлайн-изданиях, сейчас работает в кино.
Любовь к сочинительству у Анны Киссель с детства – будучи подростком, вела дневники, где частенько записывала не только ежедневные заметки, но и истории про других людей. Серьезно занялась литературным творчеством после учебы на курсах сценаристов. Одна из написанных историй никак не ложилась в рамки телевизионного сценария, зато получился отличный новогодний рассказ – он был опубликован в «Юности» и еще нескольких онлайн-изданиях. Лауреат литературных и драматургических конкурсов.
Апельсины не обманывают
Своего детства Зойка не помнила вообще. Начала она помнить себя с тех дней, как вернулась к матери, помогать той с младенцем. Вот его детство Зойка помнила отчетливо – кормила, качала, меняла, стирала, водила за подвязи по комнате…
Мать родила Зойку в шестнадцать лет от заезжего инженера, очень рассчитывала уехать с ним в город. Но инженер уехал один, не дождавшись Зойкиного рождения. Мать все равно «записала» дочь на него и уехала сама, оставив своей матери, Зойкиной бабушке – тридцатипятилетней развеселой доярке Малашке. В сорок два Малашку схоронили, а Зойку отправили к матери, в соседнюю деревню.
Мать сначала была очень рада – еще один ребенок раздул ее живот так, что трудно было просто встать, что уж говорить о хлопотах с двухлетним и годовалым Зойкиными братьями.
Когда Зойке стукнуло двенадцать и отчим пару раз хватил ее за зад, перепутав (перепутав ли?) со спины с матерью, мать решила отправить Зойку к двоюродной сестре в подмастерья. Говорили, что тетка Марина очень хорошо устроилась в городе.
Тетка Марина была модисткой. Легкой, громкой, яркой. Она любила красивую жизнь и жила красиво. В ее комнате в бараке, но почти, почти в центре города (там за три дома уже и трамвай ходит) таились несметные сокровища, никогда не виданные Зойкой.
Посреди комнаты стоял круглый стол под вязаной скатертью. На столе – хрусталь! – ваза для фруктов, но в ней цветные катушки ниток, чтоб не пустовала в будни.
У двери с одной стороны шкаф цвета свеклы, с зеркалом на средней дверце, на шкафу круглые коробки – для чего вообще такие? С другой стороны двери комод с часами. Над комодом большая фотография – теть Марина, молодая и испуганная, и теть Маринин большой красивый муж с довольной и уверенной ухмылкой. Букетик в руках невесты раскрашен голубым и розовым.
У стола – диван, тоже невиданный – высокая спинка в раме, а по центру сверху, как корона, зеркало. Зеркало старое, в пятнах мутной амальгамы, но всегда блестит, отражая окно.
Комнату разделяла занавеска. И тоже не просто так занавески – с бахромой и прихватом, «как в тиятрах». А за ними самое ценное – ножная машинка «Зингер» и кровать.
Кровать как у царей. Это Зойка сразу поняла! Не щербатый мамин сундук и не скамья бабушкина, а кровать – с блестящими хромированными спинками, с высокой, до пупа, периной, с пирамидами подушек, и по их острым вершинам нежный воздушный тюль.
Зойка и надеяться не могла на такое счастье, чтоб просто полежать на ней, поэтому и спрашивать не стала. Была б у нее такая кровать, она бы тоже никого не пустила!
Теть Марина читала письмо и цокала языком. Придирчиво осмотрела Зойку на предмет вшей и прочих неприятностей, но не выгнала. Мать не сообщила, что делать в случае, если б тетка выгнала, и Зойка очень переживала и нервничала от неизвестности. Но тетка разрешила спать на диване и обещала даже устроить «в ателье» – подметать и мыть пол.
В ателье Зойку приняли не очень, но вскоре перестали задирать и замечать. Ей всегда можно было поручить любое неприятное дело, и она никогда не спорила, споро и скоро все выполняла, а потом сидела, почти невидимая, в уголке.
В канун нового 1947 года теть Марина пришла домой, достала из сумочки флакончик с зеленым «Шипром» и бланк справочной службы. Зойка было уже протянула руки к флакону – таких она еще не видала, но тетка одернула:
– Руки прочь! Это мужской одеколон! – и протянула взамен бумажку: «Милованов Николай Иванович, улица Красноармейская, дом 42, квартира 8».
Это был адрес Зойкиного отца.
– Иди, – сказала тетка. – Праздновать будешь у отца. Некогда мне тут будет. Постучись и скажи: «Папа, здравствуй! Я к тебе на праздники!». Добраться легко – через три дома на второй номер, на пятой остановке выйдешь. Три плюс два – пять. Адрес не потеряй!
Зойка очень постаралась и запомнила все цифры – и трамвай, и остановки, и дом с квартирой. Оделась и поехала.
Город готовился к новогодней ночи. Было морозно и торжественно. Зойка тоже готовилась к торжественной встрече с отцом.
Нужная остановка была у желтых каменных домов с огороженными кованными заборами дворами. Вход через арку, рядом кованые же ворота.
Зойка видела такие дома только из окон трамвая, когда тетка брала ее с собой к заказчицам на примерку. А тут – папин дом. Папин – это же почти ее?
До сих пор Зойка робела от радости, когда поднималась на второй, а то и третий этаж и смотрела оттуда в окно, сверху, как, должно быть, птицы или ангелы. А квартира номер 8 как раз была на третьем!
Зойка постучалась. Потом заметила звонок и позвонила, в первый раз сама. Дверь открыла седая баба в фартуке и с перевязанным горлом.
– Тебе кого?
– Милованова Николая Ивановича.
– А сама кто? От кого?
– Милованова Зоя Николаевна.
Баба онемела и закрыла дверь. Зойка растерялась, но стучать снова не решилась. В теткином плане такого варианта событий не было, и Зойка занервничала от неизвестности своей судьбы.
Дверь открыл мужчина, грузный, лысеющий, в очках, в костюме, но в тапках. Открыл и жестом пригласил в квартиру.
В квартире всё искрилось! Света было много, он отражался в зеркалах, вазах, бокалах, елочных игрушках и в мишуре. И запах… Совершенно незнакомый, колкий и приятный.
Здесь ждали гостей.
И неужели ее, Зойку, ждали тоже?
Отец провел Зойку на кухню, там она сняла валенки и пальто, и держала пальто на коленях, пока отец ушел обратно к елке, а Марфа наливала ей чай.
«Ух, командир! – гордилась отцом Зойка. – Как он ей: “Марфуша, сделайте девочке чаю, я на минуточку”…»
Зойка грела руки о горячий стакан и исподволь оглядывала кухню – сколько тут всего! И это только его? Или тут и соседское?
Окна из голубых стали белыми – морозные узоры почти полностью закрывали черноту за окном, тьма пробивалась только в открытую под потолком форточку.
Отец вернулся и позвал Зойку в комнату.
Там на диване сидел малыш и очень прямая и красивая женщина, в белом, как невеста. Вдоль стола ходил пятилетний мальчик, иногда смотрел на Зойку поверх белоснежной скатерти, а иногда забирался на стул и тянулся за яркими шарами в вазе.
– Коля, не смей трогать апельсины! Дедушка их с таким трудом добыл, чтобы был тебе праздник!
– Зоя, знакомься, это Антонина Михайловна, моя жена, а это Коля и Толя, твои братья.
Антонина Михайловна стала еще прямее и еще красивее.
Некоторое время все молчали. Даже маленький Коля перестал тянуть руки к апельсинам.
– Где ты живешь? – спросил отец.
Зойка рассказала, что живет у тетки, что работает в ателье и скоро определится в вечернюю школу, а пока ждет, как ей изладят документы.
– Николай Иванович, в полвосьмого придут Голо-бородьки, а они весьма пунктуальны, – не теряя ледяной красоты раздраженно сказала женщина.
– Да, конечно, конечно! Зоя, уже темнеет, скоро ведь и Новый год. Тебе надо успеть еще добраться до дому.
Зойка послушно вскочила, но немного растерялась – столько дверей, столько света, блеска, мишуры!
Как она вообще могла подумать, что это для нее! Тетка права – простота хуже воровства. Понапридумывает вечно эта Зойка и выглядит потом смешно и глупо в своих штопаных носках из семи разноцветных остатков пряжи.
– Зоя, возьми апельсин, – отец выбрал самый верхний, самый большой и вложил Зое в руку.
– Ах, так! – вскрикнул Коля, залез под стол и начал реветь.
– Ну, ты молодец, Николай Иванович! Добреньким за чужой счет хочешь быть? – вдруг взвизгнула белая красавица.
Зойка сразу вспомнила, где валенки и где вход.
Она стояла посреди двора на пересечении двух тропинок и смотрела на этот дворец.
Он не переставал быть прекрасным и даже стал еще волшебнее, а окна папиного дома сверкали ярче всех.
Сильно мерзла рука – в руке апельсин и варежку колючую не натянешь.
Зойка понюхала апельсин – такой же колкий и приятный запах, как у папы дома.
У мамы пахло квашеной капустой и печеной картошкой.
Зойка зажмурилась и, вдыхая этот запах счастья, праздника и чуда, укусила ноздреватый твердый апельсиновый бок.
Горечь его сочной толстой корки брызнула в рот.
Зойка от испуга села в сугроб и стала набивать, тереть снегом рот.
Дикая обида душила ее.
Она схватила упавший апельсин и швырнула его вглубь двора, в самую черноту.
Апельсин беззвучно оставил черную точку в синем снегу.
Зойка, рыдая, бежала домой. Другого плана у нее не было.
Тетя Марина сидела за столом, напротив должен был сидеть кто-то, для кого стоял среди капусты, колбасы, хлеба и бокалов флакон «Шипра». Уже час как тетя Марина поняла, что опять одна, и новогоднего чуда не будет, но не было сил встать.
Наконец она поднялась, взяла флакон «Шипра» и спрятала его в ящик комода. Из другого ящика достала свой парадный свадебный портрет и повесила его обратно, над часами.
– Так и помру твоей единственной. Ты этому радуешься? – спросила она мужа устало.
Подошла к окну, раздвинула занавесу, открыла форточку и закурила. Что-то показалось ей странным: некоторое время она вглядывалась в ночь, потом выбежала, даже не накинув пальто, навстречу ревущей Зойке.
– Зоя, господи! Зоя! Что случилось? Что? – теть Марина осматривала и трогала Зойку до самых валенок и плакала сама.
Дома она сняла с ревущей Зойки платки, валенки и пальто, усадила на диван, налила воды. Зойка еще не могла говорить и икала, стучала зубами о стакан.
– Он хотел… он… он хотел меня… меня отравить!
– Кто? Отец? Твой отец? Да ты что! Как? Чем?
– Он… он… дал… дал мне… ап… ап… апельсин! Отравить! Хотел отравить!
– Апельсином? – тетка засмеялась. – Зойка! Какая же ты деревня! Учись! Заклинаю – учись! Темнота ты! Ну, смотри!
Тетка достала из комода завернутый в бумагу шар. Развернула – апельсин. Зойка вжалась в диван. Тетка начала чистить апельсин, он брызгал во все стороны пахучим маслом. Тетка отломила дольку и положила первый кусочек себе в рот.
А второй – в рот зажмурившейся Зойке.
Зойка жевала, смеялась и плакала.
Все-таки апельсины не обманывают и пахнут счастьем.
Тетя Марина потушила свет, зажгла свечу и показала Зойке невиданный салют – корки апельсина были сочные, и щедрые мелкие брызги сгорали в пламени свечи.
Зойка засыпала, счастливо улыбаясь – тетя Марина положила ее на своей кровати, а пуховая перина и тяжелое одеяло обнимали ее тепло и нежно, как любящие родители.
Елена Львовна Аушева
Родилась 25 сентября 1976 года в п. Керос (Пермская область). С 2003 года проживает в г. Ханты-Мансийске. Работает библиотекарем в Государственной библиотеке Югры. Стихотворения и малую прозу пишет со студенческих лет.
В 2022 году окончила курсы «Литературное мастерство» под руководством Нины Александровны Ягодинцевой. Участница второй сессии Уральской писательской резиденции (2022 г.). Имеет публикации в журналах «День и ночь», «Наш современник». Автор сборника стихотворений «Небо в квадрате» и детской сказочной повести «Лурик – лунный кот». Редактор сборников детской прозы «Портал волшебных историй», «Наши голоса», альманаха «Литературный курс». Руководитель литературной студии для детей и подростков «Чистый лист». Член Союза писателей России с мая 2023 года.
Хозяйка
Луна качалась на ветках старой вишни, подмигивала, ухмылялась и кричала с высоты торгашеским голосом: «Хозяйка! Хозяйка! Това-а-а-ар!» Круглый светящийся диск, перескакивая с ветки на ветку, спустился к окну, равномерно и глухо застучал по деревянному наличнику, нудно повторяя одно и то же: «Хозяйка! Хозяйка! Товар! Товар – хозяйка! Хозяика-аааа!»
Не дождавшись ответа, луна, полная и яркая, бесстыже полезла в окно, цепляясь за подоконник. Свет наливался силой, окно трещало, длинные белесые лучи потянулись в комнату, коснулись лица… и Нина проснулась.
– Всю ночь не могла уснуть из-за этой луны, еще и под утро она приснилась! – с недавнего времени Нина часто разговаривала сама с собой.
Полнолуние скоро закончится, и вместе с ним пройдет бессонница, назойливая и изматывающая, как крик, доносящийся с улицы.
Муж тяжело заворочался рядом, сонно пробурчал:
– Скажи, что ничего не будем брать. Пусть уходит. И штору закрой.
Валера натянул одеяло на голову, спрятавшись от солнечного света.
– Опоздаешь. Опять проблемы на работе будут. Вставай!
Прислушалась: из-под одеяла доносилось мерное посапывание, переходящее в легкий храп.
– Не встанет ведь. Да и… – махнула Нина рукой и резко встала, согнулась от боли, прострелившей поясницу.
Юбка, надетая поверх ночной сорочки, болталась. Значит, снова похудела. Потуже затянула пояс. Нашла серую теплую кофту. Так не замерзнет, а то в последнее время знобит даже летом. Домашние смеются, что она кутается, а холод не отпускает, сколько бы кофточек на себя ни надела. Нашарила ногой напольные весы возле комода с зеркалом, придерживаясь за стену, встала и вздохнула: минус два килограмма за три недели.
– Хозяяяя-ика! – не унималась торгашка, перекрикивая ворчливого старого пса Фокса, гремящего цепью.
Деревянную дверь в воротах переклинило, Нина толкнула ее плечом, почувствовала резкую боль от удара. Потирая ушибленное место, прикрикнула на Фокса, посмотрела на торгашку.
– Фатима, ну чего ты кричишь с утра? Вчера же сказала: муж денег не получал, брать ничего не буду.
– Кофточка есть, н-нада? Твои девчата молодой, им н-нада! Хароший, киргизский: качество, видишь, какой! – суетливо вжикнула молнией бездонной бесформенной сумки улыбчивая смуглая Фатима и вытащила белую блузку.
Нина провела рукой по тонкой ткани, удивилась хорошему качеству, но, мотая головой, протянула кофточку обратно.
– Ты что-то зачастила. Каждый день теперь ходишь…
– Дочка рожать будет. Деньги н-надо. Твои дети тоже много, это хорошо! Бери, тебе н-нада! Ты не работать, дома хозяйка? – улыбалась женщина.
– Да уж. Хозяйка, – Нина, задержавшись на мгновенье, снова взяла из рук торгашки протянутую блузку. – Фатима, денег нет, но в теплице много клубники поспело. Завтра утром соберу и тебе отдам. Возьмешь вместо денег?
– Продам, деньги будет. Клиент найду, – задумалась Фатима и озабоченно уточнила, – большой ящик или маленький?
– Большой. Ягода сладкая.
Фатима улыбчиво закивала, закрыла сумку, взвалила огромный баул на правое плечо и пошла, слегка согнувшись под тяжестью, привычно оглашая улицу криком: «Товар! Товар! Товар!»
Нина посмотрела на быстро шагающую по пыльной дороге женщину в растянутой кофте и длинной юбке, в очередной раз подумала, что она не может определить ее возраст. Посмотрела себе под ноги и увидела разлезшиеся шлепки, подол юбки, такой же длинной и бесформенной, как у Фатимы.
Проходя под навесом мимо машины, наклонилась к зеркалу заднего вида. А сколько лет ей дадут незнакомые люди? Сестра вчера написала, что она прислала неудачное фото, ее состарило лет на десять. Не стала огорчать младшую сестренку, с которой не виделись несколько лет: фотография прошла обработку фильтрами, да и Нина долго себя в порядок приводила, но ни тональный крем с пудрой, ни румяна с тенями не смогли скрыть дряблую кожу, синяки под глазами и отсутствующий взгляд. На ходу собрала волосы в тощенький пучок: перед глазами пролетели черные мушки, цветные зигзаги. Присела на лавочку. Да, мама говорит, что обследоваться надо. А на что? Мужу аванс задерживают, да кто же его знает, правду он говорит или врет, работает неофициально который год. Да и то сказать, какой работодатель выдержит сотрудника, который до обеда спит?
Не будет она обследоваться. А случись что, бог детей не оставит. Нина перекрестилась и пошла на летнюю кухню. Во дворе раздался голос Сашки:
– Ма! Ты мою блузку стирала? Она на стуле?
– Да, дочь, поищи среди неглаженного, – отозвалась Нина и застыла в задумчивости перед открытым пустым холодильником.
Когда Нина выходила из курятника с парой еще теплых яиц в руке, на нее налетела Сашка. Она была в блузке, накинутой поверх пижамного топа, рассерженно сдувала свисающие на лицо пряди волос и нелепо вытягивала руки вперед.
– Вот! Смотри! Говорила же, что она маленькая, а ты – еще поносить можно! Не пойду в такой в школу!
– Сашка, неделя до конца учебного года осталась. В девятый класс новую купим, – Нина, не обращая внимания на дочь, шла к летней кухне.
– Тогда я вообще в школу не пойду! – Сашка плюхнулась на крыльцо и села, скрестив руки на груди.
– Не кричи.
Нина скрылась за захватанной тюлевой занавеской, которая служила летней дверью и защитой от мух, и появилась с кофточкой, купленной у Фатимы.
– Держи. Я пошла завтрак готовить, буди Милу, в школу пора.
Сашка подскочила, поцеловала мать и скрылась дома, радостно крича: «Мила! Вставай!»
Нина двигалась неспешно, говоря вслух и проверяя содержимое кухонного гарнитура.
– Ну вот, яйца я им сварю. Хлеба… тоже нет. И сахар вчера весь съели. А где заварка?
Женщина вышла в огород, стала срывать ростки мяты и мелиссы, думая о том, какой теперь подарок сделать дочери-студентке на день рождения на следующей неделе. Кофточка, которую она отдала Сашке, предназначалась Вике.
Счастливая Сашка и угрюмая Мила пришли завтракать, уселись за пустой стол. Перед каждой на тарелочке лежало яйцо вкрутую и стояла чашка травяного чая.
– Мила, доброе утро! – Нина дула на горячий мятный чай, сидя напротив дочерей.
Мила дулась, оттопыривая нижнюю губу Катала по столу яйцо, потом резко стукнула об стол, выпалила:
– Хочу кофту, как у Сашки!
– Я тебе куплю на новый учебный год, – спокойно начала Нина.
– Моя с пятном, вот! – продемонстрировала рукав Мила. – Я весь пятый класс в ней проходила! У тебя всегда денег нет, – заканючила Мила.
Глухо прозвучал подзатыльник, которым Сашка осадила младшую сестру. Мила еще больше оттопырила нижнюю губу и заголосила. Сашке досталось от матери сложенным полотенцем.
– Завтракайте. И шагом марш в школу! – повысила голос Нина и вышла под навес.
Возле машины копошился муж, всклокоченный и сонный. Что-то смотрел под капотом, протирал зеркало заднего вида, стучал по колесам. Он двигался лениво, не спеша, плавно переходил от машины к сараю за инструментом, снова возвращаясь. Круглый живот выпирал из старой короткой футболки, спортивные брюки измазаны в солидоле. Нина молчала. Она уже устала за это утро, поэтому не стала говорить мужу, что нужно переодеться и причесаться. Сколько было таких разговоров за двадцать лет, что они живут вместе?
Протерев грязной тряпкой лобовое стекло, Валера зычно крикнул:
– Сашка! Пропылесось в салоне, мне сегодня к шефу домой заехать надо, о стройке отчитаться.
Сашка показалась на пороге летней кухни, следом за ней выскочила Мила. Она уже не плакала, а старалась ущипнуть уворачивающуюся Сашку. Взаимные толчки и тычки сопровождались еле сдерживаемым смехом.
– Не. Мы в школу опаздываем. Пока!
И девочки прошмыгнули мимо отца.
– Вот оно, твое воспитание! Нарожала кучу девок, а ни одна помочь не хочет, только давай им всё! Считай, двадцать лет без отпуска пашу чтобы у вас всё было, а вам по фигу! – Валера начал заводиться.
Нина привыкла не спорить и не возражать, поэтому сразу переменила тему разговора:
– Ты во сколько сегодня домой?
– Не знаю. Как дела на объекте закончим. Я позвоню.
Через пять минут Нина закрывала рассохшиеся ворота, кашляя от сине-фиолетового выхлопа старенькой «Ауди». Она знала, что муж, работающий электриком на частной стройке, позвонит поздно вечером лишь для того, чтобы сказать, что останется ночевать у матери в городе. И вернется дней через пять. Муж тщательно избегал проблем, оставляя их решать Нине. Значит, ей опять нужно искать деньги, чтобы кормить семью эти дни. Надо поставить тесто и испечь хлеб. Муки в прошлую поездку на рынок закупили целый мешок, щавеля много, яиц куры снесут, можно летний борщ приготовить. Вместо чая сделает морс из смородинового варенья.
Нина, держась за поясницу, которая простреливала короткими вспышками боли после разговора с мужем, зашла в кухню, достала из холодильника закваску для теста, чтобы она согрелась, начала просеивать муку. Сито покачивалось вправо и влево, вниз сыпалась мелким не-тающим снегом мука, скрывая рисунок на клеенке, и, как в день первого снегопада, настроение Нины стало светлым, лишь в голове зароились воспоминания.
Ей всегда хотелось многодетную семью. Когда впервые она попала в дом одноклассницы Тамары, растерялась: вокруг были ее многочисленные сестренки и братишки. Они спрашивали о чем-то, когда девочки готовили домашнее задание, просили поиграть с ними, тайком от мамы приносили для гостьи угощение с кухни, а Нина благодарила и путалась в их именах. Мама Тамары была очень спокойной, ни на кого ни разу не повысила голос, запомнилось, что она пекла необыкновенно вкусные булочки, каждому уделяла время.
У Нины сбылась детская мечта: она вышла замуж, родила четырех дочерей. Старшие – студентки, младшие ходят в школу. Но нет в ее душе спокойствия, не похожа она на маму Тамары даже отдаленно. Та была полноватая энергичная женщина, а Нина за последний год высохла, как ствол старой, отплодоносившей яблони, ходит в храм залечивать душевные шрамы, но, кажется, душа чахнет вместе с телом, не отогревает ее ни молитва, ни церковное пение, ни беседы с батюшкой.
В кармане юбки задрожал телефон. Нина оттерла руки от вкусно пахнущего кислинкой теста.
Звонила старшая дочь.
– Мама, привет! Я экзамены пораньше сдам, с преподавателями договорилась, мне сессию досрочно закроют. Ты попроси папу, чтобы он мне деньги прислал как можно быстрее, а то я билеты не куплю!
– Да, Валечка, конечно, он сейчас на работу едет. Я чуть попозже с ним свяжусь, – Нина чувствовала, как у нее начинает кружиться голова, и присела на стул.
– Что нового дома? Я так соскучилась! – торопливо говорила Валя.
– Да что у нас? Ничего такого. Девочки школу заканчивают, Мила за пятый класс даже грамоту получила. Вика пойдет на практику через месяц, покупаем ей набор для парикмахера, я дома, огородом занимаюсь, курами да хозяйством.
– В храм ходишь? – в голосе Вали послышалось напряжение.
– Нечасто, Валечка. Так, на службу когда, – Нина обходила тему, которая вызывала неудовольствие дочери.
– Вот и правильно! Совсем там тебя припахали!
– Валя, у меня тесто, давай вечером созвонимся! – Нина стремилась закончить разговор.
– Мне тоже пора! Ты папе скажи, чтобы деньги сегодня выслал. Не забудешь?
– Да, конечно! Я скучаю.
– Я тоже! Целую. Пока.
Нина механически засунула телефон в карман, укрыла кастрюлю с тестом белым полотенцем и вышла во двор. Она не услышала, как сначала заворчал, а потом радостно залаял Фокс, и очнулась, увидев, что дверь ворот открывается с улицы. Во двор влетела Вика с ярко-розовыми волосами, под носом у нее болтался колокольчик.
– Мам! Я первым рейсом из города приехала! Зачет сдала, сегодня выходной!
– Привет! Проходи в дом, чего открытой дверь держишь?
– А я не одна! Со мной Кирилл!
Следом за Викой вошел высокий, худой, слегка сутулый парень. Его руки от запястий до локтей были густо испещрены разноцветными татуировками. Нина невольно поморщилась.
– Я сейчас в магазин сбегаю, потом чаем вас напою.
Вика втянула парня в дом за руку. Кирилл стукнулся головой о низкую притолоку, и Нине послышался приглушенный матерный шепот.
– Третий ухажер за второй месяц. И все как под копирку. Где она их находит? – вслух проговорила она.
Поселковый магазинчик расположился на соседней улице, но Нина шла долго. По дороге она вытащила из кармана телефон и набрала номер свекрови. Выслушала сначала новости про младшего брата мужа, про новые покупки, про больные ноги и предложенную путевку в санаторий, после чего решилась озвучить то, ради чего позвонила.
– Зинаида Петровна, а ведь Валя скоро приедет, – издалека начала Нина.
– Внученька моя! В другом городе лапочка учится, и зачем только так далеко уехала? Но скоро увидимся, – когда свекровь говорила о внуках, голос становился слишком сладким.
– Да, я тоже ее очень жду. Правда, проблема есть.
– Что такое? Заболела? – встревожилась Зинаида Петровна.
– Нет-нет, все нормально. Просто билеты покупать надо, а Валере опять зарплату вовремя не перечислили.
Нина глубоко вздохнула и рассеянно посмотрела на высокое небо с редкими проплывающими облаками. Сейчас начнется…
– А я тебе давно говорила: работать надо идти! Ну и что, что у тебя дети, огород и хозяйство? У всех они есть, все детей ростят, не ты одна! Сколько на Валерочке ездить собираешься? Ты ж вроде учительница? Вот и иди в школу!
– Я выйду осенью на работу, как огород и заготовки закончатся, – согласилась Нина.
Ей стало тяжело стоять, она прислонилась к забору ближайшего дома. Свекровь еще долго учила ее жизни, шумела, воспитывала, – Нина не разбирала слов, она пыталась вдохнуть непослушный воздух, которого стало не хватать. Наконец ей это удалось.
– Сколько, спрашиваю? Ты меня слышишь? Хотя… я сама ей билеты куплю, – успокоилась Зинаида Петровна.
– Спасибо, – тихо сказала Нина и выключила телефон.
В магазине продавщица Амина долго не хотела давать продукты в долг, показывая тетрадку, где за Ниной числилась внушительных размеров колонка записей, что она брала «под зарплату» мужа. Но, как-то странно посмотрев на Нину, все же добавила еще несколько строчек.
Оставив продукты на столе летней кухни, крикнув Вике, чтобы сама позаботилась о госте, Нина пошла в поселковую церковь.
– Служба, наверное, уже кончилась, – вслух рассуждала она. – Но я хотя бы свечи поставлю.
И Нина снова вспомнила, что денег нет даже на самую тоненькую свечку.
– Зайду помолиться, – быстрее зашагала она, но получалось все равно очень медленно.
В храме пахло ладаном, перед иконами мигали светлячки лампадок. В тишину падали неторопливые слова молитвы. Нина слышала себя со стороны, и ей казалось, что это другой человек, а не она молится: в душе ничего не отвечало, только губы шевелились. Зачем? Зачем ей все это? Эта жизнь? Огонек лампады стал набухать, расползаться, и что-то теплое и мокрое упало на руки, которые она держала замком перед собой. Потом еще и еще. Нина поняла, что она плачет: без надрыва, без сожаления, без боли.
– Нина, я мимо вашего дома еду, довезу, – окликнул в церковном дворе отец Иоанн.
Нина кивнула.
У старых деревянных ворот отец Иоанн притормозил, вышел вслед за Ниной. Зачем-то открыл заднюю дверь машины и протянул женщине два огромных пакета.
– Это вашим чадушкам. Здесь летние вещи, школьная форма, обувь, – размеры вроде бы ваших детей, я у других прихожан поинтересовался. Принесли, у кого что есть уже ненужное, но еще хорошее. Берите.
– Спасибо, батюшка, – Нина улыбнулась, взяла тяжелые пакеты.
– Нина, я вас хотел пригласить в воскресенье помочь в трапезной. И, может, на неделе время будет? Заглянете к нам, облачения посмотрите?
Нина кивнула головой:
– Конечно, зайду, батюшка. До свидания!
Нина улыбалась. Пакеты нести было совсем нетрудно.
Надо разбирать вещи.
Надо готовиться к приезду Вали.
Надо поговорить с Викой про этого Кирилла.
Надо печь хлеб, ведь тесто уже подошло.
Дарья Руслановна Буравлёва
Родилась в Саратове 14 июня 1987 года. Окончила Саратовский государственный университет по специальности педагог-психолог. Работала дизайнером в салоне штор, преподавателем рукоделия, копирайтером, сейчас основная работа – дом и сын.
Писать полюбила в школе. В одиннадцатом классе работала внештатным корреспондентом детского приложения местной газеты. Художественные тексты начала писать в 2018 г.
Есть публикации в толстых журналах: «Бельские просторы», «Дружба народов» и «Юность», а также в сборнике «Каталог проклятий» издательства «Перископ-Волга». Участвовала в нескольких мастерских АСПИР. Призер II Международной литературной премии им. А. Серафимовича в номинации «Лучший автор развлекательной прозы».
Ведет уютную группу в ВКонтакте – «Записная книжка мастеровитой белки», увлекается рукоделием и выпечкой. Танцует фламенко.
Сестра
Родственники знакомятся на похоронах. Нет, Ольга давно знала, что кроме младшей Катьки была еще и сводная сестра Ксения. Все всегда так и звали ее важно – Ксения. Но важно было другое: она была старшей. И об этом Ольга узнала на похоронах дяди Юры. Нет, Ольга знала, что Ксения родилась лет на пятнадцать раньше, в ту пору, когда у отца была другая жена, а маму он еще не встретил. Знала и хранила с детства в альбоме фото улыбающейся большеглазой девочки с косичками – сводной сестры. (Раз сестра – значит, должна быть в альбоме, значит, ее тоже нужно любить, как и остальных родственников.) И вот это вот слово «сводная», незнакомое тогда, тягучее, затмило другое. Старшая.
Ольга мечтала о старшей сестре лет с тринадцати. Чтобы она, а не Ольга, в школе помогала Катьке писать сочинения, а потом в универе решала задачи по высшей математике, дописывала Катьке диплом. Она, а не Ольга, выслушивала бы очередную историю Катькиной неудачной любви, вытаскивала ее из непонятных прокуренных квартир, помогала деньгами, когда подходила выплата нового кредита. А может, она бы этого и не делала. Неважно. Ольга бы тогда жила по-другому. Может, и ребенка, о котором так мечтает Егор, родила. Но – нет.
Старшая сестра – это опора, пример, это свобода. Свобода для младших делать что им захочется, а потом приходить за утешением и советом, за заслуженными упреками и всегда знать, что старшая поможет. Для самой старшей старшинство равнялось путам на всю жизнь. Ольга отчаянно мечтала быть средней. Средняя за младшую тоже в ответе, но не так. Она может сказать: «Я пошла!» – и быть спокойной. Старшая присмотрит. Да и родители так не опекают, как младшую.
Когда на похоронах дяди Юры какая-то родственница или знакомая спросила отца: «Это твоя старшая?», – Ольга, стоявшая рядом, машинально кивнула, а отец поспешил поправить: «Нет, средняя». Средняя!
Пока Ольга осознавала, к ней подошла одна из многочисленных теток:
– А Катька-то явится?
– Конечно! – Ольга приготовилась к обычным вопросам: как у нее там с работой, где теперь живет и т. д., и т. п.
А тетка вдруг схватила за локоть и зашептала на ухо:
– Бедовая она у вас! Говорю тебе, прокляли ее, потому и с мужиками, и с деньгами такая засада.
– Кто? – Ольга сложила руки на груди, слегка отстранилась, свела брови. Терпеть не могла таких тем, но знала – пока тетка не выговорится, остановить не получится.
– Да, мало ли завистников, она ж вон красавица какая. – И заговорила еще тише, еще быстрее: – Я так думаю, всю семью прокляли, не только Катьку, оттого у тебя и детей до сих пор нет. Я тебе бабку одну посоветую, подскажет, какой ритуал…
– Погоди, теть Маш, – Ольга высвободилась, – ну, не до того сейчас.
– Ох, да! – тетка обняла Ольгу. – Какие Юрка с отцом твоим дружные росли! Дай бог, вам с Катькой такой дружбы. Ну, беги, может, там помочь чего надо.
Катя – то, Катя – се! Не помочь ли чем-нибудь Кате? Надоело! Ольга вроде радио с новостями. Как там у Кати с новым женихом и скоро ли отдаст кредит? Как, опять уволили? Беда! Хорошо, что у Кати есть такая умная и заботливая старшая сестра и терпеливые родители! Правда, проклятые, но это поправимо. Ольга зло толкнула дверь в ванную и чуть не сшибла Ксению, которая оттуда выходила.
– Ой, извини.
– Ничего-ничего, проходи, Оль.
Ксения улыбнулась мягко, тепло. Она вся была какая-то мягкая: темно-синяя шерстяная юбка, серый мохеровый свитер, длинная коса. Не то, что угловатая Катька или сухая, подтянутая Ольга (руки вечно как наждачка, нос острый, ноги длинные, грудь не замечена). «Старшая! У меня есть старшая сестра», – прошептала Ольга, когда закрыла дверь, и сама себе не поверила.
Катька опоздала. Позвонила, когда уже гроб вынесли, попросила подождать. Пока ждали, выяснилось, что в автобусе мест нет – пришлось ехать на машине. Егор за рулем, рядом Ольга, а сзади – Катька и Ксения (ее Ольга сама позвала). Были и другие машины – поехали колонной, но из-за ухабов и непогоды строй сломался, и на очередном перекрестке Егор потерял из виду автобус.
Всю дорогу Ольга чувствовала затылком, что старшая рядом. Они виделись не в первый раз, но и не часто, а вот так втроем, почти без свидетелей, впервые. Почему-то вспомнился старый сериал «Зачарованные». Там три сестры обретали колдовскую силу после смерти то ли тетки, то ли матери и только после того, как собирались все вместе. Вот и они так: умер, правда, дядя, зато все три тут. Младшая – Катька, старшая – Ксения, а Ольга – средняя. Средняя! Это слово не выходило из головы.
Когда автобус скрылся за поворотом, а их машина застряла на светофоре, Ксения начала припоминать дорогу к участку: вроде бы у самого поля, в конце, рядом с прабабкой. Катька сияла на весь салон волосами цвета мечты Ассоли, безостановочно строчила в телефоне. Ольга сидела в пол-оборота, кивала, разглядывала сестру. Старшую.
Додумались позвонить отцу. Ксения предложила, Ольга позвонила. Пока пытались вызнать у грустного и как-то потяжелевшего за последние несколько дней отца, куда ехать, у Катьки заиграл телефон. И понеслось: с очередным бойфрендом она ругалась в голос, не стесняясь, забыв обо всем. Первым сдался Егор: после нескольких попыток разобрать, что объясняет Ольга, он остановил машину и развернулся к Кате. Та поймала взгляд, рявкнула в трубку: «Не звони мне больше!» – и уже тише: «Извините». Егор также молча (и откуда терпение у человека) развернулся, завел машину, точнее попытался – не получилось. Раз, другой – машина только злобно отфыркивалась.
– Что-то случилось? – Ксения повернулась к Кате, улыбнулась.
– Да, парень бывший… к черту… – махнула рукой.
Ольга за скрежетанием двигателя почти не слышала разговора. Да и какая разница, о чем они говорили? Главное – говорили. Вот оно: беседа старшей и младшей! А она теперь может и в стороне постоять. Сердце билось часто, Ольга почти подпрыгивала на сиденье, хотелось танцевать. Она посмотрела в окно: до горизонта лежало поле желтой травы, прибитой ночным морозом, с неба падали редкие снежинки. Красиво, если не знать, что за спиной, по ту сторону дороги, покосившиеся кресты и сверкающие полировкой мраморные глыбы. А все-таки красиво. Ольга представила, какие лица будут у сестер, если она выйдет и станцует на фоне будущего кладбища. Она подавила усмешку.
– Так, похоже приехали. – Егор виновато развел руками.
– Ничего, – Ксения нагнулась вперед, похлопала легонько Егора по плечу, – ничего, тут должно быть недалеко. Прогуляемся? – это уже сестрам.
Катя молча вышла, за ней Ксения. Ольга теперь уже не скрывала улыбки. И как она раньше не понимала: их всегда было трое.
– Лель, я машину не хочу тут бросать, – Егор вечно переживал за старенький «форд». – Сходишь без меня?
Обычно Ольга недовольно поджимала губы, когда супруг отказывался принимать участие в семейных сходках, но в этот раз облегченно вздохнула. Им надо остаться втроем: что-то должно произойти. Нет, конечно, она понимала, что жизнь не сериал и не стать им воительницами с демонами, но отчаянно хотелось перемен, а тут такой знак. Ольга верила в знаки.
Жизнь не сериал, но чем-то киношным повеяло сразу. Они оказались в старой части кладбища: то тут, то там надписи с ятями, памятники в виде маленьких часовен соседствовали с ржавыми металлическими крестами и обелисками с красной звездой. Буйная, почти сумасшедшая по силе неадекватности, радость в Ольге поутихла. Она медленно шла по мягкой земле за Ксенией. Сзади чертыхалась Катька: семисантиметровые каблуки то и дело проваливались по самую пятку. Ксения вслух вспоминала, куда идти:
– Там ива должна быть у самой дороги. От нее недалеко.
– А мы не могли по асфальту пойти? – Катька остановилась и попыталась очистить каблук.
– А ты не могла одеться нормально? – Тишина и предвкушение внутри уступили место привычному раздражению. – Волосы еще эти! Ты же на похороны приехала!
– А ты хотела, чтобы я ходила только в сером, с хвостом и в одних и тех же кроссах круглый год? – Катя выразительно посмотрела на сестру и поковыляла дальше за Ксенией.
– Здесь быстрее, – донесся до Ольги ее спокойный голос, – немного осталось. Видишь дерево? Скоро найдем автобус.
Но дерево оказалось не то. Ива тянула ветви к земле, а рядом вместо дороги была могила с внушительным надгробием.
– Так, понятно, я пошла. – Катя развернулась и уткнулась в Ольгу.
– Куда?
– В машину, Оль. Я не буду бродить по кладбищу. Уже и так как свиньи извозились!
Ольга набрала воздуха, чтобы выпалить в младшую все, что думает об этом, но увидела Ксению. Та спокойно смотрела куда-то вверх. Ольга выдохнула и молча пропустила Катьку.
Зазвонил телефон.
– Да, пап. Нет, мы заблудились, кажется. И машина сломалась. Хорошо. – Ольга положила трубку и подошла к Ксении. – Похоже, мы не успеем на погребение. Отец позвонит, когда церемония закончится. Если машина не заведется, попробуют нас найти.
– Тогда и нам нужно возвращаться, – Ксения вздохнула, но вместо того чтобы пойти за Катькой, развернулась к могиле под ивой.
Ольга подошла к старшей сестре.
– Глупо как-то получилось с дядей. Даже не простились толком. – Ольга смахнула с рукава снежинки, зябко передернула плечами.
Старшая молча глядела на могилу под ивой, не замечала, как волосы ее седеют от снега. Средняя уже решила посмотреть, что так увлекло сестру, когда та заговорила:
– Всегда мне казалось, что эти имена и снимки на надгробиях такой же тлен, как и кости. Здесь нет этих женщин, – Ксения кивнула в сторону надгробия, – лишь пустые звуки и горстка пыли. Знаешь, мне хочется оставить после себя что-то более ощутимое, чем имя, фотография и кости. И чтобы близкие хранили память обо мне в сердце, а не ездили на кладбище перед Пасхой как на работу.
Последние слова старшая договорила, глядя средней в глаза. Черты ее вдруг как-то заострились, потеряли привычную мягкость, но через секунду Ксения улыбнулась:
– Извини, кладбище всегда настраивает меня на философский лад. Пойдем?
– Да-а, иду… – Ольга растерянно обернулась к надгробию, пытаясь понять монолог сестры.
С черно-белых, бледных от времени фотографий в вечность смотрели три женщины. «Карбышевы Вера Петровна, Анастасия Петровна, Наталья Петровна. Вместе при жизни, вместе и в посмертии», – надпись на шершавом камне читалась плохо, но Ольге удалось разобрать. «Сестры, что ли? – Ольга присмотрелась к фотографиям. – Нет, точно – три сестры».
Ксению она догнала у машины. Оказалось, Егор уже нашел помощь: дедок на «ниве» согласился отбуксировать «форд» к кладбищенским воротам. Дальше их подхватил кто-то из родственников. Ольга даже не обратила внимание, кто. Всю дорогу до кафе в голове ее вертелась фраза с надгробия: «Вместе при жизни, вместе и в посмертии». И слова Ксении. А что она, Ольга, оставит после себя? Катьку? А потом и она умрет, и их вот также вместе, в одной могиле? И напишут примерно так: «Тут лежит та, что испила жизнь до дна, и та, что ей помогала». Ну уж нет!
Егор уговорил водителя довезти машину до СТО и в кафе не пошел. Ольга же, пока разносили кутью, пили не чокаясь, вспоминали дядино детство, юность и последние дни, думала о том, как мало знает о родственниках. И о том, что, будь она Пайпер, средней сестрой из того самого сериала про ведьм, послала бы к черту своих неугомонных сестричек и зажила бы спокойной отдельной жизнью. Родила бы Егору сына, о котором он так мечтает.
Егор! Вот с кем ей хотелось сейчас быть. А дядю она сохранит в сердце – точно, как Ксения говорила. Эх, хотела бы Ольга так же свободно говорить о своих убеждениях! Но рано еще – свободу нужно добывать понемногу. Для начала можно уйти с поминок раньше, чем положено племяннице.
Короткий разговор с родителями: отец раскраснелся от водки, повеселел от воспоминаний, мать держит его за руку – они справятся, а Ольге нужно к Егору. Кивок Ксении, которая села в другом конце стола: та улыбнулась, кивнула в ответ, будто соглашаясь с выбором Ольги. Виноватая улыбка Катьке, и быстро мимо, а то прицепится хвостом. И вот наконец Ольга села в автобус.
Вечером лежали с Егором в обнимку в кровати. Ольга рассказывала о Ксении и могиле трех сестер.
– Я тут подумала, что я не старшая и не средняя, я – своя собственная.
– И что ты будешь с этим делать? – Ольгу раздражала манера Егора подталкивать ее от общих рассуждений к решению. Он не давал насладиться красотой осознания, переводил силу эмоций в силу действия. Раздражала и восхищала одновременно.
– Ну…
Зазвонил телефон. Катька без предисловий выпалила в трубку:
– Всё! Забрала вещи от этого придурка. Можно я поживу у вас месяц, как в прошлый раз?
– В прошлый раз месяц растянулся на полгода. – Ольга чувствовала, как поднимается привычное раздражение. Она крепко сжала руку мужа.
– Ой, ну не начинай, Оль! В этот раз точно только месяц. Ну, пожалуйста! Ну, не к родителям же мне ехать?
Опять с отцом будем ругаться целыми днями. Старшие всегда помогают младшим! Оль, ну, чего молчишь?
– Старшая у нас Ксения. Позвони ей, если хочешь. Кать, извини, поздно уже… – Ольга положила трубку, выключила звук и теснее прижалась к Егору.
