Фрунзе. Том 4. Para bellum
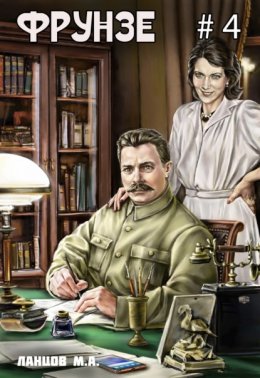
Пролог
1928, ноябрь, 3. Нью-Йорк
Раннее утро.
По улице Нью-Йорка несся на безумной скорости 1928 Cadillac Series 341-A – прекрасный полноразмерный седан белого цвета. Мощный двигатель V8 рычал. Тормоза скрипели на поворотах. И в какие-то моменты даже казалось, что этот прекрасно собранный автомобиль попросту развалится из-за перегрузки.
Но обходилось.
За ним гналась полиция.
Несколько автомобилей и мотоциклов. Куда более легких и менее инертных, из-за чего кадиллаку оторваться никак не удавалось.
Наконец беглецы не выдержали и, выбив заднее стекло, открыли огонь из пистолетов-пулеметов. Знаменитых Tommy-gun. Буквально заливая всю дорогу за собой пулями.
Но автомобиль трясло и безбожно качало во время этой безумной гонки, из-за чего пули летели куда-то «в ту степь», плюс-минус выдерживая азимут. Больше задевая витрины, стены и вывески, да редких зазевавшихся прохожих, чем цели, к которым их отправили.
Преследователи тоже открыли ответный огонь, высунувшись из окон. Они также палили из пистолетов-пулеметов, но вместе с тем пытались бить и из автоматических винтовок BAR, и из самозарядных карабинов Remington.
Их тоже сильно болтало.
Даже, наверное, больше, чем кадиллак, так как более легкие автомобили имели меньшую инерцию и регулярно скакали, словно молодые козлики, на любых неровностях.
Впрочем, несмотря на всю бестолковую природу такой стрельбы, она приносила результат. Сначала один из полицейских автомобилей резко нырнул в сторону и врезался в стену. Его водитель оказался убит пулей и, заваливаясь в сторону, увлек руль за собой.
Потом упал мотоциклист.
И легковой автомобиль полиции, не успев его объехать, слишком высоко подскочил на «железке» мотоцикла. Отчего перевернулся, завалившись на бок, да так и проехал еще какое-то время. По инерции.
Но наконец удача улыбнулась и полиции.
Сам кузов кадиллака, как оказалось, был бронирован, поэтому пули его не брали. Да еще и спинки сидений имели дополнительное прикрытие.
А вот колеса – нет.
Когда одна из пуль 45-го калибра, выпущенная из пистолет-пулемета, разорвала покрышку, автомобиль как раз входил в поворот. Довольно крутой. И покрышка это была передняя.
Что привело к катастрофе.
Cadillac резко занесло. Он налетел на довольно высокий бордюр тротуара и сумел совершить дивный кульбит – почти что «тулуп» из фигурного катания, то есть, перевернувшись вокруг своей оси, рухнул крышей к преследователям.
С грохотом.
Первыми подскочили мотоциклисты.
Заглушив моторы и прислонив к стенке ближайшего дома своих «железных коней», они бросились к автомобилю, вокруг которого растекалась лужа бензина. Открыли державшуюся на одной петле излишне тяжелую дверцу. И начали вытаскивать пассажиров.
Всех подряд.
И живых, и мертвых. Тем более что после такого удара разобрать это было сложно. Люди или не шевелились, или делали это крайне вяло.
Вытаскивали и оттаскивали в сторонку.
Потому как в любой момент могла случиться беда и проскочить где-то искра от системы зажигания. Вряд ли, конечно, ибо аккумуляторная батарея во время такого кульбита вылетела из машины и, разбившись о каменную стенку, лежала в стороне. Но они действовали по инструкции. Мало ли. Вдруг внутри электрический скат или запасные аккумуляторы?
Подъехавшие автомобили «парковались» рядом с мотоциклами. И полицейские, высыпавшие из них, присоединялись к этой аварийной возне. А один побежал искать ближайший телефон, чтобы сообщить в участок о задержании.
Когда же приехали следователи, то лишь поморщились. Джон Дэвисон Рокфеллер, которого объявили в федеральный розыск под давлением Великобритании и Франции, оказался мертв. Разбил голову о стойку во время приземления. Федеральное правительство было вынуждено уступить давлению из-за рубежа и пообещать Лондону с Парижем головы тех, кто подозревался в развязывании Мировой войны.
Кризис в США, начавшись несколько раньше оригинальной истории, стремительно развивался, приобретая куда более гротескные формы. И многие из тех, кто сумел бы на нем заработать, не вмешайся Фрунзе, теперь испытывали определенные сложности. Вплоть до летальных…
Часть 1. Прожарка: Rare
– Я тоже явился в Париж с тремя экю в кармане. И вызвал бы на дуэль всякого, кто осмелился бы мне сказать, что я не могу купить Лувр!
– У меня есть пять экю!
к/ф «Д`Артаньян и три мушкетера»
Глава 1
