Физрук 10: Назад в СССР
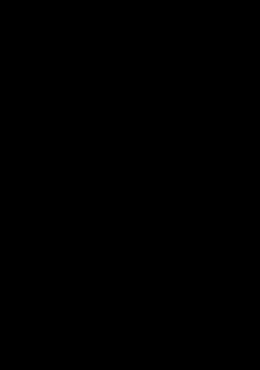
Глава 1
– Идите на мельтешение луча! – повторяет Тельма, размахивая фонариком.
– Иду! – откликается неизвестный.
Из тумана и впрямь появляется фигура мужчины, одетого по городскому, но с головы до ног заляпанного грязью и промокшего. Даже на лице у него ошметки грязи. Лишь по фигуре Философ узнает в незнакомце Каспара Лаара, которого до этого видел только в парке, да и то – в туманной мгле. Другие тоже его узнают, поэтому кидаются наперебой расспрашивать – как он здесь оказалось и что с ним стряслось? Заведующий отдела спорта в райкоме комсомола лишь отмахивается от них, пристально глядя на Философа.
– Вот у него спросите! – говорит Лаар.
Вся группа самозваных лазутчиков поворачивается к Философу.
– Его принес сюда Жнец! – громко произносит тот.
Воцаряется тишина, если не считать отдаленного гудения – словно сотни вертолетов кружатся высоко в небе.
– Какие еще Жнецы? – удивляется официант.
– Все объяснения потом, – отмахивается девушка и обращается к Лаару. – Вы сможете идти с нами или подождете возле машины?
– Я уже находился, подожду у машины, – отвечает тот.
– Слышь, мужик! – обращается к нему Михаил. – Ты там детишек не видел?
– Смотря – чьих, – хмыкает тот.
– Ты что, издеваешься?! Сыночка моего, Игорька, и дочь вон его, Илгу!
– Не видал. Ничего я там не видал. Плюхнули меня в болото вонючее, еле выбрался, – бурчит тот и удаляется в сторону пролома.
– Зря ты его к машине отправила, – говорит Философ Тельме. – Это же тот самый Лаар, фашист. Он хотел меня пристрелить на Болотном острове, но Жнец его схватил и унес. Оказывается – сюда… Я думал, ему крандец, ан нет…
– Никуда он не денется, – отвечает она. – Машина заперта, ключи у меня. Уйдет пешком, ему же хуже. А здесь он нам будет только обузой… Та-ак, товарищи, хватит вдоль заборчика красться, идем в туман!
И они углубляются в молочное месиво. Здесь фонарик помогает мало. Разве что если светить под ноги, под которыми отчетливо чавкает. Философ почти сразу набирает воды в туфли и остро сожалеет, что не надел сапоги. Остальным приходится не лучше. Мужчины молчат только потому, что девушка не жалуется. Хуже сырости то, что впереди полная неизвестность. Из тумана едва проступают стены, сложенные из бетонных блоков. Судя по ощущениям – под ногами тоже бетон, если бы не глубокие лужи в его выбоинах, передвигаться можно было бы вполне комфортно.
– Нет, я больше так не могу… – вдруг хрипит художник.
– Чего ты не можешь? – нетерпеливо спрашивает его Философ.
– Двигаться на сухую… – угрюмо отвечает тот. – Трубы горят, понимаешь?
– Не знал, что ты такой же алкаш, как…
– Тише вы! – гаркает официант. – Опять кто-то идет…
Лазутчики замирают, прислушиваясь. И верно, сквозь шорох тумана снова пробиваются звуки, которые они слышали каких-то полчаса назад, будто кто-то пробирается по болоту, чавкая в жиже увязшими ногами.
– Кто там, отзовись?! – снова спрашивает Болотников-старший.
Становится тихо, потом чавкающие звуки возобновляются.
– Стой, тебе говорят! – требует официант и вдруг выхватывает из-по полы своего плаща обрез – кроме Философа, этого никто не видит, он стоит ближе всех к ветерану. – Стрелять буду!
– Отставить стрельбу! – наконец отзывается идущий, смутно знакомым Философу голосом.
– Это что еще за командир такой выискался? – интересуется Михаил.
– Полоротов я, – откликается кто-то. – Опусти обрез!
Возле лазутчиков появляется Юркая Личность. Вот уж чего Философ точно не ожидал. Вид у Юркой Личности столь же дикий, как и у завотделом райкома комсомола по спорту. Назвавшийся Полоротовым, тоже весь в грязи, вдобавок многодневная щетина покрывает его щеки. В руке он сжимает черный пистолет марки «ТТ». Философ всматривается в него и его мучает какое-то несоответствие в облике человека – то ли каймана, то ли гэбэшника – которому он на днях сдал фашистского недобитка Пауля Соммера.
– Проверяли состояние отхожих мест, товарищ санитарный врач? – злорадно интересуется Головкин. – Что скажете о здешнем уровне санитарии?
«Он еще и санврач, – думает Философ, – а что – подходящее прикрытие как для каймана, так и для сотрудника Конторы…»
– Дерьмо… – устало отмахивается тот. – Выпить у вас не найдется?
– Нет! – скоропалительно отвечает художник, чем выдает себя с головой.
– Значит – найдется, – с презрительной усмешкой отвечает Полоротов и протягивает руку.
– Обойдешься, бацилла!
– Будь человеком, – произносит Философ. – Дай ему глотнуть… И мне, кстати, тоже…
С сердитым сопением, Головкин лезет за пазуху и достает вместительную солдатскую фляжку. Юркая Личность мгновенно выхватывает ее, открывает, почти запрокидывает над запекшимся ртом, но передумывает и наливает себе в колпачок.
– Подумать только – «Наполеон»… – сделав глоток, стонет он. – Боже, какая благодать… Трое суток ничего, кроме тухлой дождевой воды…
– Вы бредите, санврач, – позабыв об осторожности, произносит Философ. – Какие «трое суток»? Мы же с вами расстались только вчера! Или позавчера…
– Может быть, и брежу, – бормочет тот, – но стрелки моих часов успели сделать шесть полных оборотов… Ну, почти шесть… Хотя в этом проклятом тумане что день, что ночь…
«А ведь щетина у него и впрямь трехдневная! – осеняет Философа. – Что за чертовщина?..»
– И охрана вас ни разу не обнаруживала? – спрашивает он, отнимая у Полоротова фляжку.
– Какая охрана?! – удивляется санитарный врач. – Здесь же сплошное болото!
– Разве на бывших военных объектах сторожей не бывает? – удивляется художник. – Они-то куда подевались?!
– Дьявольское место… – вдруг начинает отстранено бормотать Юркая Личность. – Туман, болото, дождь кромешный, пополам с градом и вдруг огни, музыка нечеловеческая, и какой-то голос все говорит и говорит, говорит и говорит, а что говорит – не понять ни слова… Страшно, господи…
Тельма решительно шагает к Полоротову, не забыв окатить презрением Болотникова-старшего, который все еще держит в опущенной руке обрез, прикладывает ладонь ко лбу, бормочущего словно в трансе санврача.
– У него жар, – говорит она. – Надо бы его отсюда вывести…
– Как это – вывести? – вскидывается официант. – А – дети? Сынок мой, опять же дочка его…
– Какие дети? – накидывается на него Головкин, который при всем своем богатырском сложении оказывается трусоват. – Где ты видишь здесь детей?! Хочешь вот как он, трое суток по болоту шляться! Пойдемте отсюда, а! Обратно в гостиницу. А еще лучше ко мне на хутор. У меня жратвы и выпивки – хоть залейся!
– Эх ты, зятек-пропойца… – разочарованно вздыхает Михаил.
– Почему – зятек? – удивляется Философ.
– Ну-так! – хмыкает Болотников-старший. – Он же на сеструхе моей, младшей, женат… Так я не понял… Как мы уйдем? Игорька моего бросим здесь, в болоте!
– Все, пошли! – решительно произносит Тельма. – У меня ноги окоченели. Чтобы продолжить поиск, нужно экипироваться по-человечески.
Философ подходит к ней, хватает на руки, чувствует, что ноги девушки в нейлоновых чулках и впрямь как две ледышки. Она обнимает его за шею двумя руками и целует у всех на виду. Художник берет у девушки фонарик, обхватывает могучими руками за плечи санврача, который явно намыливается куда-то смыться и поворачивает его в нужном направлении. Полоротов не сопротивляется, кажется он даже рад. Хотя трудно понять, что чувствует насквозь простуженный человек.
Философу хоть и страшновато оставлять в неведомом болоте дочь, но сам себе не отдавая отчета, он с готовностью устремляется за ними. Некоторое время всей компанией они дружно шлепают по лужам и вдруг выходят к ограде, и уже дальше бредут вдоль нее, касаясь еле различимой во мгле шершавой бетонной поверхности. Как вдруг Головкин останавливается и оборачивается к остальным. Его глаза бессмысленно шарят окрест. Философ тоже начинает оглядываться и сразу понимает, что в их группе кого-то не хватает.
– Э-э, постойте… – бормочет он, – а где наш доблестный официант?
– Не знаю, отстал, наверное… – отзывается на это, бестолково вертя головой, художник. – Эй, шурин! Ты где!
На фоне немолчного гула, его голос звучит излишне резко.
– Да не ори ты!.. – шипит на него Философ. – Не отстал он… Дальше пошел, Сынишку своего искать.
– И твою дочку, – кивает Головкин. – Всегда был героем…
– Ладно, хрен с ним! – со злостью говорит Философ. – Пусть милиция ищет этого хромого дурака…
– Ба, вот так сюрприз! – раздается голос Лаара, который, оказывается, стоит возле пролома в ограде. Вид у него по-прежнему потрепанный, но он держится с привычной наглецой. – Никак уж не ожидал, санврач, тебя здесь увидеть! Да еще с приятелями.
– Привет! – хмуро отзывается, на минуту очнувшийся от бреда Полоротов. – Ты-то как здесь очутился?
– Прилетел! – хмыкает спортсмен. – Да вот только осточертела мне здешняя помойка… Тот же Болотный остров, только хуже…
– Кайман? Очень, кстати… – снова впадая в транс, бормочет санитарный врач. – А ну, веди к своим насекомым хозяевам!
– Да ты рехнулся, Полорот?! – орет Лаар.
– Не обращайте внимания, – произносит Тельма, которую Философ снова ставит на ноги. – Это у него глюки от температуры.
Полоротов вдруг отталкивает богатыря-художника и поднимает пистолет, о котором все уже успели забыть.
– Я кому сказал! – рычит он. – Ступай вперед!
– Стоп-стоп-стоп! – кричит Философ, становясь между ним и Лааром. – Да уймись ты, санврач вонючий!
– Товарищ философ, не мешайте мне исполнять служебный долг!
– Рехнулся! Какой долг? У тебя жар, тебе в больничку надо.
– Я при исполнении, – механическим голосом твердит Полоротов. – Буду стрелять!
– Да оставь ты их, Граф! – бурчит художник. – Пусть сами разбираются.
– На счет три – стреляю… – цедит санврач. – Раз, два…
Философ пытается ногой выбить у него оружие и он бы сделал это, но вмешивается девушка. Она прыгает вперед, хватает его за рукав и резко дергает вбок. Раздается выстрел. Завотделом райкома по спорту отшатывается, но не падает, а обессилено прислоняется к плечу Головкина, который столбом торчит почти на линии стрельбы, видимо, парализованный страхом.
– Ну вот и рассчитались, философ… – бормочет Лаар и падает навзничь в грязь.
Тельма наклоняется над ним, щупает пульс. Затем медленно выпрямляется. Отчаянно мотает головой на вопросительный взгляд своего любовника.
– Ликвидировать преступника – мой прямой долг! – почти с гордостью сообщает, видимо, окончательно свихнувшийся Полоротов.
Философ, ни слова не говоря, с размаху бьет его по лицу. Потом еще раз и еще. То ли кайман, то ли оперативник КГБ, как ни странно, не сопротивляется, а когда Философ, тяжело дыша, опускает руку, поворачивается и уходит во мглу – в бурлящий, но холодный туманный котел, сверху, наверняка, похожий на белесого спрута, бесчисленные щупальца которого, удлиняясь, протягиваются все дальше и дальше и не видно силы, которая могла бы их остановить.
Третьяковский умолкает, наполняет стакан вином и опустошает его до дна.
– Что, так и убил? – спросил я.
– Да, – кивнул он. – Дальше началась обычная в таких случаях детективная шелуха. Милиция, допросы, протоколы. С меня отобрали подписку о невыезде, не потому, что я попал под подозрение, а – до выяснения обстоятельств. Головкин струсил и слышать не хотел о повторной вылазке на территорию бывшего военного объекта, но у нас с Тельмой выбора не было. Детей нужно было отыскать. Едва нас с ней отпустили из отделения, мы тут же кинулись в гостиницу, где переоделись в сухое, а главное – надели резиновые сапоги, выпили, захватили спиртное и еду с собой и вернулись к месту событий. Уже давно рассвело, но в этом заколдованном месте словно выключили день. Часа три блуждали мы с Тельмой в вонючем болоте, в которое превратилась территория некогда оборонного предприятия, пока не вышли к гигантской котловине, больше всего похожей на древнегреческий театр или Колизей, вот только на каменных сиденьях для зрителей здесь могли бы сидеть великаны… Впрочем, здесь надо поподробнее…
Весь это «театр» словно накрыт хрустальным куполом, сплетенным из мириад стеклянных нитей, каждая толщиной в руку. Нити прикреплены к бетонным кольцам, которые образуют этот странный амфитеатр, причудливо переплетаясь друг с другом. Философ мучительно пытается вспомнить, где он видел такие и вдруг память услужливо подсовывает ему картинку из детства. Зима. Рождественская елка. Оконные стекла заросли инеем. Маленький Графуша достает из кармашка матросского костюмчика заветный пятак. Прислоняет его к горячим изразцам «голландки» и держит так, покуда терпят пальцы, а когда медный кругляш становится невыносимо горячим, бросается к окошку и прижимает монету к холодному стеклу. И морозные узоры с той стороны стекла начинают подтаивать.
Философ встряхивает головой, чтобы избавиться от наваждения. На самом деле ничего общего с морозными узорами у этой паутины нет, потому что она не застилает плоскую поверхность, а образует объемную фигуру – половинку параболоида. Впечатление праздника, которое создают эти узоры, сияя алмазными переливами, ложное. Точнее – лживое. Философ поднимает алюминиевую штангу, подобранную им еще у ограды и использованную для прощупывания дна на заболоченном участке, и стучит ею по одной из нитей. Подсознательно он ждет, что нить – вернее – толстенный жгут – отзовется хрустальным звоном, но раздается лишь смачное пошлепывание, словно штанга соприкасается с резиновым тросом.
Тельма тем временем осматривает купол сверху донизу и Философ поневоле следит за ее взглядом. На самом верху вся эта хитросплетенная конструкция источается, оставляя довольно вместительную дыру и над ней-то и раздается зловещее гудение и мерцает свет. Однако внимание девушки привлекает отнюдь не отверстие, а что-то, что располагается ниже. Она толкает своего спутника в плечо и показывает лучом фонарика на ряды утолщений, гроздьями свисающих с пологих стенок купола примерно на высоте двух десятков метров, если считать от самой нижней точки – то есть – арены амфитеатра.
Вглядевшись, Философ замечает, что эти, сотканные из паутины мешки, полупрозрачны, а внутри них просматриваются какие-то смутные силуэты. Нехорошее предчувствие сжимает сердце человека прожившего так долго и повидавшего столько, что хватило бы на полное собрание сочинений. Он отбирает у Тельмы фонарик и начинает карабкаться вверх по гигантской нижней ступени. Это не так-то легко сделать, потому что между ярусами нет никакого прохода. Для того, чтобы подняться, нужно вытянуться во весь рост, ухватиться пальцами за край ступени и, скребя мысками сапог по бетону, подтянуться хотя бы настолько, чтобы зацепиться локтями и втянуть свое не слишком легкое тело на следующий ярус. Философ понимает, что проще махнуть рукой на эти утолщения, которые напоминают мужские тестикулы, но он себе никогда не простит, если не рассмотрит, что там в них такое просвечивает?
– Помоги мне! – кричит снизу девушка, когда он втягивает себя на первую ступень.
Философ вынужден лечь на сырой бетон, вытянуть руку, ухватить Тельму за холодные скользкие пальцы и вытащить ее наверх. Когда она оказывается рядом, он решает, что проще будет подсаживать спутницу, чем каждый раз тащить ее за руку. До нижнего ряда «тестикул» остается еще три уровня. Когда девушка оказывается наверху, она изо всех сил пытается помочь мужчине вскарабкаться следом. Философу хотя и стыдно, но он испытывает облегчение от того, что Тельма пусть чуть-чуть, но берет часть нагрузки на себя. Так подсаживая и подтягивая друг дружку, они, наконец, оказываются под теми самыми утолщениями, к которым так стремились. Переведя дух, девушка снова включает фонарик и озаряет ближайший мешок.
– Не-ет! – раздается ее истошный вопль. – Не верю-ю!
Глава 2
Тельма начинает биться в истерике. Философ хватает, ее прижимает к себе, а сам всматривается в полупрозрачную оболочку ближайшего кокона. Теперь он видит, что «тестикулы» – это коконы с личинками инсектоморфов. Однако испуг девушки вызван не этим. А тем, что в них явно просматриваются человеческие силуэты. Точнее – младенческие. Мужчине они тоже мерещатся, но он быстро берет себя в руки, заставляя все пристальнее вглядываться в застывшие «лица» и скрюченные конечности. Он ведь знает, как легко люди-осы умеют обманывать зрение.
– Нет, – говорит он Тельме. – Ты ошибаешься! Это не люди. Всего лишь – личинки инсектоморфов. Они даже больше похожи человеческих детенышей, чем взрослые особи на взрослых людей.
– Зачем им это надо? – успокаиваясь, бормочет девушка.
– Многие тысячи лет они живут в тени нашей расы, им как-то нужно выживать. Мимикрия – далеко не самый худший способ.
– А дети? Детей-то они зачем похитили?
– Вряд ли это похищение. Скорее – познавательная экскурсия.
– Как ты можешь рассуждать об этом?! Да еще так спокойно! Там же твоя дочь!
– Успокойся, тебе говорят! – рявкает Философ. – Сама посуди! Если бы здесь было опасно, кто бы нас с тобой подпустил к этому гнездовью? Слышь, как гудит? Это над нами кружат Жнецы. Не доверяй люди-осы нам, нас бы уже в клочья порвали.
– Все равно – давай уйдем отсюда! – требует Тельма. – Детей только заберем и уйдем.
– Меня устраивает эта программа, – бурчит ее спутник. – И чем скорее мы доберемся до выпивки, тем лучше.
И они начинают спускаться, только в обратном порядке. Теперь Философ спрыгивает со ступени и только потом принимает легкое тело своей спутницы. Оказавшись на арене они бегом бросаются к узкому штреку, через который попали в этот странный амфитеатр. Однако не успевают мужчина и женщина сделать и двух десятков шагов, как путь им преграждает инсектоморф. Отверстие выхода, по сравнению с остальным тоннелем, кажется чуть более светлым и на его фоне отчетливо проступает изогнутое тулово человека-осы.
– Мы пришли только за детьми, – говорит, обращаясь к нему Философ. – Мы не тронули вашу кладку!
Инсектоморф молчит. Точнее – он издает какие-то звуки, но люди их не понимают. Звуки становятся все громче. И хотя в кромешной тьме этого не видно, ясно, что человек-оса приближается. Философ заслоняет собой девушку и они начинают пятиться обратно к амфитеатру. Вдруг где-то позади инсектоморфа раздается выстрел. Вспышка на мгновение озаряет жерло тоннеля. Они видят как Жнеца буквально разрывает напополам. Лицо Философа обдает чем-то липким и он отчаянно матерится.
– Это ты, Граф? – слышится голос Болотникова-старшего.
– Это мы, с Тельмой! – откликается Философ, вытирая физиономию носовым платком и отшвыривая его. – Зачем стрелял?
– Пришлось раздавить жучка, – бурчит официант. – Я вас ищу. Игорек сказал, что вы сюда пошли. Я сунулся, а тут эта пчелка…
– Игорек? – переспрашивает Философ. – Значит, ты нашел сына!..
– И дочку твою – тоже, – бормочет Михаил. – Не боись, с ними все в порядке… Это я страху натерпелся, покуда шастал здесь.
– Зачем же ты тогда пристрелил инсектоморфа?
– Я ведь официант! Ты забыл? С тараканами и мухами у меня всегда разговор короткий… Топайте за мною! Я нашел, как выйти наружу, не залезая в болото по уши.
Перебравшись через хрустящие останки человека-осы, Философ и Тельма бегут за Болотниковым-старшим. Сразу за штреком, тот сворачивает к громадному корпусу, в широко открытых воротах которого их встречают две детские фигурки. Философ бросается к ним.
– Илга! Игорь! Как вы?!
– Папа! – откликается девочка. – Здесь так интересно! Мы видели ароморфоз на всех стадиях, представляешь?
– Не представляю, – бурчит тот.
– Прямо у нас на глазах вылупились из коконов новые Жнецы! – подхватывает мальчик-молния. – Жала у них будь здоров! Таким они могут слона, наверное, проткнуть!
– Главное, что их пуля берет, – бормочет официант, украдкой пряча за пазуху обрез.
– Ты это о ком, папа? – строго спрашивает Игорь.
– Не обращай внимания! – отмахивается Михаил.
– Черт! – орет вдруг Философ. – Голубев!
– Что – Голубев? – переспрашивает девушка.
– Где врач?!
– А в самом деле?.. – бормочет Тельма. – Когда Полоротов застрелили Лаара, Голубева с нами уже не было.
– И никто из нас не обратил на это внимания, – говорит Философ. – Что за чертовщина здесь вообще творится!
– Ну вы даете, товарищи, – качает головой Болотников-младший. – Одного убили, другого потеряли.
– Кто бы говорил… – бурчит Философ. – Сам смылся и никому ничего не сказал.
– Детишек я пошел искать, и нашел, как видишь, – бурчит тот. – Дочку твою, между прочим…
– Все! Пошли отсюда! – говорит Тельма. – Что-то мне не нравится этот гул…
– Это – Рой гудит, – сообщил всезнайка Болотников-младший. – Они голодные и очень злые.
– Какой еще – Рой? – с подозрением уточняет Философ. – Ты имеешь в виду – Мастеров, Пастырей или Жнецов?
– Не совсем. Рой – это результат неудачных мутаций потомства. Мутантные особи не могут стать ни Мастерами, ни Пастырями, ни Жнецами. Это генетический брак. Они только и делают, что летают, жужжат и мерцают крылышками. И так – до самой выбраковки.
– Что такое – выбраковка? – спрашивает девушка.
– Это когда – чик-чик, – ухмыляясь сообщает Михаил.
– Какой ужас!
– А почему они голодные? – уточняет Философ.
– А зачем их кормить?
– Ладно, хватит вам лясы точить, – бурчит официант. – Пошли скорее!
И он, широко и твердо шагая, несмотря на протез, идет вдоль корпуса. Остальные следуют за ним. Вскоре они и впрямь оказываются возле пролома в ограде. К счастью, машина на месте. Тельма заводит движок. Даже внутри салона кажется, что гудение Роя становится сильнее. Философ крутит рукоятку, опуская боковое стекло. Выглядывает наружу. Ему чудится, что еле мерцающее в рассветных лучах облако над заброшенным предприятием, начинает вытягиваться в сторону города.
– Жми, Тельма! – бормочет он.
«Победа» трогается с места. Подпрыгивая на ухабах, она мчится со всей возможной на старой разбитой дороге скоростью. А когда выезжает на шоссе, и вовсе летит на пределе шкалы спидометра. Тем не менее гудение Роя тише не становится. Философ снова высовывается в окошко. И на фоне затянутого тучами неба явственно различает мерцающую полосу, напоминающую Млечный путь. Теперь сомнений у Философа нет – Рой движется к городу. Голодный Рой. Мириады инсектоморфов, не пригодных ни к чему, кроме выбраковки.
– Мне никого не хочется пугать, – говорит Философ, поднимая стекло, – но, кажется, Рой летит к городу.
– Этого не может быть! – уверенно произносит мальчик-молния. – Они не могут покидать Гнездовье! Жнецы подавляют их своим мощным биополем… Если только…
– Что – только? – настораживается Философ.
– Если только все Жнецы живы…
Философ резко оборачивается к Болотникову-старшему, который сидит с детьми на заднем сиденье.
– Сколько? – спрашивает он.
– Ты о чем? – удивляется тот.
– Сколько ты пристрелил?
– Они бы вас, с Тельмой, сожрали! – оправдывается Михаил.
– Так сколько?!
– Пять или шесть… Не считал.
– Папа, дядя Граф, вы о чем? – беспокоится пацаненок.
– А эти, для выбраковки предназначенные, они чем питаются? – вместо ответа, спрашивает у него Философ.
– Обычно – ничем. Они не доживают до кормления.
– А если бы – дожили?
– Им все равно, что жрать – любая органика. Мозга нет, зато есть – желудок и жвалы, которые могут разгрызть даже древесину. Кроме того, они выделяют фермент, который размягчает твердые структуры.
– Ясно… – кивает Философ. – Тельма, высади нас с Михаилом на окраине города, а сама – в объезд, к себе вези ребят.
– Поняла, – отвечает девушка. – Я вас у поста ГАИ высажу. Попроси ребят связать тебя с УКГБ, а когда ответит дежурный, скажи ему: «Сообщение для полковника Парвуса. Код ноль три один. Передала Ильвес».
– Сообщение для полковника Парвуса. Код ноль три один. Передала Ильвес, – повторяет Философ.
– Верно.
Тельма притормаживает у поста ГАИ. Философ и официант выбираются из салона и «Победа» снова срывается с места.
– В чем дело, граждане? – спрашивает постовой, мазнув рукой в белой краге по лакированному козырьку каски.
– Смотри, сержант, – говорит Философ, показывая в небо. – Видишь это светящуюся полосу?
– Ну, вижу, – откликается тот.
– Гул слышишь?
– Слышу!.. Вы что – выпимши, гражданин?
– На город надвигается смерть, сержант! Срочно свяжи меня с дежурным о УКГБ! Заодно и своему дежурному по городу передай. Пусть личный состав по тревоге поднимает.
– За такие шутки я имею полное право задержать вас вплоть до выяснения…
– Вася, верь ему, – вмешивается Болотников-старший. – Он знает, что говорит.
– Как скажете, дядя Миша! – ворчит тот и кричит напарнику, который выглядывает из будки. – Рашидов, щас мужик к тебе поднимется, набери ему дежурного по КГБ. И в нашу дежурку звякни!
– Спасибо, сержант! – говорит Философ.
– Паси, да пораньше пригоняй… – бурчит тот. – А если мне за это по шапке дадут?
– Если эти твари город накроют, шапку носить не на чем будет, – бурчит Философ и по ступенькам сбегает наверх.
Гаишник протягивает ему трубку.
– Дежурный по Управлению Комитета Государственной Безопасности, – слышит Философ в трубке, и повторяет слово в слово, сказанное Тельмой.
Не успевает он вернуть трубку Рашидову, как внизу раздается крик, несколько очередей и одиночных выстрелов.
– Билять, – цедит гаишник и выдергивает из кобуры штатный «Макаров».
Оттолкнув гражданского, милиционер кидается к двери будки, как вдруг ее проем перегораживает образина, ничего общего не имеющая с тем интеллигентным инсектоморфом, с которым Философу до сих приходилось иметь дело. Громадная голова снабжена чудовищного вида жвалами, которые раздвигаются и вдруг выпускают мерцающую струю едкой жидкости. Философ бросается на пол. Раздается один единственный выстрел. Слышится отчаянный, тут же захлебнувшийся крик.
Философ выжидает какое-то время, затем встает. Стол, аппаратура связи – все вокруг дымится, источая тошнотворную вонь. Инсектоморфа в проеме нет, а Рашидов валяется на полу, скорчившись от невыносимой боли. Кожа и часть мускулатуры на руках и половине лица у него отсутствуют, даже обнаженные кости черепа выглядят пористыми. Понимая, что ничем помочь милиционеру он не может, Философ подбирает оброненный тем пистолет, колеблется несколько мгновений и нажатием на спусковой крючок прекращает адские мучения несчастного. Затем – выглядывает из будки. Снаружи все тихо. Тела сержанта Василия и официанта Михаила неподвижными темными мешками валяются возле гаишного мотоцикла, а неподалеку – трупы инсектоморфов.
Сержант и ветеран успели уложить их около десятка и еще одного пристрелил Рашидов. Бой шел явно не на равных. Рой просто опустился на мгновение на пост ГАИ и взмыл в поднебесье, оставив лишь жалкую горстку своих сородичей и убив троих вооруженных людей. Если такое случилось с привычными к острым ситуациям мужиками, что же сейчас творится в городе? Философ медленно спускается по ступеням. Осматривает мотоцикл. Видит ключ в замке зажигания. Через минуту он уже катит на милицейском «Урале» в сторону города. Гула не слыхать – Рой уже над городом, откуда доносится вой сирен гражданской обороны.
– Понимаешь, – сам прерывает свое размеренное повествование Третьяковский. – Ведь это со мной уже было… В сорок первом… Такой же вот городок в Прибалтике. Рев сирен и наше позорное и горькое отступление, о котором не хочется вспоминать. Только тогда за городом ухали орудия немецкой осадной артиллерии. Горели окрестные хутора и зарево пожаров озаряло улицы, по которым катилась толпа беженцев. На площадях рвались снаряды, осколки выкашивали в толпе кровавые просеки. Рушились опустевшие дома, окна которых с заклеенными крест-накрест стеклами, только что отражали пламя. Дышать было невозможно из-за всепроникающего дыма и пепла. На крыльце бывшей городской ратуши, а ныне – горисполкома, валялся труп полковника – начальника штаба, оборонявшей городок, стрелковой дивизии. Его не осколки убили, он застрелился сам. Наверное, потому, что не выполнил приказ командования фронта не пустить врага в вверенный ему населенный пункт. Никто из солдат и командиров отступающих батальонов и пальцем не пошевельнул, чтобы убрать тело. И жутко, словно марсианские треножники перед гибелью, выли сирены противовоздушной обороны…
Я слушал Графа и кивал. Ведь и я – вернее – Владимир Юрьевич – пережил подобное. Только городок был не прибалтийский, а кавказский. И у боевиков не было полноценной артиллерии, только минометы, но осколки от мин убивают ничуть не меньше, чем осколки от тяжелых гаубиц.
– Философ въезжает в город, – продолжает Третьяковский. – Конечно, здесь ничего не взрывается и не рушится, но на улицах царит ад. Повсюду трупы застигнутых врасплох горожан – изъеденные едким ферментом, который выплескивают смертоносные инсектоморфы. Философ вынужден беречь патроны, поэтому проходит мимо отвратительных сцен, когда крылатые чудовища пожирают мертвых людей, собак и даже кошек. Впрочем – следы сопротивления тоже видны.
Несколько насекомых раздавлены автомобилями, некоторые сгорели, от соприкосновения с контактной сетью троллейбусов. К счастью, погибших людей не так уж и много. Похоже, большинство успело спрятаться. Философ пробивается к гостинице. Ему приходится выстрелить всего три раза – один раз, чтобы защитить собственную жизнь, и дважды, чтобы спасти старушку и старика, видимо, выбравшихся из дому, дабы занять очередь в ближайшем молочном магазине.
К счастью для них очередь эту они занять не успели. Философу пришлось увидеть, что осталось от тех горожан, которые встали раньше. В том числе и с теми, которые оказались в той самой очереди. Ближе к центру города сопротивление нашествию голодного Роя принимает более организованный характер. Философ издалека слышит треск автоматных очередей, рев автомобильных и мотоциклетных моторов. А еще над городом проносятся вертолеты. Теперь выстрелы раздаются и в небе. Трассирующие пули разрывают хрупкие тела насекомых-людоедов и останки их сухим дождем сыпятся на крыши и мостовые.
Философ натыкается на передовую линию обороны города. Его пропускают за периметр и совершенно измученный он бредет к гостинице. Внезапно из уличных громкоговорителей раздается хриплый голос: «ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА! ГОВОРИТ ШТАБ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ! В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СИЛАМИ ВОЕННОГО ГАРНИЗОНА, ГОРОДСКОЙ КОМЕНДАТУРЫ, МИЛИЦИИ, КГБ И САНЭПИДЕМСТАНЦИИ ИДЕТ ОЧИСТКА УЛИЦ ОТ ВРЕДОНОСНЫХ НАСЕКОМЫХ. НАСТОЯТЕЛЬНО ТРЕБУЕМ НЕ ПОКИДАТЬ СВОИХ КВАРТИР, НЕ ОТКРЫВАТЬ ДВЕРЕЙ И ОКОН. НАРУШИТЕЛИ ЭТОГО ТРЕБОВАНИЯ ПОДВЕРГНУТ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ. ВНИМАНИЕ…»
Дверь гостиницы охраняет швейцар с дробовиком. Он узнает Философа и пропускает его внутрь. К своему сожалению постоялец видит, что ресторан закрыт, а стеклянные его двери забаррикадированы. Лифт тоже не работает. Он поднимается на третий этаж, нащупывает в кармане ключ от своего номера. Вваливается. С трудом сдирает сапоги, плащ, штаны и все остальное. Залезает под душ. Долго смывает пот и грязь. Потом голый бродит по номеру, ищет чтобы ему выпить. Наконец, обнаруживает початую бутылку водки. Выпивает содержимое досуха и отрубается…
– Все, что я тебе рассказывал до этого – чистая правда, – сказал Граф, выливая себе в стакан остаток вина. За это я ручаюсь… Что касается дальнейшего – хочешь верь, хочешь нет.
– Почему? – спросил я. – Сейчас ты начнешь привирать или сам не уверен, что дальнейшее тебе не примерещилось?
– Скорее – второе, – кивнул лжеклассик. – Тем не менее, даже если все, что будет дальше, мне, как ты говоришь – примерещилось, это не означает, что это – неправда.
– Как-то витиевато, ты не находишь?
– Отнюдь! Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок!
– Ладно, давай, намекай.
Глава 3
Философ просыпается в своей постели, в гостинице. В номере темно. В окна с дробным треском хлещет дождь.
«Боже, как хочется пить… – думает он. – Позвать Тельму? Нет, Тельма, наверное, сейчас в санатории, а здесь гостиница, и Тельмы здесь быть не должно… С кем это я вчера так нализался? Ах да, с Голубевым… Мы с ним высосали целую бутылку. А потом? Потом я завалился спать… А до этого?.. Куда-то я ехал в «Победе»? Или это было во сне? Черт, руки чешутся…»
В рассеянном свете уличного фонаря, проникающем в окна, Философ смотрит на покрытые волдырями руки. Потом начинает их яростно расчесывать.
«Поразвели клопов, да еще крылатых… – думает Философ. – Что-то Голубев рассказывал интересное, он решил, что я пьян и не врубаюсь, и можно поэтому говорить со мной откровенно. Впрочем, я действительно был пьян, но врубался… Нет… Это не Голубев рассказывал, а – человек-оса… Они первыми вышли на сушу и потому стартовали раньше нас… И отныне рядом с нами обитает другая мыслящая раса… А что же, вполне возможно… Когда-нибудь должно было так случиться. Они уже давно нас опередили в развитии и сейчас решили инициировать новый виток человеческой эволюции… Зачем вот только?.. Ладно, вопрос – зачем – самый глупый из вопросов. Просто внутри нашего вида зарождается новый вид, который лишен наших предрассудков. Ведь мы от всего непонятного шарахаемся, как от заразы. Хотя, что тут не понять?.. Старый вид годится только для того, чтобы жрать, гадить и совокупляться, а чем будет заниматься новый вид?.. Разводить цветы, сочинять симфонии и вычислять кривизну пространства Вселенной?.. Ну так и старый этим занимается с переменным успехом, между жратвой, опорожнением и совокуплением…»
Философа мучит сушняк. Он кряхтя поднимается, проходит в ванную, откручивает кран и приникает запекшимся ртом к сильной струе холодной воды. Потом возвращается на кровать и некоторое время с наслаждением чешется.
«Так вот что Голубев… Нет, чертов инсектоморф, хотел сказать, когда намекал на то, что Жнецы не имеют права наказывать наших преступников! Дело не в этике. Их не интересует старый гомо сапиенс как таковой… Тогда что же это выходит? Тогда выходит, что Илга, Игорек и другие детишки в школе, уже не люди? Человек-оса мне просто баки забивал. Значит, началось… Пойду к Голубеву, нечего ему от меня прятаться… Его насекомьи пациенты, наверное, многое ему рассказали… Черт подери, это же будущее, то самое будущее, ради которого человечество само себя убивало в бесчисленных войнах! У нас впереди – только эти детишки и больше ничего…»
Понимая, что вот-вот снова провалиться в пучину похмельного сна, Философ сползает с койки, зажигает свет и, морщась от рези в глазах, собирает с полу разбросанную одежду. Бурчит:
– Ну, почему все такое мокрое?! Я что, в одном костюме под дождем шлялся? Или…
Философ бросается в прихожую, поднимает плащ, с которого на пол натекла изрядная лужа. Роется в карманах, наконец, извлекает на свет пистолет Макарова.
– Не приснилось, значит… – бормочет он. – И санаторий и порхающий инсектоморф и бывший военный объект и яйца гигантских насекомых и нашествие подлежащих выбраковке голодных чудовищ – все на самом деле было?
Он возвращается в комнату и начинает раскладывать на радиаторе центрального отопления свои мокрые шмотки. Взгляд его останавливается на руке, которая до локтя покрыта красной сыпью и белыми бугорками. Бугорки кровоточат от расчесов. На другой руке – тоже самое.
– Что за черт? – бурчит Философ. – Изменения кожи, сыпь, волдыри, иногда – гнойные язвы. Не подхватил ли я птичью болезнь? Но – от кого?.. Кроме Тельмы у меня никого в последнее время не было…
Он открывает дверцу шкафа с зеркалом в полный рост на внутренней стороне и долго рассматривает свое, покрытое сыпью, тело.
– Ну вот, теперь мне точно понадобится врач. И вовсе не для бесед об эволюции… Как это там называется?.. Спринцевание и половое воздержание… Вот как я теперь буду жить и о чем думать… Это все чертов инсектоморф. Я его носил на руках, он меня и заразил… И не птичьей болезнью, а – насекомьей… А может, я теперь тоже стал сверхчеловеком?.. Стоп-стоп-стоп… Насекомые вынуждены заниматься выбраковкой… С каждым периодом размножения количество нежелательных мутаций только возрастает… Уже сейчас Жнецам все труднее контролировать Рой… Гибель нескольких из них, привела сегодня к нашествию на этот маленький городок – неизвестно еще сколько погибло, а сколько – зверски покалечено… А что произойдет, если мутации зайдут так далеко, что Жнецы и вовсе перестанут рождаться?.. И тогда Рои насекомых-людоедов начнут захлестывать города и веси… Да, телесно они хрупки, но прожорливы и безжалостны. Причем – не только к другим видам живых существ, но и к собственным сородичам. В первую очередь эти уродцы уничтожат Мастеров и Пастырей. Так вот почему мой насекомий собеседник и ему подобные так жаждут передать свои знания нашим детишкам! Им нужные духовные наследники их вымирающей расы! Сохранить, если не себя, то хотя бы – свои знания и свой образ мышления. Странно… Я-то откуда это знаю?.. Неужто-то знание проступает вместе с этими волдырями на коже?.. Боже, как чешется-то…
С наслаждением расчесывая волдыри, Философ торчит перед зеркалом, в котором проступает отражение города. Он видит залитые водой и лимфой уничтоженных насекомых улицы, мокрые черепичные крыши, покосившиеся антенны. Город проваливается в туман, словно в болото, а вслед за городом тонет и республика, становясь похожей на влажное пятно на полномасштабной карте Евразии, которая вскоре превращается в почти неразличимую кляксу на темном полушарии Земли. Стремительно поднимается над выгнутым горизонтом малиновое Солнце, его лучи сдергивают покров ночи. Философу становится жарко, но он только смеется, любуясь, как земной шар наливается светом, превращаясь в теплый туманный клубок, который, волоча за собой голубой хвост атмосферы, уносится в вытканное звездами пространство. И вот уже висит в черной межгалактической бездне чечевица Млечного пути, вблизи больше похожая на круглую, раздерганную на отдельные клочья пуха подушку… Философ протягивает к Галактике руку, погружает ее в горячее белое ядро, сжимает пальцы в кулак и темная материя скользит между ними, вынося звезды, будто мыльную пену. Философ смеется, щелкает свое отражение по носу.
– По такому поводу необходимо срочно обязательно выпить! – говорит он.
Берет со стола почти пустую бутылку и встряхивает.
– Как же это я не смог допить… – удивляется он сам себе.
Залпом выпивает остатки спиртного, и, отшвырнув бутылку, опрометью бросается в туалет. Через некоторое время, Философ вновь появляется в комнате, бледный, слегка обрюзгший, с неестественно вытаращенными и неестественно красными глазами.
«Ну вот и все, старый ты болтун, – думает Философ, – ну вот и все… Не пить тебе больше горькую, не читать лекций, не строчить статейки в молодежных журналах…»
Философ садится на кровать, берет с тумбочки сигаретную пачку, вытряхивает одну, сует ее в зубы и тут же с отвращением выплевывает на ковер.
«И не курить – тоже… За все надо платить, ничего не получают даром, и чем больше ты получил, тем больше нужно платить, за новую жизнь надо платить старой жизнью…»
Он яростно расчесывает руки, не замечая этого. Затем ему становится холодно и он забирается под одеяло. Вдруг отворяется дверь номера и в него бесшумно проскальзывает Тельма.
– Замерзла до чертиков! – говорит она. – Пускают погреться?
– Да, конечно… – рассеянно бормочет Философ.
Она выключает свет и начинает раздеваться. Слышен треск расстегиваемых кнопок и визг молний, шорох одежды, стук сброшенных на пол туфель. Раздевшись, девушка ныряет под одеяло, и начинает нащупывать рукой голое тело Философа.
– Сейчас, сейчас… – с легким раздражением бормочет тот.
«Всему конец… – думает он. – Теперь только туман, заброшенные заводы, дырявые, как решето, плотины, насекомые твари, которые лишь притворяются людьми, а рядом с ними такие же бедолаги, как и я. Мы будем вести высокоумные беседы и учить гениальных детишек, а по ночам – ни любви, ни водки, а только – тоска, одиночество, ужас…»
– Что это с тобой, парень? – удивленно спрашивает Тельма. – Перебрал?
Она садится на постели и прижимается к Философу. Тот машинально обнимает ее, но тут же отстраняется, вскакивает и зажигает свет.
– Рехнулся? – кричит девушка. – Глаза режет!
Философ, разглядывая ее, бурчит:
– Потерпи минутку… Что-то здесь не так!
– Ну, что тебе – не так? – капризно интересуется Тельма, сдергивая с себя одеяло. – Голой девки не видел! Иди ко мне!
«И в самом деле, чего мне надо? – думает он. – Такая деваха… Ну может слегка бледненькая… В Эстонии не загоришь толком… Только вот ничего сексуального в ней нет… Кукла, манекен, копия…»
Философ с ужасом начинает пятится.
– Да, что с тобой?! – испуганно спрашивает девушка. – Белены объелся!
– Потерпи малость, я сейчас… – с ненавистью кричит он.
«Она не замечает сыпи по всему моему телу, – думает он. – И дети… Она ничего не говорит об Илге и Игорьке, потому что ничего не знает о них… И о том, что творится в городе – ни слова!.. Это кто угодно, только – не Тельма Ильвес, дочь полковник контрразведки «СМЕРШ…»
Стараясь не смотреть в сторону «подруги», Философ поспешно одевается и спускается в ресторан, который уже открыт. Он застает Головкина на его обычном месте. Художник сидит, закинув руку за спинку кресла, и рассматривает на просвет рюмку с коньяком. Тут же находится и баснописец Корабельников. Он почему-то с ненавистью смотрит на приближающегося Философа.
– Насекомий прихвостень, – бурчит спившийся герой.
Философ садится рядом с Головкиным и тот молча наливает ему коньяку.
– Что в городе? – спрашивает Философ.
– И не спрашивай! – отмахивается художник. – По слухам – не менее тысячи растворенных заживо… Солдаты из ВВ добивают последних тварей… Звено «Ми-8» ушло к бывшему военному заводу, выжигать гнездо…
– Ты знаешь, что твой шурин погиб?
– Знаю. Их уже нашли… Вот, поминаем с Ромкой…
– Светлая ему память, – говорит Философ, поднимая рюмку. – Настоящий мужик был.
Художник и баснописец пьют, не чокаясь, а вот Философ все еще баюкает рюмку в руке. В зал входит врач. Садится за стол. Головкин наливает и ему. Голубев сочувственно хлопает его по руке и тоже выпивает. Философ показывает ему тыльную сторону кисти.
– Кажется, я чем-то заразился!
– Спринцевание! – громко требует поэт. – Я первый!
– Выпейте коньячку, Граф, – советует врач. – Нет поводов для волнения.
– Иди ты к черту! – отмахивается от него Философ. – Это все твои насекомые, Эрни! Что делать?
– Не ори ты так… – оглядываясь, шипит Голубев. – Лучше – выпей и все пройдет. Официант, будьте любезны, еще коньяку!
– Какой коньяк, эскулап ты хренов! – огрызается Философ. – У меня девка в номере! Она не та, за кого себя выдает!
– Конечно, нужно взять образцы на анализ, – с трудом сохраняя серьезность, отвечает врач, – но, судя по симптомам, на венерическое заболевание не похоже. Скорее уж – аллергия!
– Сроду у меня не было никакой аллергии, – бурчит Философ. – Ты меня не так понял. Девка тут не причем. Это же не просто девка, это Тельма Ильвес, но это не Тельма Ильвес, клянусь!
Голубев смотрит на него, как психиатр на умалишенного, участливо и одновременно – пристально, а потом все-таки берет собеседника за кончики пальцев и рассматривает расчесанную бугристую кожу.
«Ну вот, напросился на свою голову, – думает Философ, – первичный осмотр, потом – анализы, потом – консилиум. Фальшивая бодрость докторов и успокоительное вранье, что все это лишь легкое недомогание…»
– Ну не знаю… – пожимает плечами врач. – Насекомые переносят пыльцу, так что у вас, больной, типичная сенная лихорадка.
– Что ты мне здесь вкручиваешь? – злится Философ. – Причем здесь пыльца? Осень на дворе! Ладно бы только волдыри!.. Я же раскусил весь их план, понимаешь?
– Какой еще план? – без всякого интереса осведомляется Голубев. – Чей?
– Они вымирают! – начинает с жаром объяснять Философ. – С каждым разом все больше количество особей требует выбраковки. Вот потому им и надо передать свое знание людям. А лучше всего это сделать через детей. Вот только детям нужны человеческие наставники, чтобы другие взрослые ничего не заподозрили. Тогда эти твои инсектоморфы заражают некоторых из нас своей «сенной лихорадкой», чтобы транслировать свои знания человечеству.
– Что ж, теория любопытная, – не спорит Голубев. – Насекомые – хемотрофны. Они умеют передавать информацию через химические соединения.
– Вот и я о чем! – радуется его сговорчивости собеседник, возбужденный настолько, словно уже накатил коньяку на старые дрожжи. – Только – не хочу я! Назначай какие-нибудь порошки, лепила! Пусть другие мучаются без бухла, курева и баб. А я – не согласен!
– Ну и хватит орать, – произносит устало врач. – Пройдет твоя болезнь. Тоже туда же… Сверхчеловек, блин…
Философ недоуменно разглядывает свои руки, бормочет жалобно:
– А ты не брешешь, Эрнестик?
– Выпей коньяку! – настаивает Голубев. – При аллергии спиртное противопоказано, но ты накати. А то похож на мокрую курицу, а не на сверхчеловека.
Философ берет рюмку и зажмурившись выпивает. Несколько мгновений он прислушивается к своим внутренним ощущениям, потом открывает глаза и блаженно улыбается.
– Ничего, вроде… – бормочет он. – Назад не просится…
– Милый ты мой мыслитель, чтобы стать архитектором Нового Мира, одних волдырей недостаточно.
– Чтобы стать архитектором, надо МАРХИ заканчивать, – авторитетно заявляет Головкин, который, как всегда, ничего не понимает в чужом разговоре.
Философ отмахивается от них обоих.
– Дружище, будьте любезны, – обращается он к подошедшему официанту, – бутылку водки, сока какого-нибудь и шашлычка сделай с собой, ладно?
– Водку и сок могу принести немедленно, – отвечает тот, – а вот шашлык придется подождать. У мангальщика нашего горе, его брата сегодня клопы летучие сожрали. А его помощник только весной из кулинарного техникума выпустился…
– Тогда пусть принесут в триста пятый. Да – с жаренной картошечкой!
– Хорошо, уважаемый постоялец.
Официант уходит, а заметно повеселевший «уважаемый постоялец» обращается к собутыльникам:
– Пропадите вы тут все пропадом, пьянчужки, а я пойду к Тельме… А даже если это и не совсем Тельма, девка все равно мясистая…
– Если что – я принимаю по пятницам! – сообщает ему врач. – Анонимность гарантирую.
Отворив дверь номера, Философ прислушивается. Тихо. В спальне по-прежнему горит свет, но на кровати пусто. Зато открыто окно. Постоялец заглядывает в санузел. Никого. Уходя, он закрывал дверь на замок – это Философ хорошо помнит. Куда же подевалась эта Лжетельма? Улетела она, что ли? И его мгновенно прошибает мелкой дрожью. Так вот что в ней странного?! Это не девушка и не человек! Это очередная версия инсектоморфа! И она именно – улетела, так и не получив своего! А чего именно – своего, лучше и не думать.
Философа словно пружиной толкает к окну. Он с грохотом и дребезжанием стекол захлопывает обе рамы. И в этот миг раздается стук в дверь. Крикнув: «Открыто!», Философ все же шагает в прихожую, хватается за ручку и тянет створку на себя. Коридор пуст. Вернее, по крайней мере, постояльцу триста пятого номера так кажется в первое мгновение. Приглядевшись, он отшатывается, едва не захлопывая дверь перед собственным носом. Это что еще за чертовщина!
Глава 4
Почти у самых ног постояльца висит над ковровой дорожкой белый матовый шар, около метра в диаметре. Просто так висит, без всякой опоры. Философ отчетливо видит округлую полупрозрачную тень, отбрасываемую шаром на разноцветный ворс дорожки.
– Это ты стучал? – озадаченно спрашивает он, словно перед ним сидит пес. – Откуда ты взялся?
Шар молчит. Хотя нет – низкое, едва улавливаемое слухом гудение разливается в полной тишине. Несколько минут Философ тупо смотрит на невесть откуда взявшийся сфероид. И не может отделаться от ощущения, что тот тоже смотрит на него. Так они «переглядываются» минут пять, покуда со стороны лифта не слышатся шаги. Философ колеблется. Что делать? Закрыть дверь и сделать вид, что ни о каком загадочном шаре он и понятия не имеет или все-таки предупредить идущего? Проблему «решает сфероид». Он начинает медленно бледнеть, теряя четкость очертаний, покуда не исчезает вовсе. А может – становится невидимым? Философ осторожно тыкает в пустоту перед собой мыском ботинка. Ничего. Выдохнув, шагает из номера навстречу идущему. Это оказывается всего лишь официант.
Поужинав в одиночестве, Философ места себе не находит. Он даже не открывает новую бутылку коньяку. Слишком многое ему пришлось узнать и увидеть за эти дни и хочется как-то все это осмыслить. Он достает из своего чемодана пишущую машинку, заправляет в ее каретку листок бумаги и начинает печатать. Знание словно само собой вливается в его голову и он спешит изложить его в письменном виде, опасаясь забыть. Он еще не знает, что эти записки станут началом труда, которому он посвятит еще много лет своей и без того затянувшейся жизни. То, что Философ печатает поглощает все его время и силы. Он спит урывками. Иногда звонит в ресторан и просит принести ему ужин, хотя – на часах время для завтрака или обеда. Наконец, у него заканчиваются мысли и он вынимает из каретки последний листок, складывает исписанные ранее в стопку и кладет в картонную папку.
Раздается стук в дверь, вернее, не стук, а шорох, словно кто-то возит по филенке руками.
– Может – это Тельма? – бормочет Философ. – Настоящая…
Подходит к двери. Лампа в комнате начинает мигать, гаснет, затем нехотя загорается и светит вполнакала.
– Кто там?..
– Третьяковский, эй, чертов философ, ты здесь?! – раздается за дверью испуганный голос.
Философ поворачивает ключ. В номер вваливается Корабельников в одном халате, всклокоченный и трезвый.
– Слава богу, хоть ты на месте! – бормочет он. – А то я совсем со страху спятил… Слушай, Граф, надо удирать… Пойдем, а? Пойдем отсюда, Третьяковский… Пойдем, не могу больше…
Хватает Философа за рубашку и тянет в коридор.
– Обалдел что ли! – орет тот, отталкивая его руки. – Иди спать, алкаш! Три часа скоро.
– Нельзя спать, – как сомнамбула твердит баснописец. – Из этой проклятой гостиницы надо удирать. Видишь, что со светом? Мы здесь погибнем… И вообще из города надо удирать. У меня в коттедже машина. Пошли. Я бы один уехал, да боюсь выйти.
– Успокойся сначала! – велит Философ.
Он втаскивает Корабельникова в номер, усаживает в кресло, а сам идет в ванную. Поэт вскакивает и увязывается за ним.
– Мы здесь с тобой одни, никого не осталось, – сообщает он. – Головкина нет, швейцара нет, дежурного администратора нет…
Философ откручивает кран. В трубах раздается ворчание, выливается несколько капель.
– Ты что пить хочешь? – спрашивает Корабельников. – Пойдем, у меня есть целая бутылка минералки. Только быстро!
Философ трясет кран. Выливается еще несколько капель, ворчание в трубах прекращается.
– Да в чем дело? – бурчит он. – Война что ли опять? Оккупация?
– Да какая война! – отмахивается Корабельников. – Драпать надо, пока не поздно, а он – война…
– Почему – драпать? – пытается вникнуть Философ.
– По дороге, – идиотски хихикнув, уточняет поэт.
Философ отодвигает его в сторону и выходит в коридор. Корабельников семенит следом. В коридоре тускло, как красные карлики, светятся плафоны. На лестнице света нет вообще.
– Слушай, давай через черный ход… – предлагает баснописец. – Только бы выйти, а там у меня машина. Уже заправлена, погружена… Я как чувствовал, ей-богу… Водочки выпьем и поедем, а то здесь водки не осталось…
Философ возвращается в номер, берет со стола так и непочатую бутылку коньяку и протягивает ее Корабельникову, а сам начинает одеваться. Потом они спускаются вниз к стойке дежурного администратора. В вестибюле тоже темно. Лишь над стойкой тлеет лампочка.
– Пойдем, пойдем… – шепчет поэт. – Туда не надо, там страшно…
Он тянет Философа к выходу. Тот решительно высвобождается и подходит к стойке.
– Послушайте! – обращается он к дежурному. – Что за безобразие тут у вас творится…
Сидящий за стойкой поднимает голову, но это не администратор, это – инсектоморф.
– Это вы, философ?.. – спрашивает он. – Рад вас увидеть напоследок. Прощайте. И не забывайте наш разговор.
– Адьё! Скатертью дорога! – бурчит Философ. – После того, что ваши отпрыски сделали с городом, я видеть вас вовсе не желаю. И вообще, пришел узнать, что делается в гостинице с электричеством и водой?!
– Мы весьма сожалеем о случившемся, но если бы один из вас не перестрелял Жнецов, ничего бы ни случилось.
– Ничего бы ни случилось, если бы вам не вздумалось откладывать свои яйца прямо под городом.
– Не мы строим гнезда рядом с вашими городами, а вы строите свои города рядом с нашими гнездами. Кстати, гнезда нашего уже нет. Его выжгли кумулятивными зарядами.
– Это было неизбежно, после того, как военные увидели заживо разлагающихся горожан.
– Не будем спорить, – проскрежетал лапками по хитину Инсектоморф. – Теперь все решаем не мы и не вы. Отныне работают законы, которые древнее нас с вами. Вас это касается больше чем нас. И вы это уже поняли. Или скоро поймете. Да, кстати, чуть не забыл…
Он берет со стойки рукопись, которую только что читал, кладет ее в серую картонную папку и протягивает Философу.
– Извините, что взял без спросу, но вы могли бы забыть, а это была бы страшная потеря.
– Что это? – заторможено спрашивает Философ, беря у него папку. – Откуда вы взяли!
– Из вашего номера! – отвечает Инсектоморф. – Прощайте, спасибо за все!
Философ машинально кивает и отходит от стойки.
– Пойдем! – тянет его за рукав Корабельников.
– Да какого черта я должен куда-то уходить?! – шипит Философ. – Я должен понять, что здесь творится!
Повернувшись спиной к стойке дежурного администратора, где сидит безучастный к его истерике Инсектоморф, Философ направляется в ресторан. В дверях он останавливается. Зал ресторана, тускло освещенный торшерами, полон. За столиками сидят другие инсектоморфы. Выглядят они совершенно одинаковыми, словно клоны одного существа – того, что за стойкой. Одни читают книги, написанные людьми, другие спят, совсем по-человечески положив головы на согнутые верхние конечности, третьи оцепенело смотрят в пространство. Перед Философым появляется врач.
– Что здесь делаешь? – накидывается на приятеля Голубев. – Немедленно уходи!
– А если мне надо забрать свою рукопись?
– Если она в номере, я ее сейчас принесу…
– Не трудись, – бурчит Философ. – Твой насекомий пациент мне ее уже вернул.
– Тогда тем более уходи!
– Что значит – уходи? Я хочу выпить!
– Тише ты! – шикает на него врач. – Здесь ни капли спиртного.
Философ пальцем показывает на бар, где тускло блестят ряды бутылок.
– Нет, увы… – качает головой врач.
– Но я хочу выпить! – кричит Философ.
Голубев упрямо качает головой. Инсектоморфы, сидящие в зале, все как один – даже те, которые выглядят спящими – поднимают головы и смотрят на скандалиста. Их глаза кажутся роем блестящих металлических ос, повисших в воздухе перед атакой.
– Черт бы тебя побрал, малохольный! – ругается врач. – Вон из гостиницы. К Тельме… К Головкину на хутор или вон к борзописцу в коттедж… Только чтобы я знал, где ты! Я за тобой заеду…
– Мне хочется спать, – стоит на своем Философ. – Я черт знает сколько времени не спал!
– Да, знаю-знаю! – бурчит Голубев, подталкивая его к выходу. – Ты работал, как сумасшедший. Ты написал «Процесс–2», рукопись, которая перевернет мир, но сейчас делай, что тебя говорят… Жалко, Тельмы нет, она бы подтвердила, что ерепенится теперь некогда и непристойно!
– А где Тельма? – спрашивает Философ. – Разве она не у себя дома, с ребятами?
– Часиков в четыре-пять она подъедет к автостанции.
– А сейчас она где?
– Сейчас она занята… – терпеливо отвечает врач. – Граф, неужели тебе хочется торчать в гостинице вот с этими?
– Ладно, я уйду… – говорит тот, – но я имею право знать, что здесь происходит?
– Имеешь. Выбирай на свой вкус – националисты подняли мятеж, НАТО объявило нам войну, за городом рухнула летающая тарелка…
– Это же все чушь…
– Да, черт тебя дери! Чушь! Убирайся, чтобы духу твоего здесь не было!
– Я-то уйду и борзописца прихвачу, а Тельма? Моя дочь Илга? Болотников-младший, наконец?!
– Им ничто не угрожает, – отвечает Голубев. – И тебе пока – тоже…
– Если что, ты за них ответишь! Ты – лично! Мне!
– Отвечу! Я за все здесь в ответе. А теперь, философ, ноги в руки и дуй подальше от города. И забери с собой Корабельникова, пока тот не заблевал с перепугу весь вестибюль. Мне надо работать.
Философ выходит в вестибюль. За конторкой уже не видно Инсектоморфа. Из самого темного угла выбрался баснописец. Не обращая на него внимания, Философ идет к лестнице.
– Третьяковский, куда ты? – кричит Корабельников. – Пойдем уже!
– Да не могу же я тащиться под дождем в тапках!
– Ты давно уже в болотниках! – орет на него поэт. – Бросить меня хочешь?! Мало того, что вместо коньяка подсунул какую-то мочу, так теперь еще и свинтить пытаешься!
– Дьявол с тобой! Пошли.
Философ хватает баснописца за рукав и тащит его на улицу. И вот они идут в кромешной тьме под дождем. Философ одет основательно, по погоде. В руке у него чемодан. Чужой. Прихватил возле пустого гардероба, чтобы положить в него свою папку с рукописью, вытряхнув барахло прежнего владельца. На поэте старый плащ с чужого плеча, из под которого выглядывают полы халата и белеют голые икры, и – явно чужие ботинки без шнурков. Они идут крадучись, потому что за каждым углом им мерещится засада. Вот только – чья? Баснописец затравленно озирается и старается не отставать от своего спутника.
– Выставили взашей… – бурчит Философ. – И гостиницы нас выгнали. Из города – тоже… А дальше что? Какие такие законы, которые выше нас, могут заставить человека драпать крысиной побежкой из своего жилища? Ну ладно – не своего, съемного, но все равно!
Ответить некому. У Корабельникова скулы сводит от страха. Слышно как стучат его зубы. На улице почти нет света. Редкие фонари освещают только самих себя. Окна домов темны, лишь кое-где сквозь щели в занавесках просачивается красноватый свет. Дождь лупит без передышки, но улицы все же не безлюдны. Слышно, как кто-то переговаривается вполголоса, надрывается грудной младенец, громыхая, мимо беглецов, проезжает пара тяжелых военных грузовиков. Из бокового проулка выкатывает хуторская телега и скрывается в проулке напротив.
– Все бегут… – жалуется Корабельников. – Все драпают, одни мы тащимся…
– Удивляюсь я тебе, Роман, – откликается Философ. – Ты же «Тигры» жег! Герой Советского Союза…
– Чему тут удивляться, – неожиданно спокойно откликается баснописец. – На фронте легко быть героем. Против тебя такой же солдат, как и ты. Ни от осколка, ни от пули не заговоренный. Хитрость против хитрости, смекалка против смекалки. Горит его танк – радуешься, а видишь обугленную головешку, которая когда-то была бравым воякой, тошно становится. А в тылу все по-другому… Приносишь в редакцию басню про медведя, а они тебе – вы кого это, товарищ автор, имеете в виду? Врешь им про бюрократа, не верят… Не напечатают басню – радуешься. Напечатают – дрожишь. Разворачиваешь каждое утро «Литературку», смотришь раздел критики, видишь свою фамилию, дальше читать страшно. Ведь если какая-нибудь гнида тыловая напишет, что ты украл сюжет то ли у Эзопа, то ли у Крылова, сидишь, ждешь оргвыводы… Так герой превращается в дрожащую тварь… Одно спасение – бухло!
– Ну и бросил бы ты это занятие! – ворчит Философ. – За каким бесом ты в Эзопы подался? Нашел бы себе более спокойную работенку.
– Не могу. Привык уже. Деньги шальные. И не надо вставать ни свет ни заря. Хочешь – бумагу портишь, а не хочешь – водяру жрешь. Опять же поэтесска какая-нибудь подвернется начинающая… Дерешь ее во все щели и в рифму и белым стихом и ямбом и хореем…
– Заткнись, извращенец!
Надрывный механический рев разбивает тишину. От него начинают дрожать стекла в окнах домов, на лужах появляется рябь, с деревьев срывается пожухлая осенняя листва. Философ и Корабельников зажимают уши и непроизвольно бросаются в ближайшую подворотню, при этом Философ роняет чужой чемодан. В подворотне они садятся на корточки, стараясь опустить головы как можно ниже, спрятать их между колен. Несколько мгновений рев сотрясает все вокруг, но затем стихает. Оглушенные, Философ и Корабельников выпрямляются, но не сразу решаются убрать ладони от ушей. Философ приходит в себя первым. Дрожащими пальцами он достает из кармана сигареты, закуривает сам и предлагает баснописцу. Тот отрицательно мотает головой.
– Мать вашу за ногу! – почти рыдая, произносит Корабельников. – Чем это они, Граф?!
– «Сиреной ПВО, не слышишь что ли!..» – перебил я рассказчика. – А тот в ответ: «Какая еще сирена! Разве такие бывают?..»
– Тоже во сне увидел? – уточнил лжеписатель.
– Да, только вместо этого твоего Корабельникова был ты…
– Забавно, но слушай дальше… Хрен их знает, что тут у них бывает… – отвечает Философ. – Хватит ныть, борзописец, пошли лучше мой чемодан поищем.
Они выходят из подворотни и начинают бродить по темной улице, почти наощупь. Неожиданно на пустынной улице появляется первый автомобиль. Его фары ослепляют Философа и поэта, те едва успевают отскочить. За первым автомобилем следует еще несколько. Обгоняя друг друга, опасно подрезая при обгоне, машины несутся, не разбирая дороги. Все это дорогие авто. Одно вдруг притормаживает, отворяется дверца и из нее показывается бледная физиономия Люсьены…
– И она потребовала, чтобы ты поехал с ней и с городским начальством, – подхватил я. – А ты уперся и ни в какую!
– Да, так и было… – кивнул Граф. – Тогда опускаю этот эпизод.
– А дальше были мертвецы? – спросил я. – Или это уже чисто мои кошмары?
– Нет, мертвецов не было… – покачал головой Третьяковский. – Вернее – были, но… Короче, то, что было – оказалось немногим лучше… За машинами начальства покатили легковушки, грузовики, автобусы, мотоциклы и велосипеды с горожанами попроще.
– Что они сказали? – искательно заглядывая в глаза, спрашивает Философа баснописец, имея в виду бежавшее городское начальство.
– Что здесь опасно оставаться, – бурчит тот.
– Пойдем, Графуша, а? – умоляюще произносит Корабельников. – Ну чего мы здесь застряли? Опасно же…
– Пойдем, – соглашается тот. – Как только так сразу… Вот найдем чемодан мой и почапаем.
– Да на кой хрен он тебе сдался, этот чемодан! – истерично воет поэт. – Сам же вытряхнул из него все барахло! Хочешь, я тебе свой подарю? Заграничный!
– Нахрен мне твой заграничный чемодан сдался… – огрызается Философ. – У меня там рукопись, понял!
– Тогда понятно… – сник баснописец. – Так бы сразу и сказал…
Они пытаются отыскать чемодан, воспользовавшись паузой в потоке беженцев на колесах, но вскоре их накрывает звуковая волна, которая слабее рева сирен, но гораздо страшнее оттого, что исходит от несметной толпы. Мужчины, женщины, старики, роняя скарб, затаптывая слабых, несутся по улице. Крики, проклятия, женский визг, мольбы о помощи оглушают почище сирены. Философ и его спутник вновь ныряют в подворотню.
– Что это, Третьяковский? – совсем уж неприлично визжит Корабельников. – О, боже!
Глава 5
Философ выхватывает из толпы какого-то мужчину в форме, прижимает его к стене и видит, что это милиционер. С белыми от ужаса глазами, страж порядка пытается вырваться, но Философ держит его крепко.
– Что происходит в городе? – говорит он. – Куда вы все несетесь?
– Ш-ш-ш, – шипит тот. – Ш-шары!
– Что еще за шары?
– Б-белые и ч-черные! – заикаясь отвечает милиционер. – Конец всему! Конец света! Господи помилуй…
– Ну, шары, и что с того? – спрашивает Философ. – Они что – сожрут тебя?!
– Отпустите меня, бога ради, гражданин! – умоляет милиционер. – У меня жена, дети, начальство…
Философ отпускает правоохранителя, тот выбегает на улицу и уносится, подхваченный человеческой рекой.
– И это наша доблестная милиция, – презрительно цедит Философ. – Шаров они не видали.
– Знаешь, с меня хватит… – решительно произносит Корабельников и пытается выйти из подворотни. Философ хватает его за хлястик чужого плаща.
– Куда ты, артиллерист! Затопчут ведь!
– Кто затопчет-то…
Философ отпускает поэта, потому что видит, тот прав – на улице опять пусто, если не считать нескольких тел, неподвижно лежащих на мостовой. Дождь прекращается, но вместо него появляются первые языки тумана. Философ подходит к одному из тел, переворачивает на спину. Это женщина. Видно, что толпа прошла по ней, не разбирая на что наступает. С трудом сдерживая рвотный рефлекс, он выпрямляется и ищет глазами Корабельникова. Баснописца нигде не видно.
– Чертовы инсектоморфы… – ворчит Философ. – Твари. Мало вам мертвяков! Это по каким таким законам творится этот беспредел? Илга… Тельма…
Философ резко наклоняется к мертвой женщине. Ему кажется, что это Тельма. Сзади него раздаются шаркающие шаги. Философ нервно оборачивается и видит как из клубов медленно крадущегося вдоль улицы тумана появляется силуэт человека. Это мужчина – он идет медленно, но твердо, четко печатая шаг ноги, глядя строго перед собой. При этом он не замечает Философа, который оказывается у него на пути.
– Куда прешь! – кричит ему тот. – Слепой что ли?..
Мужчина молча приближается. Видно, что он чрезвычайно грязен, вся одежда в лохмотьях, но лицо и торчащие из обшлагов кисти, неестественно белые. Философу этот странный тип кажется знакомым. Он пристально всматривается и у него невольно вырывается:
– Матерь божья, да это же… Лаар? Ты живой, что ли…
Бывший завотделом райкома ВЛКСМ по спорту не реагирует на его слова. Он вдруг поднимает руки и слепо шаря ими в пустоте перед собой, приближается к Философу вплотную. Тот начинает отступать назад, не поворачиваясь к «воскресшему» эстонскому националисту спиной. И правильно делает. Потому что с «Лааром» начинается творится какая-то метаморфоза. Живот у него вдруг округляется, словно надуваемый изнутри насосом, пуговицы на пиджаке отскакивают, рубашка распахивается и на мостовую падает большой белый шар.
Не успевая коснуться старинной брусчатки, сфероид подпрыгивает в воздухе, словно отброшенный незримой преградой и перелетает куда-то за спину Философа. Тот едва успевает пригнуться. А с националистом происходит что-то не менее странное. Он вдруг как-то весь оседает, будто снеговик по мартовским солнцем, превращаясь в белое рыхлое месиво, которое вдруг распадается на туманные пряди и растворяется. На мостовой остается лишь груда грязной рваной одежды.
За спиной Философа возникает чья-то фигура. Он оглядывается через плечо и едва ли не вопит от ужаса. Затоптанная в панике женщина встает и с механической резкостью вздергивает окровавленные размозженные руки. Впрочем, с ними происходит обратная метаморфоза. Следы крови исчезают на фоне кукольной белизны теперь уже совершенно целых и чистых рук. То же самое происходит с лицом и остальными частями еще минуту назад мертвого тела. Вытянув фарфоровой белизны пальцы, женщина начинает двигаться.
Впрочем, путь ее не долог. Как и «Лаар» до этого, она «рожает» белый шар, который прыгает в направлении других тел, жуткими мешками, валяющихся там и сям. Касаясь трупа, шар растягивается по всем осям, поглощая человеческие останки, которые тоже начинают шевелится и вставать. Философ продолжает пятится, стараясь держать кратковременно «оживающих» мертвецов в поле зрения. Породив новые шары, они вслед за «Лааром» и неизвестной Философу женщиной, тоже превращаются в туман.
Вскоре вокруг не остается ни одного трупа. А в воздухе пахнет какой-то химией. Философ понимает, что это зачистка. Некие силы освобождают город, изгоняя не только живых, но и мертвых. Страшно представить, что творится на городских кладбищах. Философ не думает об этом. Его беспокоят черные шары, о которых говорил милиционер. Он внимательно осматривается, но ничего подозрительного поблизости не обнаруживает. По крайней мере, в той части улицы, где он находится.
– Эй, Третьяковский!.. – доносится из ближайшей подворотни голос Корабельникова. – Где ты, писатель хренов?.. Я нашел пару великов. Вроде, целые!
Он действительно выкатывает два велосипеда. Философ седлает один из них, пробует проехать с десяток метров. Двухколесная машина скрипит, но едет. Поэт присоединяется к нему и они начинают продвигаться к окраине города, в предместьях которого и живет баснописец. В городе тихо, он действительно словно вымер. Оба велосипедиста то и дело вынуждены объезжать брошенный скарб, а также – поломанные транспортные средства, вышедшие из строя или просто не заправленные впопыхах малолитражки, велосипеды с восьмерками передних колес, опрокинутые мотоциклы, но чаще всего разный бытовой хлам. Людей нет – ни живых, ни мертвых. Даже – мародеров. Даже дома выглядят так, словно они вот-вот обрушатся. Оконные рамы перекошены, двери сорваны с петель, на брусчатке блестят выбитые стекла. Под велосипедными шинами то и дело шелестят разбросанные бумажки. Все они почему-то одинакового размера и цвета. Корабельников останавливается, слезает с велика и подбирает несколько бумажек.
– Деньги! – изумленно бормочет поэт. – Сплошь трешки!
– Брось! – брезгливо произносит Философ, но баснописец все же запихивает за пазуху пучок зеленых купюр.
Наконец, они сворачивают с магистральных улиц на тихие улочки окраин и спустя еще полчаса оказываются во дворе загородного коттеджа Корабельникова. Оказавшись у себя дома, баснописец вытряхивает из холодильника всю имеющуюся у него снедь, достает из бара пару бутылок. Выдергивает зубами пробку из горлышка, прикладывается к нему. На лице у него появляется блаженная улыбка. Сделав еще несколько глотков, хозяин дома протягивает бутылку гостю. Выпив и перекусив, они заваливаются спать.
Философу снится детский голос, который повторяет: «Нет, нет, не хочу, не хочу! Это неправильно! Так быть не должно! Оставьте все как есть! Я не пойду с вами! Не заставите!»
«Это же Илга…» – думает Философ во сне и просыпаясь, вскрикивает:
– Илга!
Неподалеку на кушетке, завернувшись в сдернутую с окна штору, храпит Корабельников. Большое окно с частым переплетом неожиданно проясняется. Лунный свет заливает комнату и будит баснописца. Словно лунатик поднимается тот, подходит к окну и распахивает створки. Лунный свет становится ослепительным. Корабельников поднимает голову и начинает истошно, срываясь на визг, орать, тыча пальцем в ночное небо. Философ вскакивает как ошпаренный, хватает возле холодного камина кочергу, замахивается и только тут замечает, что кроме них с поэтом, никого в гостиной нет.
Философ подбегает к окну и видит луну – круглую, маленькую, ослепительно яркую. Что-то не так с этой луной, но что – на первый взгляд понять невозможно. И в следующий миг он понимает, что его смущает. С луной все в порядке, если не считать, что она двойная. И это не от того, что у Философа двоится в глазах после перепоя, рядом с первой висит ее точная копия. Между ними протискиваются тучи и кажется, что какой-то незримый исполин рассматривает грешную землю через позолоченное пенсне.
Баснописец валится на колени и начинает молиться:
– Господи милосердный, прости меня грешного! Пресмыкался. Прелюбодействовал. Подхалимничал. Передирал у других. Продавал коллег. Подкупал критиков. Пускал пыль в глаза. Прости! Покину сие гнездо разврата. Перестану писать. Поступлю в монастырь. Пощади!
– Перестань! – отмахивается от него Философ. – Нашел время каяться…
Тучи затянули обе луны. Вернее – одну единственную, потому что свет теперь просачивается только с одной стороны. Корабельников поднимается с колен. Кидается в прихожую, возится там, потом до слуха гостя доносится резкий хлопок. Встревоженный, Философ бросается на звук и почти сразу натыкается на безжизненное тело хозяина. Герой Советского Союза, человек, который с двумя артиллерийскими расчетами дрался против десяти фашистских танков, после войны польстившийся на легкий хлеб литературной халтуры не выдержал укоризненного взгляда небес и покончил счеты с жизнью.
Философ возвращается в комнату, берет недопитую накануне бутылку водки, отпивает из горлышка и тут же с отвращением сплевывает на пол. Переступив через труп хозяина дома, Философ надевает плащ и выходит из коттеджа. Надо бы сообщить в милицию о самоубийстве, но милиция бежала вместе с остальными городскими властями и самими горожанами. Стремительно светает. Философ смотрит на часы – без десяти пять. Голубев сказал, что Тельма будет на автостанции. Надо успеть. Он берет один из велосипедов и катит в нужном направлении. Благо – недалеко.
Наступает утро. Философ едет на велосипеде по шоссе, старательно объезжая разбросанное тряпье, брошенные чемоданы, детские игрушки, расколотые вазы и цветочные горшки с умирающими комнатными растениями. Возле здания, на фронтоне которого написано: «АВТОСТАНЦИЯ», он спешивается. Вокруг никого, но тишины нет. Отовсюду слышится потрескивание, шорохи, шелест. Тучи расходятся, между обветшалых стен домов просачиваются лучи восходящего солнца. Город становится прозрачным, будто нарисованном на стекле. Рядом останавливается «ГАЗончик» с откинутым брезентовым верхом. В нем сидят Голубев, осунувшийся и похудевший и Тельма – усталая и угрюмая.
– Садитесь! – говорит врач, распахнув дверцу.
– Благодарю! – отвечает Философ и забирается на заднее сиденье. – Рад видеть тебя, Тельма.
– Взаимно, – откликается она.
– Где дети?
– С детьми все в порядке. Игорь согласился, а Илга – отказалась.
– Отказалась – от чего? – уточняет Философ. – Ты так и не сказала мне – где она? Я видел Люсьену, но с нею не было дочери.
– На хуторе она, у бабушки, – отвечает девушка. – Она отказалась, поэтому – на хуторе.
– Да от чего она отказалась и, заодно, на что согласился Игорь? Он хоть знает, что отец его погиб?
– Знает. Он теперь все знает. А для того, чтобы удовлетворить твое любопытство, придется прочесть целый курс.
– Ладно, держите при себе свои секреты!
Вездеход катит по городским улицам, подпрыгивая на брошенных чемоданах и детских колясках. Философу хочется закурить, еще больше – выпить, а еще больше – задавать вопросы. Он держится, но надолго его не хватает. Тельма протягивает ему бутылку, а затем – пачку сигарет. Философ расценивает ее отзывчивость, как разрешение спрашивать.
– А где же ваши мертвецы, инсектоморфы то бишь? – интересуется он. – Идут пешком?
– Мертвецов нет, – отвечает врач. – Они выполнили свою миссию и нашли окончательное успокоение.
– Какую миссию? Напугать до смерти городских обывателей?
– И это тоже. Сами понимаешь, что иначе обывателя не сдернешь с насиженного места, но главное, что мертвые покинули эту землю, чтобы окончательно очистить ее для нового посева.
– Отлично, но ты не ответил мне про инсектоморфов.
– Инсектоморфов тоже больше нет. Можешь считать, что их не было.
– «Где лебеди? – А лебеди ушли. А вороны? – А вороны остались…» – цитирует Философ.
– Здорово сказано, – ворчит Голубев, – но один старый жирный ворон смертельно хочет спать…
– И еще сказано, – не унимается его собеседник: – «Я – это бросок природы, бросок в неизвестное. Может быть, во что-то новое, а может быть, в ничто!»
– И это отменно сказано, – соглашается врач. – Тебя куда подбросить?
– Черт его знает, я бы хотел найти свой чемодан, там моя папка с рукописью.
– Да вон твой чемодан. У тебя под ногами. Скажи спасибо Тельме, это она его разглядела среди груды хлама.
– Сердечно благодарен! – откликается Философ, выдергивая на сиденье злосчастный чемодан, извлекая из него папку, а его самого выбрасывая из машины. – Теперь везите меня, куда хотите.
– Везите нас ко мне, – отвечает Тельма. – И побыстрее. Слышите шум?
Философ и врач прислушиваются.
– Что это? – спрашивает последний.
– Плотина, – говорит девушка. – Ее окончательно прорвало. Самое позднее – через час она смоет город.
– Так вот почему все удрали! – восклицает Философ. – А теперь давайте, колитесь, что здесь все-таки происходит?
– Расскажи ему, Тельма, – просит Голубев. – И постарайся не очень монотонно, а то я засну за рулем.
– Так может тебя подменить?
– Нет. Лучше меня никто не знает строптивого нрава этой лошадки. И если один из рукавов приближающегося потопа, вдруг попытается перерезать нам дорогу, любой из вас может растеряться и нажать не на ту педаль.
– Тогда – жми на всю катушку! – бурчит Философ. – Кажется шум становится громче!
Он оглядывается и ему чудится, что он видит, как водяной вал врывается в старый город. Языки мутной воды растекаются по улочкам, подмывая газетные киоски и рекламные тумбы, подхватывая брошенный скарб, смывая мусор, низвергаясь в подвалы, переполняя ливневки, затапливая оставленные на улицах автомобили, автобусы и трамваи, поглощая велосипеды и мотоциклы. Вода выдавливает витринные стекла, пропитывает ковры в квартирах, кастрюли, чашки, глубокие тарелки всплывают, книжки, журналы, устаревшие газеты, фотографии, детские рисунки водовороты выносят сквозь окна первых этажей. Словно орда кочевников, внезапно атаковавшая город, потоки воды продолжают путь, унося награбленное добро дальше.
– Ну-с, я жду объяснений, – говорит Философ. – И мне кажется, что имею на это право. Даром я что ли таскал инсектоморфа на закорках, бродил по болотам, корячился, чтобы добраться до каких-то долбанных коконов, похожих на мужские причиндалы, сочинял, как безумный, «Процесс-два», пятился от мертвецов, рожающих белые шары, терпел истерики борзописца, который, кстати, застрелился в религиозном экстазе, когда увидел Бога в лунном пенсне… Я ничего не забыл?
– Ты забыл, что сдал фашиста Соммера, – безжалостно напоминает Тельма. – И еще – выступал перед школьниками, которых едва не увел с помощью шара, изготовленного Мастером. Кстати – где он?
– А черт его знает… Потерял где-то…
– Корабельников застрелился? – уточняет врач.
– Да, прямиком в собственной прихожке…
– Героя убил страх, – задумчиво бурчит Голубев. – И мне кто-то еще будет говорить, что человечество заслуживает лучшей… – Он осекся. – А ну, ребятки, держитесь!
Врач оказывается пророком. Старый «козлик» и без того мчится во всю прыть, а теперь его владелец топит на всю железку, но вода догоняет. Параллельно с дорогой, которая проходит по высокой насыпи, появляется мутный пенный поток. Он выглядит вполне мирно и кажется, что так и будет катить рядом с насыпью, словно по заранее проложенному руслу, но это мирное сосуществование двух стихий лишь иллюзия. И водитель и пассажиры видят, как проседает дорожное полотно. На асфальте появляются трещины. «ГАЗончик» начинает подпрыгивать на них, как будто он и впрямь козел, но в какой-то момент часть насыпи впереди обрушивается.
Глава 6
Голубев проявляет чудеса вождения. Он разгоняет машину до предельно возможной для нее скорости. Она подпрыгивает на вздыбленном куске асфальтового покрытия и словно с трамплина перелетает по другую сторону промыва. Дорога позади перестает существовать, как единое целое. Впереди она идет в гору, так что опасности больше нет и врач сбрасывает скорость. Пассажиры получают возможность выдохнуть. Философ откупоривает бутылку, делает большой глоток и протягивает спиртное своей спутнице.
– Наконец-то нормальная выпивка, – бурчит он при этом. – Кто-нибудь может объяснить, почему в гостинице спиртное превратилось в воду? Это уже дьяволом попахивает… Христос превращал воду в вино, следовательно только его антипод может совершить обратное.
– А ты разве верующий? – спрашивает Голубев.
– Верующий, – отвечает Философ.
– Ну тогда знай, дьявол тут ни причем, – бормочет врач. – Обыкновенный химический процесс.
– Ладно. К черту детали! Мне обещали рассказать о том, что здесь происходит.
– Только не в этой трясучке, – говорит Тельма, – вот приедем ко мне, накормлю вас и тогда расскажу… Кстати, Эрнест Иванович, не пропустите поворот.
Врач не пропускает поворот и через некоторое время «ГАЗончик» останавливается у ворот старого дома полковника Ильвеса. Они входят под его полутемные своды. Голубев сразу уходит в гостиную и заваливается на диван. Через некоторое время слышится его храп. Тельма растапливает титан для нагрева воды и отправляет Философа в ванную мыться. Когда тот выходит, вымытый до скрипа, с мокрыми волосами и в банном халате, то обнаруживает, что хозяйка уже успела приготовить завтрак.
Они решают не будить врача, а позавтракать вдвоем. На улице вовсю сияет солнце и золотая и красная листва на деревьях сверкает, как драгоценные россыпи. Даже представить трудно, что где-то неподалеку затоплен город, покинутый даже покойниками. Уплетая омлет с ветчиной, Философ старается не думать об этом. А его подруга молчит. Они наслаждаются чистотой, пищей и покоем. Потом у них возникают иные потребности. И утолив иной голод, они, наконец, готовы говорить на темы, далекие от простых человеческих радостей.
– В условиях холодной войны каждая из противоборствующих сторон ищет оружие, которое даст ей решающее преимущество перед противником, – начинает свой рассказ Тельма. – Поиски ведутся в самых разных, порой неожиданных направлениях. Ядерные бомбы уже перестали быть таким оружием, потому что они не гарантируют безнаказанного уничтожения врага. Химическое и бактериологическое оружие – тоже. Следовательно нужно изыскать нечто такое, что не только окажется максимально эффективным, но и не сможет быть в кратчайшие сроки воспроизведено этим самым врагом у себя. И вот в поле зрения спецслужб попадают странные насекомые, которые подозрительно похожи на людей, способны к мышлению и готовыми к общению с видом гомо сапиенс сапиенс. По данным разведки на другой стороне океана таких смышленых жучков не водится. Нельзя ли их как-то использовать для обретения стратегического перевеса? В чисто военном плане – нет. Да, Рой, образованный из мутировавшего потомства этих самых жучков, представляет определенную опасность для гражданского населения, что доказано на практике, но эти прожорливые твари слишком хрупки, чтобы стать по-настоящему грозным оружием. Следовательно, этот вариант никуда не ведет. А если нельзя использовать силу инсектоморфов, то может стоит воспользоваться их интеллектом? И вот здесь начинается самое интересное.
Девушка встает, берет банку с молотым кофе, турку и принимается варить кофе. Становится понятно, что ей нужна передышка и допинг, в виде кофеина. Философ тоже не собирается отказываться от него, ибо его начинает клонить в сон. Так что рассказ Тельмы продолжается уже за чашечкой кофе. Уровень ее осведомленности поражает. У Философа начинается складываться впечатление, что его подруга знает не понаслышке то, о чем рассказывает. Скорее всего – она непосредственный участник всех этих событий.
– Инсектоморфов нельзя ни к чему принудить. Страху они не ведают. Смерти не боятся. Да, они могут испытывать боль, но лучше умрут, чем пойдут против принципов своего существования. Кроме того, у них нет политических убеждений, они готовы делиться своими знаниями, накопленными за миллионы лет существования их расы, со всем человечеством. Тем не менее, инсектоморфы не столь наивны и понимают, что никакого единого человечества не существуют, что страны и народы, на которые оно разделено находятся в состоянии непрерывной войны, чередуя только холодные ее фазы с горячими. Поэтому они выбирают тех представителей нашей расы, которые в меньшей степени вовлечены в это противостояние, то есть – детей. Мышление детей более гибкое, по сравнению с мышлением взрослых, закосневших в своих убеждениях и предрассудках, они готовы к новым необычным идеям и концепциям. Вопрос только в том, как им эти идеи внушить? Дети падки на все яркое, броское, захватывающее воображение. И тогда инсектоморфы, которых мы именуем Пастырями, находят человека, который способен эти идеи сформулировать, но не в виде скучных нравоучений, а в виде понятных, впечатляющих образов. Так появляется «Процесс»…
– Постой! – перебивает ее Философ. – Причем здесь инсектоморфы? «Процесс» я написал по заказу кайманов, которые угрожали мне жизнью дочери.
– А ты видел своего заказчика?
– Ну-у, пару раз и не близко…
– Вот то-то и оно!
– Ты хочешь сказать, что Ортодокс – это инсектоморф?
– Да, один из Пастырей.
– Неужто они связаны с кайманами?
– По крайней мере – были, равно как и с КГБ.
– Вот же сволочи насекомьи…
– Не спеши их осуждать. При всем интеллекте инсектоморфов им не так-то просто отличить одних от других. Сам посуди – и те и другие прекрасно организованы и те и другие прибегают в своей деятельности к насилию, а все остальное – юридические тонкости. Однако сейчас речь не об этом. Как бы то ни было, дело свое ты сделал. Сумел сочинить нечто, что донесло философию этих «насекомьих сволочей» до сознания подрастающего поколения. Ты сам знаком с мальчиком-молнией и мог убедиться, что для таких как он твои рассуждения – это не просто набор красивых фраз, а руководство к действию. Они готовы часами упражняться, например, в концентрации вокруг себя грозового разряда, пусть и чрезвычайно слабого. Как они это делают, не знает никто. А ведь это лишь одна из целого веера сверхспособностей, которым обладают детишки, воспринявшие «Процесс».
– Ну не я один приложил к этому руку, – бурчит Философ. – Вот всяком случае, игрушки сделаны не мною.
– Не тобою, верно, – соглашается Тельма, – но и без твоего участия не обошлось. Например, «злой волчок» – это реализация твоего тезиса о свертывании внутреннего пространства, а «трескучка» у тебя описана, как «убивающее нас чувство вины за совершенные и даже – несовершенные поступки», или взять, к примеру, «шар-свирель»…
– Стоп-стоп-стоп, что-то ты разогналась! – тормозит ее словоизлияния он. – Ну «злой волчок», ладно, видел и даже имел сомнительное удовольствие прикосаться. Про «трескучку» хотя бы слышал… А что за «шар-свирель» такой?
– Это то, что тебе подарил Мастер, а ты его легкомысленно потерял.
– Потерял – каюсь, но причем здесь мои бредни? Как можно фразы, изложенные на бумаге, превратить в эти дьявольские игрушки?
– В этом суть мышления инсектоморфов, они воплощают абстрактные понятия в предметы.
– Ладно, хрен с ними, хотя в толк не возьму, какая моя оговорка могла быть воплощена в «утиный манок»…
– Ой, кто это тебя приманивал им? – смеется девушка.
– Игорек.
– Ох уж этот мальчик-молния…
– Не съезжай с темы. Пока что это все теория. Ты обещала рассказать, что произошло с городом? С чего это вдруг его утопили?
– По сути – это давно уже не город, а испытательный полигон, хотя большинство его жителей об этом не знало и не узнает. Место было подходящим потому, что рядом с городом обнаружилось гнездовье инсектоморфов. Специальная научная группа при местном университете, пользуясь готовностью «тонких людей» идти на Контакт, занималась их исследованием, но работа шла ни шатко ни валко. Тогда тот Пастырь, которого ты называешь Ортодоксом, решил ускорить процесс и тогда кайманы заказали тебе, извини за каламбур, твой «Процесс». После того как его распространили в машинописных копиях среди учащихся средних и старших классов, начался лавинообразный процесс – опять это проклятое слово – получения от инсектоморфов не только ценнейших научных данных, но и игрушек, которые поставили наших ученых в тупик. Никто из них не подозревал, что тот эксперимент, который они начали много лет назад, уже вышел у них из-под контроля. Теперь он был полностью в руках, то бишь – в верхних конечностях «тонких людей». По их замыслу, все должно было пройти мирно, передача знаний новой разновидности нашей расы – то есть детям – была на завершающей стадии. Инсектоморфы собирались пригласить в свое гнездилище всех городских детей, которые прошли инициацию твоим учением, но вышло так, что там успели побывать лишь твоя дочь Илга и Игорь Болотников. Из-за того, что его отец убил нескольких Жнецов, Рой вырвался на свободу и устроил в городе бойню. Пришлось срочно уничтожать следы эксперимента. Была объявлена немедленная эвакуация, но «тонкие люди» привнесли в нее свое измерение, они решили очистить бывший полигон не только от живых, но и от мертвых. Отсюда появились белые шары. Я не знаю, как они работают, но знаю, что это часть биотехнологий инсектоморфов.
– Белые я видел, – говорит Философ, – а что собой представляют – черные?
– Откуда ты о них знаешь?
– Один мент рассказал. Вернее – не рассказал, а проорал. Дескать, конец света наступает!
– Не дай бог, если «тонкие» пустят в ход черные шары, тогда точно – конец.
Философ крестится, а потом говорит:
– Может ты пояснишь мне еще один момент?
– Какой?
– Накануне потопа ко мне в номер вошла ты.
– Я? – удивляется Тельма. – Этого не может быть! Я была здесь, с ребятишками.
– И тем не менее. Меня всего покрыло сыпью, после того, как я потаскал «тонкого» на закорках, так вот девица, которая выглядела как две капли воды похожей на тебя, даже глазом не моргнула.
– Ах ты распутник! Привел в номер девку и хвастаешься!
– Какой там – привел! Я удрал от нее в ресторан. А когда вернулся – твоей копии уже не было, хотя я ее запер на ключ.
– Все-таки запер! Решил потом попользоваться.
– Окно было открыто. Видать, через него она и упорхнула. А потом в дверь постучали. Я открыл, а за нею оказался белый шар. Вот почему он ко мне явился? Разве я мертвец?
– Стал бы, если бы не удрал, – мстительно бурчит девушка. – Видимо, та девица приходила за тобой.
– Ты это от злости говоришь или тебе что-нибудь известно?
– Так. Слухи только. Их называют «ночными бабочками».
– Очень точное название.
– Да. Только не в том смысле. Они – фурии, ночные убийцы. Могут принимать любой облик и не только – женский. Ты правильно сделал, что удрал. Иначе пришлось бы и тебе «родить» белый шар.
– Ни хрена себе заявочки! Я то им чем помешал?
– Кому – им?
– Насекомым этим?
– А разве я говорила, что это они подослали тебе «ночную бабочку»?
– Ну а – кто же?
– Трудно сказать. Ведь в городе настало Изменение.
– Изменение чего?
– Всего. Несколько дней он жил по иным законам природы. Трудно представить, что творилась в его домах и с его жителями. Вот и тебя зацепило краем. Ты смог на собственной шкуре почувствовать вторжение будущего.
– Причем здесь будущее?
– Возможно таким будет мир через миллионы лет.
– К счастью мне не дожить… Ну хорошо, а на что согласился Игорек и от чего отказалась Илга?
– Инсектоморфы навсегда покинули наш мир и позвали единственных детей, которые побывали в гнездилище, с собой. Твоя дочь не захотела покинуть мать и, возможно, тебя тоже. А вот Игорек захотел. После смерти отца он остался круглой сиротой, ведь родной его матери давно нет.
– И где же он теперь?
– Видимо – в Новом Мире.
– В – лучшем, как и его одноногий отец.
– Это не смешно.
– Прости, я чертовски устал от всех этих чудес и загадок. Не могу уже всерьез относится ни к чему.
– Зачем же ты тогда хотел знать, что произошло в городе?
– Старая привычка докапываться до истины.
– И что, докопался?
– Докопаешься с вами.
– Чем богаты.
– Ладно, спасибо и на этом. Пойду спать. А то у меня глаза слипаются.
– Иди. От тебя сейчас все равно никакого толку.
– А кто меня высосал досуха?
– Будешь говорить пошлости, получишь по физиономии.
– Все. Убираюсь. Пока не получил по морде.
Третьяковский умолк и я решил, что он закончил рассказ, но Граф вдруг поднял руку, призывая меня потерпеть еще немного.
– Остались кульминация и финал, – сказал он. – Итак, Философ засыпает. Ему снится всякая ерунда, о которой не стоит упоминать, но вскоре какой-то звук будит его. Он вскакивает. Слепо пялится в потемневшее окно. И слышит крик. Срывается с кровати. Запутывается в пододеяльнике и валится на пол, болезненно стукнувшись головой обо что-то твердое. Вскочив, Философ видит перед собой тот самый шар-свирель, который он вроде потерял. Философ хватает шар и выбегает с ним из спальни.
В доме темно. Философ пытается включить свет, но бесполезно щелкает клавишей выключателя. Потом опять слышит крик – кричит Тельма – и бросается на голос. Повторный крик помогает Философу понять – звук доносится снаружи. И он кидается на голос. Выскакивает на крыльцо и замирает в оторопи. Все пространство перед домой заполнено черной шевелящейся массой. Философ не сразу разбирает, что это черные шары. Они выкатываются из ниоткуда, перескакивают друг через друга, но их становится все больше и больше.
Даже в сумерках видно, что от соприкосновения с ними все умирает. Стволы вековых деревьев подламываются и падают прямо на обступившие их черные сфероиды, на лету рассыпаясь серым прахом. На крыльцо дома шары пока не забрались, но девушку они все-равно приводят в ужас. Философ хватает ее поперек талии и буквально затаскивает в прихожую. Понимает, что положение безвыходное. Если шары ворвутся в дом, им с Тельмой и Голубевым несдобровать. Кстати, а где этот эскулап?
Философ снова выскакивает на крыльцо и видит, что «козлика» врача нигде не видно. Похоже – выспался и уехал. Неизвестно – жив ли? Философ возвращается в дом. Девушки в прихожей нет. Где же она? Спряталась? Он запирает дверь. Потом начинает метаться по дому. Наконец, обнаруживает Тельму в чулане. Увидев его, девушка вдруг принимается рыдать. Утешать ее некогда. Философ оставляет хозяйку дома в чулане, бросается в мансарду, чтобы оттуда осмотреть окрестности.
Может быть, черные сфероиды не все заполонили и остался путь к бегству? В мансарде только одно окно и из него видно, что сад кишмя кишит черными шарами. Шарами – истребителями всего живого. Философ выбирается через окно на крышу, хотя это очень рисковано. Мешает шар-свирель, который он положил в карман пиджака. С огромным трудом добирается до конька и, наконец, получает круговой обзор. И понимает, что надежды нет. Дом окружен сфероидами и их становится только больше.
Попробовать огонь? В доме есть газовый баллон, который подсоединяется шлангом к плите. Если вставить в шланг металлическую трубку, в качестве наконечника, и поджечь газ на выходе, получится примитивный огнемет. Если только баллон не рванет. Не имея в запасе иного плана, Философ начинает спускаться с черепичной крыши к окошку мансарды. До него остается каких-то метров пять, как вдруг он теряет опору и начинает неудержимо скользить к краю кровли.
Глава 7
Философу все-таки удается удержаться на крыше и он ползком добирается до окна мансарды и вваливается внутрь. Спускается на первый этаж дома и обнаруживает в прихожей два черных шара. Скорее по наитию, нежели осознанно, вынимает из кармана шар-свирель. По потолку начинают скользить разноцветные пятна и звучать тихая, хотя и не слишком приятная для слуха музыка. Реакция сфероидов следует немедленно. Отпихивая друг друга, они рвутся к выходу.
Следуя за ними, Философ выскакивает на крыльцо, поднимает подарок Мастера над головой. С шарами, заполонившими двор и истребившими почти всю растительность вокруг, происходит что-то вроде паники. Они начинают разбегаться во все стороны, расталкивая и перекатываясь через своих сотоварищей. Тогда Философ сходит с крыльца. Даже в дневном свете хорошо видны лучи, бьющие из шара-свирели, а музыка звучит почти оглушительно. Черные сфероиды волнами расходятся от него.
– Тельма! – орет Философ. – Давай сюда! Кажется – прорвемся.
Через пару минут на крыльце появляется девушка. Она бросается к своему любовнику, затем – замирает и крадется за ним по пятам. Так они покидают двор, выходят на дорогу. Убийственные шары остаются позади. Мужчина и женщина бредут по дороге к главному шоссе. Философ не опускает шар-свирель, хотя опасность вроде бы миновала. В город идти бесполезно, потому что его нет, да и не перебраться им через широкую промоину, что образовалась в результате наводнения. Остается пробираться к хуторам, чтобы получить помощь от местных жителей. Они проходят около километра и видят приближающийся автомобиль. Это Голубев на своем «козлике».
