Истории Фирозша-Баг
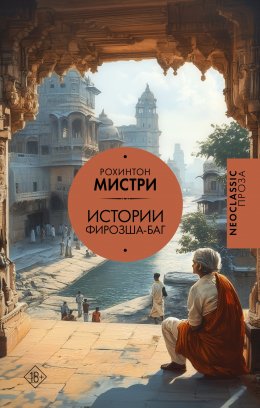
© Rohinton Mistry, 1987
© Перевод. Н. Жутовская, 2024
© Издание на русском языке AST Publishers, 2024
Благоприятный случай
С мучительным стоном Рустом-джи вышел из туалета, зажав в горсти развязанные шнурки пижамы. Безграничная ярость искажала его небритое лицо. Он еле удерживал на себе пижамные штаны в желтых пятнах.
– Мехру! Аррэ[1], Мехру! Ты где? – закричал он. – Говорю тебе, я этого не вынесу! И надо же, чтоб именно сегодня, в Бехрам роз[2]! Мехру! Ты слышишь?
Появилась Мехру. Ее тапочки ритмично шлепали – тюх, тюх – раз-два. Она была намного моложе мужа, в свое время ее выдали за тридцатишестилетнего мужчину совсем юной девушкой, не дав доучиться в школе последний год. Рустом-джи, успешный бомбейский адвокат, показался родителям Мехру удачной партией – никому не приходило в голову, что в пятьдесят он уже будет носить зубные протезы. Кто, охваченный ажиотажем сватовства на пике свадебного сезона, мог бы представить себе вялый беззубый рот, который каждое утро приветствует женщину в самую пору ее расцвета? Никто. И уж, конечно, не Мехру. Она родилась в семье правоверных парсов, соблюдавших все важные даты парсийского календаря, молилась и посещала все положенные церемонии в храмах огня и даже устроила себе комнату с железной кроватью и железным табуретом, какие полагаются женщинам, когда раз в месяц они бывают нечисты.
Мехру с готовностью приняла уготованную ей судьбу и принесла в свой новый дом родительские обычаи. Там ей было разрешено все, кроме «нечистой» комнаты, о которой Рустом-джи даже слышать не хотел. На самом деле в глубине души он, в общем, любил древние традиции, хоть и делал вид, что к ним безразличен. Он с удовольствием ходил в храм огня, нарядившись в сияющую белизной рубашку дагли и накрахмаленные белые брюки. На голову с прекрасными волосами, еще не разделившими участь зубов, он водружал национальную шапку фейто.
На мужнины крики Мехру отреагировала добродушно. Она старалась сохранять спокойствие, поскольку то утро должно было завершиться молитвами в храме огня, и она была готова сделать все, чтобы не испортить прекрасный праздник Бехрам роз. Этот день парсийского календаря был ей особенно дорог: именно в Бехрам роз мать дала жизнь Мехру в родильном доме Ауабай Петит Парси; в этот же день, когда Мехру исполнилось семь лет, она прошла ритуал навджот[3] и семейный священник дастур[4] Дхунджиша ввел ее в лоно зороастрийской церкви; наконец, четырнадцать лет назад в Бехрам роз на ней женился Рустом-джи, и свадьба гуляла до самого утра – говорили, что ни один нищий не ушел голодным, столько еды было выброшено в тот день в помойные контейнеры Кама Гарден.
Да, Бехрам роз многое значил для Мехру. И поэтому она прокричала нараспев:
– И-ду! И-ду!
Рустом-джи взревел в ответ:
– Ты там оглохла, что ли? Мне тебя звать, пока легкие не лопнут?
– Иду-иду! У меня только две руки, а работы полно. Гунга[5] опаздывает, пол не подметен.
– Аррэ! Забудь про свою гунгу-бунгу! – завопил Рустом-джи. – Этот вонючий туалет наверху опять течет! Бог знает, что они там делают, чтобы нас залить! Я сел и только-только начал, как кто-то спустил воду, и мне прямо на голову как ливанет – плюх! – и я весь мокрый! Прямо на голову!
– На голову! Ой-ой-ой! Какой ужас! Как неблагоприятно! Как…
Мехру не находила слов и вся сжалась от отвращения при известии о столь оскверняющем происшествии. Она осторожно заглянула внутрь туалета, опасаясь потока экскрементов и прочих нечистот, но заметила лишь постоянное равномерное капанье – кап-кап-кап-кап – прямо в унитаз, так что нечего было и думать о его использовании. Пока проводился осмотр, позади Мехру с диким, безумным видом кипел от ярости Рустом-джи, все еще сжимавший в кулаке завязки пижамы.
– Почему бы нам на этот раз не вызвать хорошего сантехника вместо того, чтобы жаловаться управляющим Баг? – рискнула предложить Мехру. – Они ведь опять схалтурят.
– Я не дам им ни одной пайсы из своих доходов, добытых тяжким трудом! Пусть платят эти мерзавцы, усевшиеся задницей на мешки с нашими деньгами! – бушевал Рустом-джи, размахивая свободной рукой, не державшей завязки. – Я наложу кучу им в конторе, наложу кучу в их домах! Если надо будет, наложу кучу им под дверью!
– Успокойся, Рустом-джи, не говори такие вещи в Бехрам роз, – увещевала его Мехру. – Если тебе еще хочется в туалет, я попрошу соседку Хирабай тебя пустить.
– Это ту, у которой муж дурак! Я тебе тысячу раз говорил, что не войду к ним в дом, если там Нариман. Да и все желание прошло. Исчезло, – обреченно произнес Рустом-джи. – День полностью испорчен. И кто знает, – добавил он с извращенным удовлетворением, – это даже может кончиться запором.
– Нариман, наверное, пошел в библиотеку. Я попрошу Хирабай, и ты зайдешь к ним попозже. Я сейчас иду туда, чтобы позвонить в контору, а когда вернусь, заварю тебе хорошего горячего чаю. Быстро выпьешь чашечку, и тебе снова захочется, – успокоила мужа Мехру и вышла.
Рустом-джи решил вскипятить себе воды для ванны. Было ощущение, что он с ног до головы покрыт нечистотами.
Медный таз уже стоял наполненный водой. Но его забыли накрыть, поэтому туда нападали с потолка белые кусочки штукатурки. Они плавали на поверхности подобно белым пятнышкам, пляшущим перед глазами Рустом-джи, когда он очень уставал долгим жарким днем в душном здании суда или когда сильно раздражался, крича на мальчишек Фирозша-Баг, шумно игравших на дворовой площадке в крикет.
Штукатурка уже несколько лет сыпалась в его квартире в корпусе «А», как и в большинстве квартир Фирозша-Баг. Небольшой перерыв случился, когда доктор Моди, постоянно теребивший их управляющую компанию (храни за это его господь), настоял на ремонте. Но тот период прошел, и коммунальщики избрали новую тактику – прекратить все ремонтные работы, кроме тех, что необходимы для спасения здания от сноса.
После некоторого периода сопротивления большинство жильцов стали сами следить за состоянием собственных квартир, нанимая маляров и штукатуров. Но Рустом-джи до сих пор упрямо стоял на своем, называя соседей дураками, потому что облегчают жизнь управляющей компании, вместо того чтобы терпеть неудобства среди осыпающихся стен, пока негодяи не капитулируют.
Когда соседи под предводительством Наримана Хансотии решили скинуться и нанять фирму, чтобы покрасить корпус «А», Рустом-джи из принципа отказался вносить свою долю. Здание выглядело мрачно, с годами приобретя ужасный желто-серый оттенок. Но даже симпатичный пенсионер Нариман, каждый день, кроме воскресений, ездивший на своем ««мерседесе»» 1932 года в Мемориальную библиотеку имени Кавасджи Фрамджи читать ежедневные мировые газеты, не смог уговорить Рустом-джи раскошелиться.
Очень расстроенный Нариман вернулся к Хирабай со словами:
– Этот жадюга не желает ничего понимать, у него в башке опилки. И я буду не я, если не сделаю его всеобщим посмешищем.
После их разговора к Рустом-джи прилепилось прозвище «жадюга», которое быстро распространилось по всему Фирозша-Баг, существовало долго и пользовалось большой популярностью.
Нариман Хансотия убедил соседей не отказываться от найма рабочих, а строительной фирме посоветовал оставить непокрашенным фасад квартиры Рустом-джи. Он думал, что тот устыдится, когда дом обновят и на сияющем фасаде будет торчать грязный квадрат. Однако Рустом-джи, наоборот, обрадовался. С торжеством в голосе он говорил всякому встречному-поперечному:
– Мистер Хансотия купил себе костюм с заплатой на одной коленке!
Рустом-джи довольно хмыкнул, вспомнив эту историю. Он наполнил медный таз свежей водой и водрузил его на газовую плиту. Конфорка вспыхнула не сразу, вызвав подозрение, что газ в баллоне скоро закончится. Больше недели прошло с тех пор, как Рустом-джи звонил в треклятую газовую компанию и просил привезти новый баллон. Он задумался о возможном дефиците газа, который уже возникал в прошлом году, когда им пришлось топить углем печку сигри – недельной нормы керосина едва хватало, чтобы приготовить утренний чай.
«Чай, благодарю бога за чай», – подумал он, предвкушая вторую чашку, которую пообещала ему Мехру. Он будет его пить большими глотками обжигающе горячим, наливая из чашки в блюдце, а оттуда прямиком в рот. Возможно, чай заставит работать его сбитый с толку кишечник и хоть отчасти исправит дурные предзнаменования этого утра. Конечно, ему придется довольствоваться туалетом Хирабай Хансотии, хотя его кишечник обычно противится незнакомой обстановке. Ну, поживем – увидим, кто из них все-таки победит: слабительный чай Мехру или сковывающий кишки туалет Хирабай.
Взяв газету «Таймс оф Индия», он удобно устроился в кресле и стал ждать, когда закипит вода. Надо что-то делать с отваливающейся краской и штукатуркой. В некоторых местах они отслоились полностью, так что был виден красный кирпич. Говорили, что эти дома были построены в невероятно короткое время и на очень небольшие деньги. Использовались дешевые материалы, а песок, привозимый с пляжа Чаупатти, смешивался в огромных количествах с нестандартным цементом. В результате во время муссонного сезона по стенам квартир стекали бусинки влаги, подобно поту на спине кули[6], что значительно усиливало износ краски и штукатурки.
Время от времени Мехру указывала мужу на ухудшение ситуации, но Рустом-джи уходил от решений, обвиняя во всем управляющую компанию. Впрочем, сегодня ему не о чем было беспокоиться. Жена не станет заговаривать об этом в такой праздник, как Бехрам роз. Для споров времени не оставалось. Мехру встала рано, собрала детей в школу, приготовила им с собой еду, состряпала на обед дхандар-патио[7] и сали-боти[8], накрахмалила и выгладила его белую рубашку, брюки и дагли, выстирав их накануне вечером, а также свою белую блузку, нижнюю юбку и сари. И надо же, чтобы эти проклятые верхние жильцы устроили протечку в туалете! Если Гаджра, их гунга, не явится в ближайшее время, Мехру придется подметать и мыть пол и только потом украшать входную дверь рисунками мелом, вешать торан[9] (который был доставлен еще в шесть утра) и наполнять квартиру ароматом лобана[10] – считалось, что пропуск или изменение предписанной последовательности действий приводит к несчастью.
Праздновать именно так и никак иначе было собственным выбором Мехру. С точки зрения Рустом-джи, эти обычаи уже умерли и не имели смысла. Кроме того, он постоянно объяснял ей то, что называл психологией каждой гунги: «Если для тебя важен какой-то день, никогда не говори об этом гунге, делай вид, что все как обычно. И никогда, слышишь, никогда не проси ее прийти раньше, потому что она нарочно придет позже». Но Мехру не поддавалась обучению. Она доверяла прислуге, говорила как есть и потому страдала.
Гаджра – это последняя гунга в длинной череде других, убиравшихся в их доме. До нее у них работала Тану.
Каждое утро на протяжении двух лет Тану приходила к ним в квартиру подметать, мыть пол, стирать и мыть посуду. Высокой худощавой женщине, полуслепой и кривоногой, было далеко за семьдесят. Ее лицо и конечности покрывало поразительное количество морщин. Там, где морщин не наблюдалось, кожа была шершавая и шелушилась. У нее были большие уши, которые торчали из-под клочьев спутанных седых волос, смазанных кокосовым маслом. На тонком остром носу непрочно сидели очки (одна линза отсутствовала).
Проблема заключалась в том, что Тану постоянно разбивала либо тарелку, либо чашку, либо блюдце. Мехру была готова терпеть низкое качество подметания и мытья полов, однако битье посуды наносило заметный ущерб семейному бюджету, что, по словам Рустом-джи, в один прекрасный день могло привести к разорению, если гунгу вовремя не остановить.
Периодически Тану грозили сокращением зарплаты и другими более серьезными наказаниями. Но, несмотря на ее благие намерения, чистосердечные признания и обещания, ничего не менялось. К плохому зрению добавлялись трясущиеся неловкие руки старого человека, а также долгая несчастная жизнь – муж, сбежавший и оставивший Тану двух сыновей, которых пришлось поднимать в одиночку и которые теперь стали пьяницами, ленивыми лоботрясами и сущим наказанием ей на старости лет.
– Бедная, бедная Тану! – говорила Мехру, бессильная хоть как-то помочь.
– Очень печально, – соглашался Рустом-джи, однако ничего не предпринимал.
Так что тарелки и блюдца продолжали выскальзывать из старых натруженных рук Тану, продолжали падать и биться, вызывая у Рустом-джи скорбь с финансовым уклоном, а у Мехру обычную жалость – жалость, потому что она понимала, что с Тану скоро придется проститься. Рустом-джи тоже хотел бы почувствовать жалость и сострадание. Но боялся. Он давно решил, что в этой стране нет места жалости, сочувствию и состраданию – они бесполезны или в лучшем случае неуместны.
Было время, когда, учась в колледже и занимаясь волонтерством в Лиге социальной службы, он считал иначе (теперь-то ясно, что это была глупость). Правда, иногда он все еще с нежностью вспоминал сборы членов Лиги, длительные поездки на поездах с песнями и весельем в отдаленные деревни, где не хватало самого необходимого и где волонтеры прокладывали дороги и копали колодцы, строили школы и учили местных жителей. Работа была тяжелая, но все же радостная! И какая замечательная компания собиралась! Вспомнить хотя бы Дару Сорвиголову, как он спрыгивал с мчащегося поезда и снова в него запрыгивал, называя себя Томом Миксом[11] на локомотиве. А Баджун Банановый чемпион – он как-то раз съел двадцать один банан, причем не маленьких бананчиков, а обычных длинных, зеленых. Да, каждый из этих ребят был личностью!
Но Рустом-джи не относился к тем, кто позволяет ностальгии окрашивать события сегодняшнего дня. Он с радостью оставил прошлое в прошлом.
Впрочем, прощание с Тану не нанесло Мехру слишком сильный удар. Тану сама решила уехать из Бомбея, вернуться в деревню, оставленную много лет назад, и закончить свои дни в семействе сестры. Мехру за нее даже обрадовалась. А Рустом-джи с облегчением выдохнул. Он не возражал, когда на прощание Мехру щедро одарила служанку. И даже сам предложил купить ей новые очки. Правда Тану отклонила его предложение, сказав, что очки ей в деревне не особо нужны, ведь там не надо мыть фарфоровые тарелки и блюдца.
Тану уехала, и появилась Гаджра, молодая и соблазнительная, но отличавшаяся крайней медлительностью.
Кокосовое масло – это единственное, что было общего между ней и ее предшественницей. Несмотря на полноту, Гаджра была довольно хорошенькая. Даже чувственная, как думал про себя Рустом-джи. И он нередко наведывался на кухню, когда Гаджра мыла посуду, сидя на корточках у края мори[12]. Еще мальчиком Рустом-джи слышал, что гунги в большинстве своем не носят нижнего белья – ни лифчиков, ни трусиков. В чем он несколько раз убеждался, наблюдая за ними в отцовском доме. Гаджра предоставила ему еще одно доказательство – доказательство, торчавшее из-за выреза ее короткой, выше пупка, кофточки во время стирки или мытья полов. Ловким движением она невозмутимо заправляла пышную грудь обратно в чоли[13], но не раньше, чем Рустом-джи на нее налюбуется. Ее груди были похожи на два спелых манго, как думалось Рустом-джи, сочных и нежно-золотистых.
«Чаши ее преисполнены»[14], – весело говорил он себе, вновь и вновь вспоминая студенческую шутку времен учебы в колледже Святого Хавьера. Хотя в колледже не пытались склонить учащихся к чужой вере, там было заведено знакомить студентов, независимо от их принадлежности к католицизму, с христианскими молитвами и самыми известными псалмами.
Самым горячим желанием Рустом-джи было дождаться того дня, когда груди Гаджры выскочат из чоли настолько, чтобы он смог увидеть соски. «Дада Ормузд[15], хоть раз дай мне на них посмотреть!» – мысленно взывал он, полный желания, и рисовал их в своем воображении: то темно-коричневые размером с горошину, но готовые набухнуть, то черные, крупные и торчащие в безудержном возбуждении.
В ожидании исполнения мечты Рустом-джи с удовольствием наблюдал, как Гаджра каждое утро перед началом работы управляется со своим сари. Чтобы не замочить его в мори, она приподнимала ткань, прокладывала ее меж бедер и заправляла вокруг пояса. При таком изменении фасона складки сари образовывали очень большой и очень мужской бугор в промежности. Но движения стеатопигической Гаджры, когда она завершала свое ежедневное преображение, – расставляла ноги, приседала и оглаживала ягодицы, чтобы сари легло ровнее, – представлялись Рустом-джи чрезвычайно эротическими.
Все это обычно происходило в присутствии Мехру, поэтому Рустом-джи был вынужден притворяться, что читает «Таймс оф Индия», и тайком подглядывать сбоку, сверху или из-под газеты в надежде увидеть желаемое. Иногда он вспоминал стишок, выученный им еще мальчиком на языке маратхи. Эти строчки были частью песенки, которая пелась на каждой шумной и веселой вечеринке, устраиваемой отцом для коллег-парси из Центрального банка. Тогда маленький Рустом еще не понимал их смысла. Слова были такие:
- Свою подружку Сакубай
- Он имел, улегшись снизу…
Прошло много лет и много вечеринок, и наконец подросшему Рустому разрешили сесть за стол с гостями вместо того, чтобы отправляться играть во двор. Наступил день, когда ему позволили сделать глоток виски с содовой из рюмки отца. Мать была против, утверждая, что он еще маленький, но отец сказал:
– Что такое один глоток? Думаешь, он сразу же станет пьяницей?
Рустому понравился этот первый глоток и, ко всеобщему веселью, он попросил еще.
– Парень весь в отца! Хорошо пошла! – хохотали гости.
Именно в это время Рустом начал понимать смысл стишка и всей песни: в ней рассказывалось, как один господин из парси обнаружил под темной лестницей задремавшую гунгу. Господин с легкостью соблазнил ее и продолжил развлекаться дальше. Позже Рустом спел эту песенку своим друзьям в колледже Святого Хавьера, и ее же он вспомнил сегодня, в день Бехрам роз, сидя в кресле с «Таймс оф Индия». Он надеялся, что Гаджра придет до того, как Мехру закончит разговаривать по телефону у Хирабай. В этом случае он сможет не стесняясь глазеть на служанку, и никто ему не помешает.
Но пока Рустом-джи одолевали такие грязные и неприличные мысли, вернулась Мехру. В конторе пообещали немедленно прислать сантехника.
– Я сказала ему: «Бава[16], ты ведь тоже парси и знаешь, как важен для нас Бехрам роз», и он ответил, что понимает и пришлет к нам работника починить туалет.
– Эта грязная свинья понимает? Ха! Теперь, когда он знает про протечку, он нарочно будет тянуть, чтоб еще больше нам напакостить. Иди, будь искренней со всеми, иди и страдай.
И Мехру пошла заваривать мужу чай.
Раздался звонок. Рустом-джи знал, что это Гаджра. Но, поспешив открыть ей дверь, он уже чувствовал, что движется к разочарованию и что охватившее его вожделение будет прервано так же грубо, как работа кишечника.
Предчувствие оказалось верным. Мехру выскочила из кухни, насколько ей позволяли шлепающие тапки, выбранила Гаджру за опоздание, велела ей только подмести пол – остальное может подождать до завтра, – а потом уходить домой. Сникнув, Рустом-джи снова принялся за «Таймс оф Индия».
Мехру торопливо нанесла мелом рисунок на входной двери, совсем не такой яркий и изысканный, как собиралась. Время поджимало, к одиннадцати она должна была быть в храме огня.
Опасаясь неблагоприятного влияния опоздания, она повесила над каждой дверью торан (цветы, с шести утра дожидавшиеся своего часа, к счастью, еще сохраняли свежесть) и пошла одеваться.
Когда она была готова выходить, Рустом-джи все еще ублажал чаем свой кишечник. Недовольный быстрым уходом Гаджры, он молча переживал постигшую его неудачу и винил во всем Мехру.
– Иди без меня, – сказал он ей. – Встретимся в храме.
Мехру села на автобус маршрута Н. Она была ослепительна в своем белом сари, которое носила по-парсийски, перекинув через правое плечо и накрыв голову. Когда автобус Н выехал из района Фирозша-Баг, он принялся петлять по узким улочкам нищих кварталов. Он шел через Бхинди Базар, Лохар Чаул и Кроуфорд Маркет, с трудом пробираясь среди автомобилей и пешеходов, ручных тележек и грузовиков.
Обычно во время поездки в храм огня, пока автобус полз по своему маршруту, Мехру внимательно наблюдала разворачивающиеся перед ней уличные картинки и удивлялась жизнелюбивой изобретательности, делавшей возможным человеческое существование в таких убогих, тесных норах и мрачных, жутких зданиях. Однако сейчас Мехру сидела, не замечая суету и бедность этих узких улочек. Ничто не нарушало ее безмятежность, сопровождавшую предвкушение абсолютного умиротворения и спокойствия, которые скоро охватят ее вместе с другими прихожанами в храме огня.
Она с удовольствием посмотрела на свое белое сари, ниспадавшее складками вдоль фигуры, и поправила край надо лбом. Когда она вернется домой, сари будет благоухать сандаловым деревом, потому что впитает аромат от дыма священного огня. Она повесит его рядом с кроватью и, чтобы сохранить запах как можно дольше, не станет его сразу стирать. Она вспомнила, как в детстве ждала, когда из храма вернется мать, чтобы уткнуться лицом ей в колени и вдыхать сандал. От дагли ее отца шел такой же аромат, но мамино белое сари ей нравилось больше, оно было такое мягкое. А потом начинался ритуал чашни[17]: все братья и сестры в шапках, которые положено надевать во время молитвы, с удовольствием садились за обеденный стол, чтобы полакомиться фруктами и сладостями, освященными во время молитвенных обрядов.
Мехру немного загрустила, когда подумала о своих детях, не принимавших такие вещи всерьез. Ей приходилось уговаривать их завершить чашни, иначе фрукты и сласти так и оставались стоять на столе несколько дней, незамеченные и нетронутые.
Даже ребенком Мехру обожала ходить в храм огня. Ей нравились его ароматы, его спокойствие, его служители в белых одеждах, проводящие прекрасные, таинственные ритуалы. Больше всего она любила святилище, святая святых, место темное и загадочное, с мраморным полом и мраморными стенами, куда мог войти только совершающий службу священник, чтобы следить за священным огнем, горевшим на мраморном пьедестале в большом сияющем серебряном афаргане[18]. Ей казалось, она может часами сидеть у святилища и смотреть, как языки пламени танцуют свой танец жизни, а искры улетают к гигантскому темному куполу, похожему на небо. Это был ее собственный ключ ко вселенной, делающий понятия вечности и бесконечности не такими страшными.
В старших классах она ходила в храм огня перед экзаменационной неделей. Клала принесенную сандаловую палочку на серебряный поднос у входа в святилище и благоговейно наносила себе на шею и лоб серый пепел, оставленный для этой цели на подносе. Дастур Дхунджиша в ниспадающей белой одежде всегда встречал ее объятиями и неизменно называл дорогой дочкой. Запах его одеяния напоминал тонкий сандаловый аромат материнского сари. Успокоившись и укрепившись духом, Мехру шла сдавать экзамен.
Дастуру Дхунджише сейчас было уже почти семьдесят пять, и он не всегда служил в храме, когда туда приходила Мехру. В некоторые дни, когда дастур неважно себя чувствовал, он оставался в своей комнате, а молитвы и ритуалы поручал более молодому священнику. Но сегодня, надеялась Мехру, он все же выйдет. Ей хотелось увидеть милое лицо из своего детства, длинную седую бороду и вселяющее спокойствие брюшко.
Выйдя замуж за Рустом-джи и переехав в Фирозша-Баг, Мехру продолжала посещать все храмовые церемонии у дастура Дхунджиши, не считаясь с риском вызвать раздражение дастур-джи, жившего в их же доме на втором этаже. Этот священник полагал, что именно к нему должны ходить жители Фирозша-Баг и что всем им следует участвовать в обрядах в агьяри[19], расположенном по соседству, пока хватает этого помещения. Но Мехру настаивала на своей приверженности Дхунджише и не обращала внимания ни на глубокое возмущение соседа-священника, ни на выговоры Рустом-джи.
Под отеческими объятиями Дхунджиши, утверждал ее муж, таится похотливое желание старика, который научился эксплуатировать свой благочестивый образ: «Ему, старому козлу, нравится трогать и щупать женщин – и чем они моложе, тем ему приятнее, тем больше удовольствия он получает, когда жмет их и тискает». Мехру ни на секунду не верила мужу и всегда просила его не говорить плохого о таком святом человеке.
Но это еще не все. Рустом-джи клялся, будто всем известно, как Дхунджиша и его собратья обмениваются непристойными замечаниями между строчками молитвы, вставляя их по мере чтения священных текстов, особенно в те дни, когда на церковные церемонии приходит много элегантных женщин брачного возраста в красивых, ярких нарядах. В качестве любимого примера он часто приводил строчки молитвы «Ашем Ваху»[20]:
- Ашем Ваху,
- где еще такие сиськи найду…
Этот шуточный вариант был популярен среди людей не слишком религиозных, и Мехру считала его еще одним доказательством непочтительности Рустом-джи. Он уверял ее, что священники очень умело наловчились распевать эти слова, и потому никто ничего не замечает. Кроме того, что не менее важно, все дастуры, уподобляясь бандитам в масках, обязаны повязывать поверх носа и рта белый платок, чтобы дыханием не осквернить священный огонь, а это мешает прихожанам как следует расслышать их бормотание. Рустом-джи утверждал, что только натренированное ухо различит сквозь их бубнеж, где слова молитв, а где непристойности.
Автобус Н остановился на Марин-лайнс. Мехру вышла и направилась пешком по Принсесс-стрит, удивляясь обилию машин. Автомобили и автобусы стояли в пробке по всей эстакаде от Принсесс-стрит до Марин-драйв.
Мехру подошла к храму огня и увидела, что у запертых ворот стоят две полицейские машины и полицейский фургон. Она ускорила шаг. Насколько она помнила, последний раз эти ворота были закрыты во время индо-мусульманских стычек после раздела страны, и ей было страшно представить, какое же несчастье могло произойти теперь. Парси и не только парси вытягивали шеи и всматривались во двор сквозь прутья ограды. Все они были охвачены общим человеческим чувством – любопытством. Полицейский пытался уговорить людей разойтись.
Мехру в нерешительности потопталась в стороне, но потом стала пробираться сквозь толпу. Она увидела, что дастур Котвал вышел из здания храма и явно направился к воротам. Проталкиваясь через сгрудившихся зевак, она попыталась привлечь к себе его внимание. Как и дастур Дхунджиша, он жил при храме и хорошо знал Мехру.
Дастур Котвал подошел к воротам с объявлением для собравшихся парси: «Все молитвы и церемонии, запланированные на сегодня, отменяются, кроме молитв об усопших». И ушел прежде, чем Мехру успела протиснуться ближе.
Теперь из толпы до нее стали доноситься тревожные слова: «…убит прошлой ночью… заколот в спину… полиция и уголовный розыск…». Мехру совсем пала духом. Неужели все это случилось в Бехрам роз, который она так старалась сделать идеальным? Почему жизнь так жестоко вывернула все наизнанку и она ничего не может изменить? Мехру решила остаться, пока не поговорит с кем-нибудь, кому известно, что именно произошло.
После ухода Мехру Рустом-джи допил чай и решил перед ванной немного подождать, чтобы еще раз дать шанс своему упрямому кишечнику.
Но, когда за чтением «Таймс оф Индия» прошли очередные десять минут, он сдался. Готовясь принять ванну, он выгнул спину, выставил зад, приподнял одну ногу и стал тужиться. Ничего. Даже не пукнул ни разу. Затем он проверил свою дагли и брюки. Они были накрахмалены как надо – не слишком мягко и не слишком жестко. Погладил живот в надежде, что ему не придется идти в туалет в храме огня; там это заведение было ужасно: следы мочи вокруг унитаза, не смытые экскременты. При виде такой картины можно было подумать, что туалетом пользовались не парси, а необразованные, грязные, темные варвары.
Рустом-джи совершил омовение, пытаясь забыть отвратительную струю, полившую его сверху, когда он уселся под ней. Слава богу, с каждой кружкой горячей воды, набранной из ведра и вылитой на спину, выплеснутой на лицо и ручейками стекавшей по паху и бедрам, эта омерзительная струя превращалась в воспоминание, которое становилось все туманнее. Очищающая вода, уходя в канализационную трубу, уносила далеко-далеко все, что еще еле брезжило в памяти, и, когда он вытерся, уже ничего не осталось. Рустом-джи вновь был самим собой.
Теперь от него исходил «свежий и освежительный» аромат, как гласила реклама жизнеутерждающего «Спасительного мыла». «Спасительное мыло» и виски «Джонни Уокер» – это те единственные вещи, которые не подпадали под действие законов о потреблении предметов роскоши, дошедших до Рустом-джи через три поколения, и он наслаждался обоими. За прошедшие годы изменилось только одно: виски «Джонни Уокер», при англичанах имевшееся в свободном доступе, сейчас можно было раздобыть только на черном рынке, и в связи с этим Рустом-джи постоянно печалился по поводу ухода англичан.
Он вышел из ванной, довольный, что кишечник его больше не беспокоит. Суета, испортившая утренние часы, ушла, и его действиями теперь руководила вновь обретенная живость. Впрочем, когда он одевался, затруднение вызвали банты, потому что обычно их завязывала Мехру. Но в теперешнем расположении духа он справился сам. Проведя в последний раз расческой по набриолиненным волосам, Рустом-джи водрузил на голову фейто, еще раз для большей уверенности подергал концы бантов и посмотрел на себя в зеркало. Довольный увиденным, он был готов отправиться в храм огня.
Выйдя из дома в прекрасном настроении, Рустом-джи направился к остановке автобуса Н. Все мальчишки ушли в школу, поэтому двор был пуст. Вечером их шумные игры наполнят его криками и грубой возней, и Рустом-джи придется с ними повоевать, если он хочет тишины и спокойствия. Уверенный в своей власти над ребятней, он миновал остановку автобуса Н и решил пройти дальше мимо угрожающего зева Тар Галли до экспресса А-1. Белизна собственных накрахмаленных одежд вселяла чувства великолепия и неуязвимости, и он не возражал, чтобы все глазели, как он вышагивает по улице.
На остановке автобуса А-1 выстроилась длинная очередь. Рустом-джи проигнорировал ее извивающийся хвост и занял место в самом начале. Вперив благостный взор в пустоту и не обращая внимания на протесты по-змеиному петляющей очереди, он размышлял, где лучше выбрать себе место – на нижнем или на верхнем ярусе автобуса. Решил, что на нижнем, – на верхний будет нелегко подняться по крутым ступенькам с достоинством, приличествующим его одеянию.
Подъехал автобус, но кондуктор начал кричать еще до полной остановки: «Все наверх! Все поднимаются наверх!» Рустом-джи, однако, уже решил для себя этот вопрос. Не обращая внимания на кондуктора, он вцепился в поручень над головой и, весьма довольный, остался внизу. Обычно воинственный кондуктор на этот раз никак не отреагировал.
Автобус приближался к Марин-лайнс, и Рустом-джи начал пробираться к двери, готовясь к выходу. Ему это вполне удалось, хотя автобус все время трясся и подпрыгивал. Сохранив важный вид и не помяв наряд, Рустом-джи добрался до двери и стал ждать.
Но он не подозревал, что на верхнем ярусе засела судьба, приняв образ рта, жующего табак с бетельным орехом. Этот рот наполнился слюной, а уставшим челюстям захотелось расслабиться. Когда автобус затормозил у Марин-лайнс, судьба высунулась в окно и выплюнула изрядное количество липкой и тягучей темно-красной жижи.
Рустом-джи в сияющем под полуденным солнцем дагли сошел с автобуса и ступил на тротуар. Тонкая струя табачного сока вонзилась ему прямо между лопатками: кроваво-красная на ослепительно-белом.
Почувствовав ее, Рустом-джи развернулся. Посмотрел наверх и увидел лицо с алыми губами и стекавшую с них струйку сока. Рот при этом продолжал жевать с большим удовольствием. В то же мгновение Рустом-джи понял, что случилось. Он взревел в бессильной агонии, завопил страшным голосом, словно в спину ему всадили нож. Автобус тем временем медленно отъехал от остановки.
– Саала ганду![21] Грязный сукин сын! Бесстыжая тварь! Выплевывать пан[22] из автобуса! Я сейчас тебе морду начищу, ты, урод!
Вокруг Рустом-джи собралась небольшая толпа. Кто-то любопытствовал, кто-то сочувствовал, но большинство веселились.
– Что случилось? Кто ударил этого?…
– Да нет же, кто-то выплюнул пан прямо на его дагли…
– Хе-хе-хе! Бава-джи[23] получил выстрел из пан-пичкари[24] прямо в свою белую дагли…
– Бава-джи, бава-джи, теперь твоя дагли стала еще лучше – белая с красным, как в цветном кино…
Насмешки и поддразнивание в дополнение к ярости от табачного плевка заставили Рустом-джи совершить поступок опасный и глупый. Он перенес свой гнев с преспокойно удаляющегося автобуса на толпу, упустив из виду тот факт, что, в отличие от автобуса, толпа была рядом и могла жестоко ответить на его ругань.
– Аррэ, вы, гнусные гхати[25], чего ржете? Постыдились бы! Сала чутия[26] выплюнул пан на мою дагли, и вы думаете, это смешно?
По толпе пробежала волна недовольства, которая сменила беззаботное подтрунивание, веселившее людей при виде бава-джи, помеченного жеваным паном.
– Аррэ, что это он о себе возомнил! Еще и ругается, оскорбляет нас!
Кто-то толкнул Рустом-джи сзади.
– Бава-джи, мы тебе сейчас все кости переломаем. Ишь развыпендривался! Вмажем-ка ему, чтоб мало не показалось!
– Аррэ, мы тебя, говнюка, на кусочки порвем!
Люди толкали Рустома-джи со всех сторон. Сорвали с его головы фейто и дергали за банты дагли.
Забыв о возмущении, Рустом-джи начал бояться за свою жизнь. Он понял, что попал в серьезную переделку. Вокруг не было видно ни одного дружелюбного лица, теперь все хотели развлечься, только уже по-другому. В панике он попытался укротить их враждебность.
– Аррэ, яр[27], зачем обижать старика? Джане де, яр[28]. Пустите меня, друзья!
И тут его отчаянные поиски выхода были вознаграждены внезапным озарением, которое вполне могло сработать. Он сунул в рот пальцы, снял протезы и выплюнул их на ладонь. Две ниточки слюны, сверкая в полуденном солнце, еще какое-то мгновение соединяли протезы с деснами, но потом оборвались и потекли по подбородку. С огромным трудом, захлебываясь и брызгая слюной, он сказал:
– Посмотрите, какой я старик, даже зубов нет.
И поднял руку с протезами, чтобы всем было лучше видно.
Опавший рот и шлепающие губы успокоили толпу. По ней прокатились смешки. Клоун, живший в Рустом-джи, торжествовал. Он восстановил безобидность первоначальной веселенькой картинки, фейто вновь вернулась на голову, а протезы в рот.
Затем под улыбающимися взглядами Рустом-джи развязал банты своей дагли и снял ее. О том, чтобы идти в храм огня, не могло быть и речи. На глаза навернулись слезы горечи и стыда, и, словно сквозь туман, он различил кроваво-красное пятно. Даже сняв дагли, он чувствовал на спине небольшую влажность – слюна проникла сквозь дагли и судру[29]. Второй раз за день его испачкали самым отвратительным образом.
Кто-то протянул ему газету, чтобы завернуть дагли, кто-то поднял пакет с сандалом, который он уронил. Рустом-джи выглядел совершенно беспомощным. Тут подошел автобус, и все уехали.
Он остался стоять один с завернутой в газету дагли и сандалом в оберточной бумаге. Фейто сдвинулась набекрень. Рустом-джи больше не выглядел неприступным, да и не чувствовал себя таковым. Слабым жестом он остановил такси. Это был маленький «моррис», и ему пришлось согнуться в три погибели, чтобы залезть внутрь, не сбив с головы шапку.
Ужас, который Мехру испытала у храма огня, понемногу утих по дороге домой. Ее мысли обратились к Рустом-джи. Он, конечно, уже должен был закончить омовение и приехать к храму. Мехру простояла там больше двух часов, сначала за воротами, потом внутри двора. Может, Рустом-джи уже узнал, что произошло, надеялась она, может, ему известно, что молитвы отменены.
Мехру повернула ключ в замке и вошла в квартиру. Рустом-джи лежал, раскинувшись, в кресле. Рядом была брошена дагли с кричащим кроваво-красным пятном от пана.
Он удивился, что Мехру вернулась домой так рано и такая удрученная. Обычно она приходила из храма огня с выражением, близким к блаженству. Сегодня же, подумал Рустом-джи, такое впечатление, что она встретилась там с самим сатаной.
Мехру приблизилась к чайному столику, и луч света упал на дагли.
– Дагли дастура Дхунджиши! Но… но… как ты?…
– Что за ерунду ты несешь? Какая-то свинья плюнула паном на мою дагли. – Он решил не рассказывать, как еле унес ноги от толпы на остановке. – Откуда у меня возьмется дагли этого жирного мошенника Дхунджиши?
Мехру без сил опустилась на стул.
– Бог простит тебе эти слова, потому что ты не знаешь, что дастур Дхунджиша убит!
– Что?! В храме огня? Но кто посмел?…
– Я тебе все расскажу, только подожди минутку. Сначала мне надо выпить воды, я очень устала.
Вся самоуверенность Рустом-джи улетучилась. Он побежал на кухню за стаканом воды. И потом Мехру рассказала ему, как Дхунджишу заколол чашнивала[30], которого наняли на работу в храм. Этот человек признался в содеянном. Он пытался украсть несколько серебряных подносов из храма, когда в залу зачем-то зашел Дхунджиша. Чашнивала запаниковал и убил его. Затем, чтобы избавиться от тела, бросил его в священный колодец при храме.
– Тело нашли сегодня утром, – рассказывала Мехру. – Потом меня пустили внутрь, где полиция осматривала тело. Ничего не было снято, он все еще был в дагли, и она выглядела в точности так же, как…
Она шевельнула рукой, указывая на рубашку Рустом-джи на чайном столике, содрогнулась и замолчала.
Ей надо было чем-то себя занять. Она отнесла свой стакан обратно на кухню вместе с чашкой Рустом-джи, из которой он пил утром, и разожгла плиту, чтобы приготовить обед. Вернулась в комнату, внимательно рассмотрела пятно от пана на рубашке и поразмышляла вслух, как лучше его вывести, потом вновь замолчала.
Рустом-джи тяжело вздохнул.
– Что творится в мире, не понимаю. Парси убивает парси… чашнивала и дастур…
Он тоже замолчал, медленно качая головой. Задумчиво посмотрел на стены и потолок, где краска и штукатурка готовы были отвалиться, готовы были упасть в их кастрюли и сковородки, в их тазы с водой, в их жизни. Завтра Гаджра придет и сметет с пола белые хлопья, вычистит кастрюли и сковородки, нальет свежую воду в тазы. Принесут «Таймс оф Индия», он почитает ее за чашкой чая и увидит, как Нариман Хансотия проедет мимо на своем «мерседес-бенце» 1932 года в Мемориальную библиотеку имени Кавасджи Фрамджи читать ежедневные мировые газеты. Мехру смоет с входной двери рисунок, сделанный цветными мелками, и снимет торан над дверями – к утру цветы засохнут и скукожатся.
Мехру посмотрела на Рустом-джи, сидящего в задумчивости в своем кресле, и где-то внутри почувствовала печаль от его встревоженного и отстраненного взгляда. Ее тронул редкий проблеск нежности, который вдруг пробился из-под грубой оболочки. Она тихонько скользнула в спальню переодеть сари.
Размотанные метры мятой материи, так и не впитавшие сандалового аромата, упали на кровать. Не было смысла складывать и вешать сари рядом с постелью, его следовало прямиком отправлять в мойку. Она посмотрела на сари почти с отчаянием и заметила на стене рядом с кроватью следы струек, оставшиеся после прошлогодних дождей.
В этом году сезон дождей должен скоро начаться, и тогда муссоны вымоют узкие улочки, по которым она проезжала сегодня утром по дороге в храм огня. А в квартире дождь проявится свежими бусинками влаги, заменив прошлогодние следы на новые.
Запах дхандар-патио, доносившийся из кухни, незаметно проник в ее мысли. Он напомнил, что Бехрам роз еще не кончился. Но она вернулась на кухню и выключила плиту – знала, что обедать рано. Однако все же налила две чашки чая. Между десятью и четырьмя часами Мехру никогда не пила чай, это было одно из ее строжайших правил. Сегодня ради Рустом-джи она сделает исключение.
Мехру вернулась к мужу, спросила, готов ли он обедать, и, получив, как и ожидала, отрицательный ответ, улыбнулась про себя с ласковым удовлетворением – как же хорошо она знает своего Рустом-джи! В это мгновение она чувствовала, что они очень близки.
Он медленно из стороны в сторону покачал головой, задумчиво глядя в пространство.
– В желудке все еще тяжесть. Наверное, запор.
– А что с туалетом?
– Все еще течет.
Мехру взяла на кухне две чашки и вновь вошла в комнату.
– Тогда еще чашечку?
Рустом-джи благодарно кивнул.
Однажды в воскресенье
Наджамай собиралась запереть свою квартиру в Фирозша-Баг и на один день уехать поездом к семейству сестры в Бандру.
Она суетливо перемещала свою тушу, поворачивая ключи в навесных замках всех семнадцати шкафчиков, а затем дергала каждый, чтобы удостовериться, что затворный механизм держит дужку как следует. Очень скоро от волнений и чрезмерных усилий у нее началась одышка.
Одышка напомнила ей, что три года назад она делала операцию по удалению жировой ткани из брюшной полости и груди. Врач сказал ей: «Глядя в зеркало, вы не заметите никакой особой разницы, но, когда вам будет за шестьдесят, вы оцените результат. Тело не обвиснет».
Сейчас ей пятьдесят пять, и вскоре она узнает, прав ли был врач, если милостивый бог подарит ей еще лет пять жизни. Наджамай не ставила под сомнение пути милостивого бога, хотя он забрал у нее ее Соли в тот же год, когда сначала Долли, а следом Вера отправились за границу учиться в университете.
Сегодня первое воскресенье, когда квартира будет целый день стоять пустая. «В каком-то смысле неплохо, – размышляла Наджамай, – что соседи, Техмина рядышком и Бойсы ниже этажом, так часто пользуются моим холодильником. Любой человек с нехорошими намерениями по поводу пустой квартиры крепко задумается, когда увидит, как они шныряют туда-сюда».
На время успокоенная мыслью о соседях, которых в остальное время считала надоедами, Наджамай отправилась в путь. Она кивнула ребятам, игравшим во дворе. На улице было не очень жарко, дул легкий ветерок, и мир казался вполне дружелюбным. Дорога занимала двадцать минут, а потом у нее оставалась масса времени до экспресса, отходящего в 10:15. Она приедет к сестре задолго до обеда.
В одиннадцать тридцать Техмина осторожно открыла дверь и выглянула наружу. Она удостоверилась, что коридор пуст и по дороге к холодильнику Наджамай она не рискует встретиться с кем-нибудь из Бойсов. «Как не стыдно этим людям пользоваться добротой бедной женщины, – думала Техмина. – Наджамай сказала всего лишь: "Пожалуйста, можете пользоваться холодильником". Но это она только из вежливости. А Бойсы ведут себя так, будто им уже принадлежит полхолодильника».
В тапках и накидке она прошаркала вперед, зажав в руке пустую рюмку и ключи от квартиры Наджамай. От Техмины пахло гвоздикой, которая не вынималась изо рта по двум причинам: она препятствовала приступам тошноты и облегчала хроническую зубную боль.
Проклиная плохую видимость в коридоре, Техмина осторожно проследовала дальше. Даже в самый солнечный день в коридоре неизменно было почти темно. Она начала возиться с замками. Хорошо бы ее катаракты поскорее созрели и их можно было бы удалить.
Наконец оказавшись в квартире, она распахнула дверцу холодильника, чтобы насладиться освежающим потоком холодного воздуха. Заметила странного вида пакет, завернутый в пластик, повертела его в руках, понюхала и решила не раскрывать. Морозилка была почти пустая. Бойсы еще не принесли свои еженедельные пакеты с говядиной.
Техмина бросила в принесенную рюмку два кубика льда – холодный лимонад в середине дня она любила не меньше, чем виски с содовой вечером, – и начала закрывать квартиру. Но ее борьба с замками и засовами Наджамай была внезапно прервана, когда сзади послышались шаги.
– Фрэнсис!
Фрэнсис выполнял разную несложную работу. Не только для Техмины и Наджамай в корпусе «С», но для всех жителей Фирозша-Баг, кому требовались его услуги. Это был единственный источник дохода парня с тех пор, как его не то сократили, не то уволили (точно никто не знал) из мебельного магазина на противоположной стороне улицы, в котором он раньше работал рассыльным. Магазинный навес все еще служил ему крышей, хотя никакой другой крыши он никогда и не знал. Как ни странно, владелец магазина не возражал, и место было удобное – Техмине, Наджамай или любому другому соседу нужно было только выглянуть с веранды, помахать рукой или похлопать в ладоши, и Фрэнсис являлся на зов.
Как всегда расплывшись в улыбке, Фрэнсис подошел к Техмине.
– Нечего на меня глазеть, идиот, – сказала Техмина. – Проверь лучше, хорошо ли заперта дверь.
– Да, бай[31]. А когда Наджамай вернется? Она говорила, что даст мне сегодня работу.
– Никогда. Про сегодня не может быть и речи. Она приедет очень поздно. Ты, наверное, ошибся. – Громко причмокнув, Техмина переложила гвоздику к другой щеке и продолжала: – Сколько раз я тебе говорила: вынь пробки из ушей и слушай внимательно, когда люди с тобой разговаривают. Но нет. Ты никогда не слушаешь.
Фрэнсис снова заулыбался, пожал плечами и, чтобы ублажить Техмину, ответил:
– Простите, бай, это моя ошибка!
Росточку в нем было чуть больше полутора метров, но силой он обладал, совершенно не соответствовавшей такому щуплому телосложению. Однажды на кухне у Техмины во время генеральной уборки он поднял каменную плиту для растирания специй. Она весила не меньше двадцати пяти килограммов, и Техмина поразилась, как Фрэнсис держал ее – одними лишь кончиками пальцев. Потом она рассказала об этом случае Наджамай. Обе женщины подивились его способностям и рассмеялись, когда Техмина заявила, что парень наверняка силен, как бык.
Голосом как можно более смиренным Фрэнсис спросил:
– А у вас для меня работы не найдется?
– Нет. И мне не нравится, что ты маячишь тут в коридоре. Когда есть работа, мы тебя зовем. Давай-ка уходи.
Фрэнсис ушел. Техмина, конечно, могла и обидеть, но ведь и ему нужно было раздобыть хоть несколько пайс, которые соседи по доброте душевной давали ему заработать, и, кроме того, оставшихся от ужина объедков, которые ему обычно разрешала забрать Наджамай. Фрэнсис вернулся под тень магазинного навеса.
Пока Техмина охлаждала лимонад кубиками льда Наджамай, внизу Силлу Бойс промывала и раскладывала говядину в семь одинаковых пакетов. Ей было неприятно чувствовать себя обязанной Наджамай из-за холодильника, хотя, спору нет, пользоваться им было очень удобно. «Вообще-то, – убеждала она себя, – мы в долгу не остаемся, она каждый день берет у нас почитать газету. И каждое утро я забираю ее молоко и хлеб, так что ей не приходится рано вставать. Мадам даже не удосуживается спуститься, мои сыновья должны все носить ей наверх». Так каждое воскресенье она размышляла и уговаривала себя, распределяя мясо по пластиковым пакетам, которые ее сын Керси позже засовывал в морозилку Наджамай.
Сейчас Керси был занят починкой своей крикетной биты. Шнур, намотанный вокруг ручки, разошелся и сбился черным пучком у самого ее конца, оголив почти половину. «Похоже на лобковые волосы», – думал Керси, распутывая шнур, а потом заново обматывая и приклеивая его вокруг ручки.
Бита была четвертого размера – слишком маленькая для него, хотя он почти уже не играл в крикет. Однако эта игра почему-то до сих пор занимала его мысли. Бита Керси все еще была довольно пружинистой и могла послать мяч к линии границы, чем разительно отличалась от биты его брата Перси. Та пребывала в плачевном состоянии. Древесина лопасти высохла и потрескалась, ручка, давно утратившая и резиновый грип, и шнур, раскололась, а место соединения лопасти с ручкой вообще еле держалось. Но Перси было все равно. Ему всегда было все равно, кроме разве что одного случая, когда приезжала команда из Австралии и он сидел как приклеенный у радио, слушая комментатора. Теперь Перси увлекся аэропланами, все время собирал модели, проводил над ними по многу часов и запоем читал книжки про летчика Бигглса.
А вот Керси со времен начальной школы хотел серьезно играть в крикет. В пятом классе его наконец выбрали в классную команду. Однако накануне матча их капитан заболел свинкой, и его место занял другой. Тот быстренько отправил Керси в запасные, выдвинув на его место своего дружка. На этом серьезная игра для Керси закончилась. Некоторое время назад по утрам в воскресенье отец брал его вместе с друзьями из Фирозша-Баг поиграть на майдан[32] – тот, что на Марин-драйв. Сейчас они немного играли на площадке во дворе. Но это было не то же самое. И потом им все время мешали разные люди, к примеру старик Рустом-джи из корпуса «А». Из всех ругавшихся и вопящих соседей жадюга Рустом-джи кричал громче и дольше других. Он все время грозился конфисковать биту и мяч, если ребята сейчас же не прекратят.
Теперь Керси своей битой в основном убивал крыс. Крысиный яд и всяческие ловушки также использовались жильцами с неиссякаемым упорством. Но популяция грызунов, ведомая каким-то шестым чувством, их обходила. Так что бита Керси оказалась незаменимой.
Мать гордилась ловкостью своего сына и однажды похвасталась ею перед соседкой Наджамай с верхнего этажа: «Такой молодой и такой смелый! Как он гоняется за этими мерзкими тварями! И ведь никогда не промахнется». Это была ошибка, потому что в следующий раз, когда Наджамай заметила в своей квартире крысу, она сразу же послала за Керси. Крыса забралась в комнату дочерей, и Керси бросился следом. Вера только что вышла из ванной и была не одета. Она завизжала сначала при виде крысы, а потом второй раз, когда к ней вбежал Керси. Парню стало непросто следить за маневрами крысы, и та преспокойно ускользнула. Вскоре после этого Вера уехала за границу учиться в университете, последовав примеру своей сестры Долли.
Когда Керси впервые убил крысу битой, картина получилась довольно кровавая. Может, им руководили азарт погони или ярость, вызванная непрошеной гостьей, или он просто не осознавал хрупкость этого существа из меха и костей. Бита опустилась на крысу с такой силой, что крысу просто расплющило. Темно-красное пятно расползлось по полу, и Керси чуть не стошнило. Он понял, какое оно липкое, только когда попытался вытереть его старой газетой.
Говядина была готова для заморозки. С семью пакетами мяса и ключами Наджамай в кармане Керси потопал наверх.
Когда дочери Наджамай уехали за границу, с ними вместе исчезла и присущая юности чувственность, которая наполняла квартиру и кружила голову Керси, испытывавшего возбуждение в такой день, как сегодня, когда никого не было дома и у него появлялась возможность исследовать спальню Веры и Долли, покопаться в их нижнем белье, вечно повсюду разбросанном, поперебирать эти кружева и оборки, потереться о них, а однажды ему едва удалось спасти их от неожиданного конца. Теперь же обследование комнаты не принесло ему ничего, кроме гигантского белья Наджамай. Керси даже не мог назвать эти вещи лифчиками и трусиками – огромный размер не давал им права называться такими нежными словами.
Печальный, опустошенный и обделенный, он вяло спускался по лестнице. На каждой деревянной ступеньке под грузом лет и весом жильцов образовались стоптанные углубления, и Керси тоже чувствовал, что весь измучен. Не так давно он мог справляться с периодами уныния и подавленности, уткнувшись в книги Энид Блайтон. Уже через несколько минут он становился участником приключений «Великолепной пятерки» или «Тайной семерки», идиллической жизни в английской деревушке, где играл с собаками, скакал по лугам на коне, влезал на горы, ходил в походы, а если дело было зимой, лепил снеговика и играл в снежки.
Но в последнее время книжки уже не спасали, и он от них избавился. Из-за увлечения такими глупыми детскими фантазиями над ним смеялся Перси, предлагая взамен собственное хобби – воздушные бои вместе с Бигглсом и командой из ВВС Великобритании.
Все в Фирозша-Баг стало пресным с тех пор, как падмару[33] Песи отправили в школу-интернат. И все из-за этого хлюпика Джахангира Бальсара, Книжного Червя.
Фрэнсис вернулся в коридор и, когда Керси прошел мимо, расстроился. Обычно Керси останавливался поболтать, он хорошо относился ко всей прислуге в доме, особенно к Фрэнсису. Отец научил Керси играть в крикет, зато Фрэнсис объяснил ему, как правильно запускать воздушного змея. Доставив Наджамай с распределительного склада рис и сахар, полагавшиеся ей по квоте, Фрэнсис заработал пятьдесят пайс и купил на них змея и бечевку, а потом с важным видом выучил Керси всему, что сам знал о воздушных змеях.
Однако время, которое они проводили вместе, было проклятием для родителей Керси. Они смотрели с крайним неодобрением на их растущую дружбу, да и все соседи единогласно решили, что не пристало мальчику-парсу водиться с парнем, который ничуть не лучше бездомного нищего. Он бы давно умер от голода, если бы они по своей доброте не подкидывали ему работу. Ничего хорошего из этого общения не выйдет, говорили они.
Но, к большому сожалению, когда сезон ветров и запусков змея закончился, Керси и Фрэнсис принялись заводить юлу или играть в стеклянные шарики. Оба этих занятия также считались неподходящими для мальчика-парса.
В шесть тридцать Техмина отправилась в квартиру Наджамай за льдом. Кубики льда в этот час были самые ценные – она только что налила себе четверть рюмки шотландского виски.
Над стеной, огораживающей дворовую площадку, зловеще заиграли красные неоновые отсветы рекламы с изображением сари «Амбика» из другого квартала. Хотя в тот вечер уличные фонари уже включили, они почти не освещали коридор, да и от полной луны тоже не было проку. Техмина проклинала замки, не поддававшиеся ее усилиям. Но, продолжая в полутьме неравную борьбу и чувствуя, как вспотели подмышки, она признавала, что жизнь до эпохи холодильника была еще тяжелее.
В те времена ей нужно было собраться с силами, чтобы выйти со двора Фирозша-Баг и отправиться за льдом в иранский ресторан в Тар Галли. Тут дело было не в деньгах, а в само́м неприятном походе. Кроме прочего, жители Тар Галли развлекались тем, что плевали из своих съемных квартир на всех появлявшихся у них более богатых незнакомцев. В обедневшем квартале Тар Галли Техмина, без сомнения, считалась богатой, и множество удачно направленных плевков попадали точно в цель. В такие вечера Техмина возвращалась домой в слезах и бросалась в ванну, проклиная дьявольских выродков и извергов из Тар Галли. А купленный лед между тем плавился, становясь серебристым.
Когда дверь наконец открылась, Техмина заметила в дальнем конце коридора чью-то фигуру. Ее сердце заколотилось сильнее. Она стала прикидывать, кто бы это мог быть, и закричала голосом как можно более властным:
– Кон хэ?[34]Чего тебе надо?
– Бай, это всего лишь я, Фрэнсис.
Знакомый голос придал ей мужества. Она начала отчитывать парня:
– Разве я сегодня утром не велела тебе не болтаться здесь? Разве я не говорила, что мы тебя позовем, если будет работа? Разве я не говорила, что Наджамай приедет очень поздно? Так скажи мне, негодник, что ты здесь делаешь?
Фрэнсис был голоден. Он не ел целых два дня и надеялся хоть что-нибудь заработать вечером на ужин. У него не было сил терпеть выволочку от Техмины, поэтому он пробубнил:
– Я пришел посмотреть, не приехала ли Наджамай.
И повернулся, чтобы уйти.
Но тут Техмина неожиданно передумала.
– Подожди здесь, пока я возьму лед, – сказала она, сообразив, что может рассчитывать на помощь Фрэнсиса, когда понадобится запирать дверь.
Войдя в квартиру, она решила, что Фрэнсиса лучше не раздражать. Никогда не знаешь, в какой момент люди его склада могут обозлиться. Если бы он захотел, то сбил бы ее с ног прямо сейчас, ограбил бы квартиру Наджамай и сбежал насовсем. При этой мысли Техмину передернуло, но она взяла себя в руки.
С нижнего этажа послышались звуки «Голубого Дуная». Техмина начала рассеянно раскачиваться в такт. Штраус! Музыка напомнила ей о времени, когда мир был проще и лучше, когда походы в Тар Галли не предполагали возможности быть оплеванной. Она полезла в морозилку, и «Голубой Дунай» смолк. Скрепя сердце Техмина согласилась, что в одном Бойсам нельзя отказать: они разбираются в музыке. Из их квартиры никогда не доносились те бессмысленные и монотонные песни из индийских фильмов, которые иногда услышиишь из других корпусов Фирозша-Баг.
Полностью овладев собой, она поспешно вышла за порог.
– Ну-ка, Фрэнсис, – сказала она тоном, не терпящим возражений, – помоги мне запереть дверь на замок. Я скажу Наджамай, что ты придешь к ней завтра за работой.
Она протянула ему связку ключей, и Фрэнсис, не поддавшийся ее вялой попытке примирения, медленно и недовольно их взял.
Техмина была рада, что попросила парня подождать. «Если у него ушло столько времени, то у меня бы вообще ничего не получилось в этакой темноте», – подумала она, когда Фрэнсис вернул ей ключи.
Этажом ниже Силлу услышала, как хлопнула дверь, когда Техмина вернулась в свою квартиру. Пора было ужинать. Она встала и пошла на кухню.
Наджамай сошла с поезда и взяла в обе руки свои вещи: зонтик, сумочку, большой пакет с остатками еды и шерстяную кофту. Воскресная ночь полностью окутала вокзал. Платформы и залы ожидания были пусты. Она никак не могла решить – взять ожидающее поблизости ночное такси или пройтись пешком. Вокзальные часы показывали девять тридцать. Даже если ей придется пройти сорок минут вместо обычных двадцати, все равно еще не поздно заглянуть к Бойсам, они вряд ли будут спать. Кроме того, прогулка полезна для здоровья, она поможет переварить пупета-ну-гоз[35]и дхандар-патио. И, если повезет, сегодняшней ночью газы не станут распирать кишечник.
Сияла полная луна, ночь выдалась прохладная, и Наджамай шла с удовольствием. Приближаясь к Фирозша-Баг, она кинула быстрый взгляд на угрожающий зев Тар Галли. Там уличных фонарей было мало, а некоторые части квартала вообще не освещались. Наджамай подумала, не удастся ли ей разглядеть каких-нибудь сутенеров и проституток, которые, как рассказывают, появляются здесь с наступлением темноты, хотя Тар Галли нельзя назвать районом красных фонарей. Однако квартал выглядел пустынным.
Наджамай была рада, когда ее прогулка закончилась. Немного запыхавшись, она позвонила в дверь к Бойсам.
– Здравствуйте, здравствуйте! Я только хотела взять сегодняшнюю газету. Если, конечно, вы ее уже прочитали.
– Да-да, – ответила Силлу, – я попросила всех прочитать ее пораньше.
– Как мило с вашей стороны, – сказала Наджамай, приподняв руку, чтобы Силлу подсунула газету ей под мышку. Потом, когда Силлу потянулась за фонариком, она запротестовала:
– Нет-нет, на лестнице не будет темно, сегодня луна полная.
Кроме многих других вещей, которые Силлу делала для соседки, было и освещение лестницы, когда Наджамай поднималась к себе. Она понимала, что, если Наджамай споткнется в темноте и грохнется вниз, ее сломанные кости станут проблемой для Бойсов. Гораздо проще включить фонарик и осветить ей путь до лестничной площадки.
– Доброй ночи, – сказала Наджамай и двинулась вверх. Силлу ждала. Словно прожектор в каком-то гротескном кабаре, фонарик высвечивал мощное колыхание ягодиц Наджамай. Задыхаясь, она дошла до верха, поблагодарила Силлу и исчезла.
Силлу положила фонарик на место, в нишу у двери. Звуки, говорящие о том, что Наджамай собирается лечь спать, стали просачиваться вниз так же назойливо, как капающий кран. Хлопнула дверца шкафчика… кресло в спальне, стоящее днем у окна, на ночь подтащили к кровати… шаги по направлению к дальнему концу квартиры… после соответствующей паузы послышался звук спускаемой воды… потом снова звук воды, но на этот раз не потоком, а непрерывной и слабой струей из крана… потом снова шаги…
Череда знакомых звуков вдруг разорвалась истерическими криками Наджамай.
– Помогите, помогите! Скорее! Воры!
Керси с матерью прибежали к двери первыми. А когда выскочили наружу, успели увидеть, как в направлении Тар Галли исчезла фигура Фрэнсиса. Наджамай, охая, стояла наверху лестницы.
– Он прятался за кухонной дверью, – задыхаясь, рассказывала она. – Входную дверь… Техмина, как всегда…
Силлу преисполнилась благородного негодования:
– Не понимаю, почему женщина с таким плохим зрением должна возиться с вашими ключами! Что он украл?
– Надо проверить шкафчики, – пыхтела Наджамай. – Этот негодный бездельник уже, наверное, далеко убежал.
Теперь и Техмина, шаркая, вышла на лестницу, все еще в накидке. Она нервно посасывала гвоздику и имела очень виноватый вид. Стоя за дверью, она все слышала, но все равно спросила:
– Что случилось? Кто кричал?
Бессмысленная суматоха раздражала Керси, и он вернулся в квартиру. Смущенный произошедшим, он сел на кровать и начал хрустеть костяшками пальцев на обеих руках. Каждый палец он со знанием дела тянул сначала за сустав, ближайший к ладони, потом за тот, что у ногтя. Он мог также хрустеть костяшками пальцев на ногах – по разу на каждом, – но сейчас ему не хотелось. Не хрусти пальцами, сказали ему, твои руки будут толстыми и уродливыми. Тогда он начал это делать еще более рьяно, надеясь, что суставы распухнут и кулаки станут размером с лицо. Такие кулаки пригодятся, чтобы испугать противника в драке. Но руки никак не менялись.
Керси взял свою биту. Шнур, обмотанный вокруг ручки, хорошо закрепился, клей высох. Можно было вновь надевать на ручку резиновый грип. Его надо натягивать умеючи. Если правильно не получится, то грип не покроет всю ручку, а будет свисать с конца, словно необрезанная крайняя плоть. Керси скрутил цилиндрическую резиновую трубку грипа, придав ей форму резинового кольца. Затем натянул это кольцо на ручку и стал его раскручивать. «Наверное, презервативы надевают так же», – подумал он. Кто-то из ребят показывал ему эти штуки в школе, только у грипа верхушка была срезана. Точно так же, как в той шутке о книжке под названием «Нежеланный ребенок» Ф. Л. Берста.
Керси встал перед зеркалом и помахал битой. Довольный проделанным ремонтом, снова сел. Он злился и чувствовал себя обманутым при мысли о Фрэнсисе, скрывшемся в Тар Галли. Злость, усиленная пустотой этого воскресенья, которая, словно невыполненное обещание, будоражила его несколько часов назад, теперь заставила его поддаться нахлынувшему приступу героизма. Он снова посмотрел на себя в зеркало и вышел из дома с битой в руке.
Небольшая толпа жильцов корпуса «С» и их прислуги собралась вокруг Наджамай, Силлу и Техмины.
– Я его найду, – сурово сказал им Керси.
– Что за чушь ты несешь! – воскликнула его мать. – В Тар Галли один ночью?
– О, какой смелый мальчик! – восхитилась Наджамай. – Но, может, нам следует вызвать полицию?
В это время Техмина что-то невпопад бормотала о кубиках льда, шотландском виски и содовой. Керси стоял на своем:
– Я его найду.
На этот раз Силлу сказала:
– Пусть с тобой пойдет брат. Один ты не справишься с этим негодяем. Перси, возьми другую биту и иди с Керси.
Перси послушно присоединился к брату, и они вдвоем направились в Тар Галли. Мать давала наставления им вслед:
– Ради бога, будьте осторожны! – кричала она. – Не разделяйтесь и, если не сможете его найти, далеко не ходите!
Два брата, шагающие с крикетными битами, привлекли к себе внимание нескольких любопытных в Тар Галли. Но час был поздний, и народу было немного. Те же, кто еще не спал, ждали финального розыгрыша лотереи «Матка», чтобы выяснить, благосклонна ли к ним финансовая фортуна. Некоторые из них начали улюлюкать, завидев Керси и Перси.
– Бава-джи парси! Крикет ночью? Бава-джи парси! Куда мячик-то ваш полетит – на границу поля или перемахнет?
– Не обращай внимания на этих поганых гхати, – тихо проговорил Перси. Совет был правильный. Они продолжили свой путь, словно у них имелся заранее продуманный план. Перси тащил биту за собой, а Керси положил свою на правое плечо, чтобы не намокла в лужах, образовавшихся из-за переполненных канав Тар Галли. «Смешно, – подумал он, – только сегодня утром я не заметил ни одной переполненной канавы, когда ходил за солью в банью[36]». Теперь там было море разливанное. Сточные канавы в Тар Галли славились своим непостоянным характером и вонью, хотя последнее местные жители никогда не замечали.
Банья уже закрылась для обычных посетителей, но маленькое окошко все еще было открыто. Исполняя в ночное время роль букмекерской конторы, банья принимала последние ставки «Матки». Их следовало сделать до полуночи, когда выигравшие номера вынимались из глиняного горшка «матка», который и дал лотерее свое название.
Фрэнсиса не было видно. Керси и Перси подошли к первому съемному многоквартирному дому с привязанной у фасада знакомой коровой, единственной в округе. Каждое утро в сопровождении хорошенькой дочери хозяина с корзиной свежесрезанной травы она проходила по окрестным улицам. Люди благоговейно кормили корову, покупая траву по двадцати пяти пайс пучок. Когда корзина опустошалась, корову вели назад в Тар Галли.
Керси вспомнил, как однажды ранним утром, когда хозяйская дочка доила корову, позади ее сидящей фигуры стоял молодой человек. Он наклонился к девушке и тискал ее груди, а она старательно продолжала дойку и теребила вымя. Никто из них не заметил торопливо прошедшего мимо Керси. Теперь, вспоминая эту сцену, он подумал о дочерях Наджамай, о крысе в спальне, полуголом теле Веры, своих украденных фантазиях и снова почувствовал, что его обманули и обделили.
Первым заметил Фрэнсиса Перси и показал на него Керси. И он же первым закричал: «Чор! Чор![37] Держи его!», что подтолкнуло любителей лотереи к действию.
Фрэнсис был обречен. Какие-то трое издалека услышали шум, повалили парня, когда он пробегал мимо, и не мешкая принялись избивать. Один довольно неуклюже попытался ударить Фрэнсиса в прыжке двумя ногами, но, поскольку прием не вышел как надо, он с удовольствием перешел на кулаки. Тут подтянулись другие и включились в побоище.
Знаковый клич «Держи вора!» превратил Фрэнсиса в законную добычу в Тар Галли. Но Керси пришел в ужас. Он совсем не рассчитывал на такой результат, когда выходил из дома с битой. Содрогаясь, он смотрел, как Фрэнсиса избивают и пинают, как ему выкручивают руки и дерут за волосы, оскорбляют и оплевывают. Когда их глаза встретились, Керси отвернулся.
Тут вмешался Перси:
– Перестаньте! Хватит его бить! Мы должны отвести его назад к бай, которую он обворовал. Ей решать!
Идея отвести преступника на место преступления к его жертве, как это бывает в индийском кино, толпе понравилась. Керси смог стряхнуть с себя оцепенение. Следуя примеру Перси, он схватил Фрэнсиса за руку и за воротник, давая понять, что это их пленник и колотить его больше ни к чему.
В таком положении они повели Фрэнсиса назад в Фирозша-Баг мимо привязанной коровы, мимо баньи, мимо переполненных канав Тар Галли. Время от времени кто-нибудь давал Фрэнсису подзатыльник или бил по спине, но Перси напоминал толпе о бай, которую тот обокрал, после чего процессия уже двигалась в строгом порядке.
У корпуса «С» их ждали. Присоединились новые жильцы, включая единственного мусульманина в Фирозша-Баг с первого этажа корпуса «В» и его муcульманского слугу. Оба давно имели зуб на Фрэнсиса из-за какой-то истории с проституткой и были рады случившейся с ним передряге.
Фрэнсиса подвели к Наджамай. Из его глаз текли слезы, колени подкашивались.
– Почему, Фрэнсис? – проговорила Наджамай. – Почему?
Вдруг из толпы вышел сосед и ударил Фрэнсиса наотмашь по лицу.
– Ты, бадмаш![38] Стыда у тебя нет! Она тебя кормит, дает работу, а ты у нее крадешь, паразит!
После этой пощечины собравшиеся двинулись было к Фрэнсису, готовые устроить ему новую взбучку. Но Наджамай закричала, и толпа остановилась. Фрэнсис с плачем бросился ей в ноги.
– Бай, – взмолился он, – вы меня бейте, пинайте, делайте, что хотите. Только им, пожалуйста, не давайте, пожалуйста!
Пока Фрэнсис стоял перед ней на коленях, слуга-мусульманин понял, что у него появился шанс, и не стал терять времени. Прежде чем парня успели оттащить, он, размахнувшись, с силой ударил его ногой под ребра. Фрэнсис заскулил, как собака, и упал навзничь.
Наджамай чинно выразила Силлу свою благодарность.
– Какие смелые у вас сыновья! Если бы они не погнались за этим паршивцем, я бы никогда больше не увидела своих восьмидесяти рупий. Поблагодарите Перси и Керси. Да благословит их бог, такие хорошие мальчики!
Толпа потихоньку расходилась. Техмина разговаривала с соседом-мусульманином. Имея мало знакомых в этом здании, он стремился снискать ее расположение, пока она находилась в уязвимом состоянии и не пришла в себя после бойкота жильцов корпуса «С». Освещенный полной луной, он выражал сочувствие ее версии случившегося.
– Наджамай знает, что мои глаза никуда не годятся, пока мне не удалят катаракты. Но она все равно хочет, чтобы я держала у себя ее ключи и присматривала за квартирой. – От волнения гвоздика проскочила к губам Техмины, но она умело всосала ее назад и спрятала в безопасное место за щекой. – Как я могла догадаться, что Фрэнсис такое сделает? Если бы только я видела его глаза. Но в коридоре всегда так темно.
Сосед-мусульманин медленно качал головой и прищелкивал языком, показывая, что он прекрасно ее понимает.
Поднявшись к себе в квартиру, Наджамай усмехнулась, когда вспомнила, как двое мальчишек возвращались с Фрэнсисом. «Как глупо они выглядели. Побежали за беднягой Фрэнсисом со своими огромными битами! Как будто он хоть раз кого-то из них тронул! Интересно, что теперь сделает с ним полиция». Она пошла на кухню и принюхалась. В воздухе пахло аммиаком. На том месте за кухонной дверью, где прятался Фрэнсис, была желтоватая лужа. Она с удивлением наклонилась и снова принюхалась, а потом поняла, что, должно быть, его мочевой пузырь не выдержал, когда она закричала.
Она вытерла лужу шваброй и решила, что завтра расскажет об увиденном Силлу. Еще придется попросить ее найти кого-нибудь, кто отоварил бы ей карточки. Может, пришло время преодолеть свою неприязнь к прислуге, работающей полный день, и нанять кого-то, кто жил бы у нее постоянно, готовил, убирал и следил за квартирой. И составил бы ей компанию, ведь иногда бывает так тоскливо жить одной.
Наджамай закончила дела на кухне. Пошла в спальню, опустилась всем своим весом в кресло и взяла воскресную газету Бойсов.
Керси был в туалете. Его подташнивало, но после неудачных попыток рвоты он вернулся в спальню. Сел на кровать и взял в руки биту. Сорвал с нее резиновый грип и медленно, задумчиво начал сдирать с ручки только что приклеенный шнур, кусочек за кусочком, кольцо за кольцом.
Вскоре шнур уже лежал на полу черной спутанной горкой, а ручка выглядела лысой, оголенной и беззащитной. Никогда раньше Керси не видел свою биту в таком изодранном, голом виде. Он встал, схватился за ручку обеими руками, установил лопасть под углом к полу, а потом ударил по ней ногой. Послышался громкий треск, и ручка отскочила.
Привидение в Фирозша-Баг
Я всегда верила в привидения. Еще девочкой я видела их на маленьком поле своего отца в Гоа. Это было очень давно – до того, как я оказалась в Бомбее и стала айя[39].
Отец тоже их видел, чаще всего у колодца, откуда они брали воду. Он приходил к нам и говорил, что бхут[40] опять хочет пить. Но нам никогда не было страшно. В нашей деревне многие видели привидений. И все в них верили.
Однако в Фирозша-Баг все было иначе. Когда я впервые увидела здесь привидение и люди об этом узнали, как они надо мной смеялись! Называли сумасшедшей, говорили, что старой айя пора домой в Гоа, в свою мулюк[41], ей уже черт знает что мерещится.
Впервые мне явился бхут два года назад в канун Рождества. Или нет, это было само Рождество. В десять часов накануне я пошла на стадион Купередж[42] на полуночную мессу. Каждый год все мы, крещеные айя из Фирозша-Баг, ходим на мессу. В этот раз я вернулась домой одна, остальные куда-то отправились со своими дружками. Наверное, было часа два ночи. Лифт в корпусе «В» не работал, поэтому я медленно пошла по лестнице. И по дороге думала, как легко мне было подниматься на три этажа, когда я была моложе, даже с полными сумками с базара.
Дойдя до второго этажа, я остановилась передохнуть. Дышала я часто-часто. Точно так же, как в теперешние дни, когда я растираю на камне масалу[43]для карри. «Джакайли! – зовет меня моя бай. – Джакайли, масала готова?» Думает, что шестидесятитрехлетняя айя может приготовить масалу так же быстро, как когда ей было пятнадцать. Да, пятнадцать. На следующий день после своего четырнадцатилетия я приехала на автобусе из Гоа в Бомбей. Я ехала в нем весь день и всю ночь. До сих пор помню, как отец проводил меня на автобусную станцию в Панджиме[44]. Теперь этот город называется Панаджи. Дядюшка Джозеф, механик из Мазагаона[45], встретил меня на Центральной станции Бомбея. Там было столько народу! Все куда-то бежали, орали, кричали, а кули несли на головах большие-пребольшие тюки. Никогда не забуду тот первый день в Бомбее. Я просто стояла на месте, не зная, что делать, пока дядюшка Джозеф меня не увидел. А теперь я айя и уже сорок девять лет живу в этом доме, хотите верьте, хотите нет. Сорок девять лет в корпусе «В» в квартале Фирозша-Баг, но они так и не научились правильно произносить мое имя. Неужели так трудно сказать Жаклин? Они все время говорят Джакайли или того хуже – Джакайль.
Во всем виновата старая бай, которая умерла десять лет назад. Она вела хозяйство, пока ее сын не привел в дом жену, новую бай. Старая бай брала английские слова и переделывала их на парсийский лад. Кресло превращалось в иджичер, зеленая фасоль в ферач бич, ну а Жаклин стала Джакайли. Позже я узнала, что все старые парси так делали, как будто бы придумывали свой собственный язык.
Так что новая бай тоже начала звать меня Джакайли, а потом и дети подхватили. Теперь мне уж все равно. Если меня кто-нибудь спрашивает, как меня зовут, я говорю Джакайли. И все время разговариваю на парси-гуджарати вместо конкани, даже с другими айя. Иногда немножко говорю по-английски.
Так, я вам говорила, что дышала часто-часто, когда поднялась на второй этаж и остановилась перевести дух. И тут я заметила кого-то вроде как в белом одеянии. Как будто человек, но лица не видно, только очертания. «Кон хэ?»[46] – спросила я на хинди. Хотите верьте, хотите нет, но он исчез. Прямо как провалился! Я покачала головой и пошла дальше на третий этаж. Осторожно, держась за перила, потому что все ступеньки старые, стоптанные и неровные.
Все повторилось. Он ждал меня на площадке третьего этажа. А когда я спросила: «Кья хэ?»[47], хотите верьте, хотите нет, он снова пропал! Тут я сразу поняла, что это бхут. Я знала, что он будет снова поджидать меня на четвертом этаже, и не ошиблась. Но я не испугалась, нет.
Поднявшись на четвертый этаж, я увидела свою подстилку с бельем, которую оставила там перед уходом. После ночной службы я всегда сплю под дверью на лестнице, потому что бай и сетха[48] нельзя будить в два часа ночи, а ключ они мне никогда не дают. Айя не должна иметь ключ от квартиры. Это я хорошо выучила за сорок девять лет, как и то, что жизнь айя всегда проходит рядом с полом. На полу я делаю всю работу. К примеру, растираю масалу, режу овощи, перебираю рис. Ем я тоже сидя на полу, после того как все подам хозяевам на обеденный стол. И на ночь моя подстилка раскладывается на полу в кухонном коридоре. Мне своего угла не положено. Сейчас весу во мне больше, чем когда-то, и вставать с пола становится все труднее. Но пока справляюсь.
Так вот, в два часа ночи в Роджество я раскатала свою подстилку и разложила свой сатеранджи[49]на лестнице. Потом остановилась. Бхут исчез, так что я его совсем не боялась. Но отец говорил, что некоторые духи могут озорничать. Тот, который приходил к нам на поле, никогда этого не делал, только пил воду из колодца. Но, если призрак на лестнице захочет пошалить, он может столкнуть меня со ступенек, кто знает? Подумав об этом, я позвонила в дверь.
Я звонила и звонила, пока мне не открыла бай. Вид у нее был ужасно злой. Обычно она выглядит хорошо, а когда наденет красивое сари на свадьбу или на какой-то другой праздник, а еще все свои браслеты и ожерелье, то, честное слово, становится просто красавицей. Но тогда она казалась такой злющей, как будто собиралась кого-то укусить. Точно так же она выглядит каждое утро, когда только что проснется, но в тот раз было намного хуже и страшнее, потому что стояла ночь. Она очень разозлилась, сказала, что я схожу с ума, что никакого привидения нету, просто я вру, чтобы не спать под дверью.
Потом проснулся сетх. Он рассмеялся и сказал, что ему совсем не нужно, чтобы привидение столкнуло меня с лестницы, потому что кто же тогда приготовит ему утром чай с молоком и специями. Он не злился и был в хорошем настроении. Они ушли в свою комнату, и, когда в темноте послышался скрип их кровати: крр-крр, крр-крр, я поняла, отчего он вышел такой веселый.
Еще маленькому я пела ему на конкани песни «Могача Мэри»[50] и «Хано Саиба»[51]. Теперь он вырос и забыл их, забыла и я. Забыла свое имя, свой язык, свои песни. Но я не жалуюсь, не подумайте. Говорю вам: получить работу стало для меня большой удачей, потому что в Гоа делать мне было нечего. Я ехала в автобусе из Панджима в Бомбей и плакала, оставляя братьев, сестер, родителей и всех своих деревенских друзей. Но я понимала, что уехать для меня лучше всего. У отца одиннадцать детей и очень маленькое поле. Единственное, что мне оставалось, это жить в Бомбее. В первый год я даже по вечерам ходила в школу. Но потом бай запретила, потому что кто же будет подавать ужин, когда сетх придет домой с работы, и кто уберет грязную посуду? Но настоящая причина была в другом. Она думала, что я краду у нее яйца. Вчера вечером лежало шесть яиц, говорила она, а утром осталось только пять. Куда подевалось одно? Она думала, что я уношу яйцо в школу и кому-то отдаю.
Так вот, я говорила, что мне повезло стать айя в доме парси и я этого никогда не забуду. Особенно потому, что я католичка из Гоа и кожа у меня очень темная. Парси предпочитают католиков из Мангалуру[52]: у них кожа светлая. И среди своих парсы тоже больше любят светлую кожу, и, когда у парсов рождается ребенок, это первое, на что они смотрят, и самое главное. Если кожа светлая, они говорят: «Какая красивая белая кожа, прямо как у папы с мамой». А если темная, то: «Аррэ, что это за айя но чхокро, ребенок айи».
Так было в основном в прошлом и среди богатых бай и сетхов. Они думали, что они такие же, как англичане, и правят Индией наравне с ними. Но не подумайте, что только богатые парси имели такие вкусы. Даже все полунищие маратхи[53] в Тар Галли смеялись надо мной, когда я ходила в банью покупать продукты. Они кричали: «Черная, черная!» Сейчас такого уже не бывает, потому что в Бомбее довольно много людей с темной кожей, ведь многие приезжают сюда с юга – из Тамилнада[54] и Кералы[55] со своим смешным говором: иллей-иллей-пу-пу[56]. Теперь тут привыкли к разному цвету кожи.
Но не к привидениям. Все в корпусе «В» узнали про бхута, котрый появился на лестнице. И все время потешались надо мной – и дети, и взрослые.
Хотите верьте, хотите нет, но этот призрак все-таки любил бедокурить. И перед Пасхой вернулся. Но на этот раз не на лестницу, а прямо ко мне в постель. Честное слово, он уселся мне на грудь и подпрыгивал вверх-вниз, а я не могла его скинуть, потому что очень ослабела (я же правоверная католичка и соблюдала пост). Я не могла даже крикнуть (не потому что испугалась, а потому что он меня душил). Но кто-то из домашних проснулся и пошел в туалет. И в коридоре, где я лежала, зажегся свет. Только тогда этот негодный бхут спрыгнул с меня и исчез.
В тот раз я никому ничего не сказала. Надо мной и так без конца смеялись. Дети в Фирозша-Баг, как меня завидят, сразу давай кричать: «Айя-бхут! Айя-бхут!» В это время как раз вышел новый фильм на хинди «Бхут бангла»[57]про дом с привидениями. И ребята говорили громким голосом диктора на радио: «СМОТРИТЕ СЕГОДНЯ в кинотеатре “АПСАРА” НОВЫЙ фильм БХУТ БАНГЛА. В главной роли Джакайли из корпуса “В”!» Вот так. Да, они здорово надо мной потешались. Но я не обращала внимания, я-то знала, что его видела.
«Джакайли, – зовет бай, – уже готово?» Она хочет проверить масалу для карри. «Слишком крупно, – всегда говорит она, – потри еще, должно быть нежнее». Она права, я нарочно оставляю покрупнее. Раньше, когда я растирала специи как надо, она все равно отсылала переделывать. Ох, как болят мои старые плечи, когда я растираю эту масалу! Но хозяева ни за что не купят машинку-автомат, хоть оба богатые, и бай, и сетх. Он бухгалтер-эксперт со специальным дипломом, у него хорошая машина, как у священника из корпуса «А» и как та, на которой ездил доктор Моди и которая со дня его смерти так и стоит на площадке. Бай говорит, что им надо купить эту машину у миссис Моди. Она ей нужна, чтобы ездить по магазинам. Но машинку для масалы они не станут покупать. Пусть Джакайли трет специи, пока у нее руки не отвалятся.
Сколько же все дразнили меня из-за бхута! Мальчишки даже с удовольствием в игру такую играли, притворяясь привидениями. Начал все сын доктора Моди с четвертого этажа корпуса «С». Его еще зовут Песи-падмару, потому что он вечно портит воздух. Хорошо, что он сейчас в интернате. Их семья приехала в Фирозша-Баг всего несколько лет назад. Доктор лечил животных, очень хороший человек. Но какой у него ужасный мальчишка! Прямо-таки позор для доктора Моди. Сам-то он добрейшей души человек. И все переживали, когда доктор умер. Но, честное слово, его сынок однажды ночью поступил очень плохо.
Вера и Долли, две сестрицы-модницы со второго этажа корпуса «С», пошли вечером в кинотеатр «Эрос», и Песи об этом знал. Когда кино закончилось, они возвращались домой – цок-цок – в туфельках на высоких каблучках. На них были мини-юбки, которые как раз тогда вошли в моду. Очень эски-мески[58], такие коротенькие, что не понимаю, как майбап[59] разрешили им такие носить. Они сказали, что дочери уезжают учиться за границу, так, может, они учились носить одежду, как там принято. В общем, девушки стали подниматься по лестнице. Было темно. И тогда Песи, прятавшийся под лестницей в белой простыне, выскочил на них с криком: «Бове ре!»[60] Ну, Вера и Долли как закричат и давай бежать.
И вот тогда Песи, стыдно сказать, что сделал. Бог знает как такое пришло ему в голову. Под простыней у него был припрятал фонарик. Он вытащил его и стал светить девушкам под мини-юбки. Да! Он кинулся за ними со своим ярким фонариком и светил прямо им под юбки. Когда Вера и Долли добежали до площадки, они споткнулись и упали, а этот бесстыжий мальчишка остановился там и светил им между ног, и все видел – трусики и все-все, честное слово.
Но как только соседи стали открывать двери, чтобы узнать, в чем дело, потому что слышали крики, он удрал. Все мужчины получили массу удовольствия, притворяясь, что сочувствуют девочкам. Как взрослые люди они говорили, что все в порядке, дорогуши, не волнуйтесь, дорогуши, это какой-то нехороший мальчишка, а вовсе не настоящее привидение. И все время поглаживали их и тискали, как будто бы утешали! Тьфу! Ох уж эти мужчины!
На следующий день Песи рассказывал своим дружкам о том, что сделал: как светил фонариком девочкам под юбку, как они упали, про все, что он там увидел. Тьфу! Вот ведь ужасный мальчишка!
После этой истории родители в Фирозша-Баг строго-настрого запретили детям дурачиться и притворяться привидениями, потому что это могло привести к серьезным последствиям – старый человек мог испугаться, упасть с лестницы, переломать себе кости или получить сердечный приступ. Так что игры в привидения закончились, и надо мной больше не потешались. Но, поверьте, бхут приходил ко мне ночью каждую пятницу.
Карри хорошо варится и очень вкусно пахнет. Бай говорит: «Не забудь про карри, не сожги нам ужин». Надо бы ее спросить, сколько раз я сожгла ужин за эти сорок девять лет. Хотите верьте, хотите нет, ни одного.
Да, бхут приходил, но больше у меня на груди не прыгал. Иногда просто сидел у моей постели. Случалось, ложился рядом и клал голову мне на грудь, а если я пыталась его оттолкнуть, только крепче меня обнимал. Или пытался залезть мне под ночную рубашку или сунуть руку под воротник. Но я обычно сплю, застегнувшись на все пуговицы, так что негоднику приходилось непросто. Какой он был вредный! Напоминал Каэтана из Панджима. Тот точно так же пытался вести себя с девушками в кино или на пляже. Дом его родителей стоял неподалеку от церкви Святого Каэтана, в честь которого его и назвали. Только парень этот, поверьте, был совсем не святой.
Пляжи Калангут и Аджуна в те годы были очень тихие и красивые. Это еще до того, как туда стали наезжать иностранцы. Не было еще всех этих хиппи-биппи с их чарасом[61] и ганджой[62], не было громадных отелей, ничего не было. Однажды Каэтан сказал мне: «Давай сходим посмотреть на рыбаков». Мы отправились и зашли по щиколотку в воду. Каэтан говорит: «Зайдем поглубже». Он закатал штаны выше колен, я подняла юбку, и мы зашли поглубже. Но тут пришла большая волна и нас замочила. Мы убежали и сели на берегу сушить мою юбку.
Мы оказались совсем одни, рыбаки все еще рыбачили в море. Каэтан сидел рядом и так смешно на меня смотрел, прямо как герой из индийского фильма, а потом положил руку мне на бедро. Я велела ему прекратить, иначе скажу отцу и тот устроит ему хорошенькую взбучку, бросит в колодец, где бхут с ним как следует разберется. Но Каэтан не переставал. Так и продолжалось, пока не приплыли рыбаки. Тьфу, какой противный был мальчишка!
Снова на кухне. Чтобы приготовить хорошее карри, нужно во время варки много мешать.
Честное слово, что за парень был этот Каэтан! Однажды на праздник святого Франциска Ксаверия тело святого выставили в стеклянном ящике в церкви Милосердного Иисуса. Раз в десять лет католики отмечают этот большой праздник. Сейчас его уже не устраивают, потому что, хотите верьте, хотите нет, но много лет назад какая-то несчастная сумасшедшая откусила кусочек пальца от ноги святого Франциска Ксаверия. Но потом они вот еще что придумали. Бедному святому Франциску не суждено было сохранить в целости свое тело – однажды папа попросил прислать кость его правой руки, чтобы показать верующим в Риме, а назад ее так и не вернул. Кость до сих пор у них.
Но я рассказывала про Каэтана. Все мальчики и девочки из моей деревни поехали на автобусе в церковь Милосердного Иисуса. Там было полно народу, и все встали в длиннющую очередь к стеклянному ящику со святым Франциском Ксаверием. Каэтан стоял позади моей подружки Лили. Со мной он перестал развлекаться, наступила ее очередь. И, говорю вам, он все время толкал ее и лапал, как будто случайно из-за давки. Тьфу, даже в церкви этот парень не мог вести себя прилично.
Так вот, призрак напомнил мне Каэтана, которого я не видела с тех пор, как приехала в Бомбей, – а было это сорок девять лет назад, я уже вам говорила. Призрак приходил ко мне раз в неделю, всегда по пятницам. По пятницам я обычно ем рыбу, поэтому подумала, что, может, ему нравится запах рыбы. Стала есть вегетарианскую пищу, но он все равно приходил. Почти целый год ночью по пятницам бхут со мной спал. Близилось Рождество.
Никто об этом ничего не знал – как он приходил к моей постели, ложился рядом, пытался меня потрогать. Одно меня ужасно мучило – даже отцу Д’Сильва в церкви в Бикулле[63] я ничего не рассказывала весь тот год. Каждый раз, приходя на исповедь, я ни слова не говорила о призраке. Но приближалось Рождество, и я очень мучилась. Поэтому в первое воскресенье декабря я все-таки призналась отцу Д’Сильва, и мне стало гораздо легче. Отец объяснил, что вины моей тут нет, потому что у меня не было желания, чтобы бхут со мной спал. Но он велел три раза прочитать молитву Деве Марии и разрешил снова есть рыбу, если захочется.
Так что в ту неделю в пятницу я съела карри с рыбой и рисом и легла спать. Хотите верьте, хотите нет, но бхут не явился. После полуночи я сперва подумала, что он задерживается, может, ему еще куда-то понадобилось зайти. Но когда часы в комнате бай пробили три, я по-настоящему забеспокоилась. Может, он придет рано утром, когда я стану готовить чай? Это будет ужасно.
Но он не пришел. Я не могла понять почему. Если все это время ему ничто не мешало приходить к постели толстой и некрасивой айи, то что вдруг случилось теперь? Я не понимала. Но тогда я сказала себе: «О чем ты думаешь, Джакайли, где твои мозги? Ты и вправду хочешь, чтобы привидение ложилось с тобой спать и так бесстыдно тебя щупало?»
Выпив чаю в то утро, я догадалась, что произошло. Призрак не пришел из-за исповеди. Ему стало совестно. Ведь теперь отец Д’Сильва знает, как он каждую пятницу себя вел со мной ночью в темноте.
В следующую пятницу бхут опять не пришел. И я окончательно уверилась, что моя исповедь помогла мне избавиться и от него, и от его безобразного поведения. Но через несколько дней должен был наступить канун Рождества, и мне следовало идти к полуночной службе. Я подумала, что если ему стыдно лезть ко мне в постель, то он может подождать меня на лестнице, как в прошлом году.
Сейчас пора варить рис, пора уж и сетху прийти домой. Мы всегда готовим рис басмати[64] самого лучшего качества. Когда его варишь, он так приятно и вкусно пахнет!
Из-за полуночной мессы я оставила свою постель под дверью квартиры. Когда я вернулась, было два часа ночи. Но я не заметила никаких причин для беспокойства. На этот раз не было никакого привидения на лестничных площадках. Я развернула постель у самых ступенек и вспомнила Каэтана, как он испугался, когда я сказала, что пожалуюсь отцу на его приставания. После этого он никуда меня больше не звал: ни на пляж, ни в кино. Теперь то же самое случилось с привидением. Как же эти мужчины боятся отцов!
Утром бай открыла дверь и сказала: «Как хорошо, что в этом году привидение взяло отпуск! Если бы ты разбудила нас снова, я бы тебя убила». Я тихонько рассмеялась и пожелала ей счастливого Рождества, и бай пожелала мне того же.
Проснувшись, сетх тоже пошутил со мной. Но если бы только они оба знали, что всего через неделю согласятся, что я была права. Да, в Новый год они поверят в привидение, хотя на самом деле его-то как раз и не было. Не было с того самого дня, как я исповедовалась отцу Д’Сильва. Но после всех насмешек я не стала их разубеждать. Пусть почувствуют свою вину за то, что называли Джакайли сумасшедшей.
Накануне Нового года бай и сетх впервые после рождения детей собрались идти потанцевать куда-то в Бандру[65]. Раньше бай говорила, что дети слишком маленькие, чтобы оставаться с айей, но в тот год сетх долго уговаривал ее: «Ну пожалуйста, пойдем, дети уже подросли», и она согласилась. Она долго объясняла мне, что надо делать, и оставила номер телефона на случай непредвиденных обстоятельств. Честное слово, они так суетились, что, когда наконец уехали, я сама сильно разволновалась.
Я прочла особую молитву, чтобы ничего плохого не случилось, дети как следует поужинали, ничего не разлили и легли спать без слез и прочих неприятностей. Если бы бай о чем-нибудь таком узнала, она бы сказала: «Что я тебе говорила? Детей нельзя оставлять с айей». И устроила бы бедному сетху ужасный скандал. Хотя он и так все время от нее получает.
Однако все прошло хорошо, дети легли спать. Я разложила свою постель, но собралась дождаться, когда их родители вернутся домой. Расстелив сатеранджи, я заметила, что белая простыня, которой я обычно покрываюсь, в одном месте порвана – наверное, из-за моей возни с привидением, – и решила зашить ее утром. Я выключила свет и легла, просто чтоб отдохнуть.
Потом начали шуршать тараканы. Я тихо лежала в темноте, пытаясь сначала разобраться, откуда идет звук. Если включить свет, тараканы затихают, и тогда непонятно, где их искать. Так что я внимательно прислушивалась. Шуршание шло от стола у газовой плиты. Поняв это, я включила свет и взяла свой чаппаль[66]. Тараканов было два, они сидели рядом с газовым баллоном. Медленно и осторожно я подняла чаппаль и сразу их – шлеп, шлеп! Должна сказать, что я спец по убийству тараканов. От яда, который им насыпает сетх, толку мало. Мой чаппаль куда лучше!
Я подобрала двух убитых тараканов и вышвырнула на задний двор. Подумала, что они будут хорошим перекусом для какой-нибудь крысы. Потом снова легла, выключив свет.
Часы в хозяйской комнате пробили двенадцать раз. Сейчас они, должно быть, все целуются и желают друг другу счастливого Нового года. Когда я была совсем маленькая, мои родители в Панджиме, пока у них были деньги, обязательно праздновали Новый год. Я лежала на своей подстилке и вспоминала те дни. Удивительно, сколько всего можно вспомнить из своей жизни, если тихо лежать в темноте.
Надо не забыть про рис на плите. С рисом, особенно с рисом басмати, одну минуту переваришь или недоваришь, одной ложкой воды нальешь больше или меньше, и все испорчено. Рис получится не такой воздушный и рассыпчатый.
Так я лежала в темноте, вспоминала папу и маму, Панджим и Каэтана, красивые пляжи и лодки. Вдруг мне стало ужасно грустно, я поднялась и включила свет. В хозяйской комнате часы пробили два. Скорей бы уж они вернулись домой. Я заглянула в детскую: ребята спали.
Я пошла назад в свой коридор и начала штопать порванную простыню. Штопала и думала о маме, о том, как тяжело ей приходилось работать, как она штопала одежду моих братьев и сестер. Не только штопала, но и перешивала. Когда штаны подросшему брату становились малы, она выпускала их на поясе и убирала загиб на штанинах, чтобы удлинить. А когда брат вырастал настолько, что и это не помогало, она снова перешивала эти же штаны, только уменьшала их в поясе и укорачивала штанины, чтобы их мог носить младший брат. Как много она работала! Иногда даже помогала отцу трудиться на маленьком поле, особенно если тот накануне заглядывал в таверну.
Но шитье и воспоминания только еще больше меня расстроили. Я отложила иголку с ниткой и вышла на лестницу, а оттуда на воздух. Там у нас есть небольшой балкон. Было хорошо, темно и тихо, и я просто стояла на балконе. Потом похолодало. Я подумала, не явится ли мне снова бхут. Отец говорил, что, если бхут рядом, всегда бывает прохладно, это такой знак. Он говорил, что в поле всегда холодало, когда бхут приходил к колодцу.
Но никакого привидения не было, так что, похоже, мне стало холодно из-за раннего утра. Я зашла в квартиру и взяла свою белую простыню. Немного дрожа, накинула ее на голову и закрыла уши. Светила полная луна, было очень красиво. В Панджиме мы иногда в полнолуние ходили ночью к морю, и отец рассказывал нам о том времени, когда он был маленький, о тех годах, когда в Гоа правили португальцы, и о дедушке, который плавал в Португалию на большом корабле.
Затем я увидела, как во двор въехала хозяйская машина. Я наклонилась с балкона, потому что решила помахать им, если они меня заметят, дать им знать, что я еще не ложилась. Но потом передумала: лучше тихонько вернуться в квартиру, прежде чем они меня увидят, иначе бай рассердится и спросит, что это я делаю на балконе посреди ночи, а дети оставлены одни, без присмотра. Но она вдруг подняла голову. И я подумала: «Господи Иисусе, она меня все-таки заметила!»
И тут бай как закричит! Она завопила так громко, что я, честное слово, чуть в обморок не грохнулась. Она кричала не от злости, а от страха: «Бхут! Бхут!» Я все поняла. Быстро зайдя внутрь, я улеглась на свою подстилку.
Они поднялись не сразу, потому что бай сидела в машине, защелкнув все дверцы. Она отказывалась выйти, пока муж не поднялся на лестницу и не зажег на всех лестничных площадках свет, удостоверившись, что привидение исчезло. Потом он вернулся за ней.
В конце концов она все же вошла в дом, сразу бросилась ко мне в коридор и стала меня трясти: «Проснись, Джакайли, проснись!» Я притворилась, будто крепко сплю, потом повернулась к ней и сказала: «С Новым годом, бай! Все хорошо. Детки в порядке».
Она сказала: «Да, да, но на лестнице бхут! Я его видела! Тот самый, который тебе являлся в прошлое Рождество. Он вернулся, я видела его собственными глазами!»
Мне ужасно хотелось рассмеяться, но я только сказала: «Не бойтесь, бай, он плохого не сделает, это не злобный призрак. Просто он, наверное, заблудился».
Тогда она сказала: «Джакайли, ты ведь правду говорила, а я на тебя сердилась. Теперь я в нашем доме всем расскажу, что ты была права, привидение действительно существует».
«Оставьте это дело, бай, – ответила я, – все уже давно забыли про него, да и все равно никто не поверит». Но она возразила: «Если я им скажу, то поверят».
После этого случая многие в Фирозша-Баг начали верить в привидение. Одним таким был дастур-джи из корпуса «А». Однажды он пришел к нам и научил бай, как надо молиться – говорить сайкасте, сайкасте, сатан[67] всякий раз, как она выходит на лестницу. Он сказал ей, что, раз вы видели бхута на балконе рядом с лестницей, лучше провести особый парсийский молитвенный ритуал, чтобы он больше не появлялся и не принес беды. Он рассказал, как много лет назад недалеко от Марин-лайнс, там, где индуисты устраивают похороны и сжигают своих покойников, посреди дороги в полночь разгуливал бхут, пугал водителей и устраивал аварии. Индуистские священники молились, чтобы он прекратил, но ничего не помогало. Бхут все равно ходил по ночам, а автомобилисты попадали в аварии. «Тогда эти священники позвали меня, – сказал дастур-джи, – и попросили прямо посреди дороги провести джашан[68]. Они знали, что у парсов самые действенные молитвы. И после того, как я посреди дороги провел джашан, все наладилось».
Бай выслушала рассказ дастур-джи из корпуса «А» и сказала, что посоветуется с сетхом, а после даст знать, если они решат провести джашан на балконе. Теперь сетх на все соглашался и ответил ей: «Конечно, конечно, пусть дастур-джи так и сделает. Интересно будет посмотреть на этот экскорцисизм, – сказал он. – Какое-то такое длинное английское слово».
Дастур-джи был доволен и выбрал в своем парсийском календаре благоприятный день. В то утро мне пришлось с особенной тщательностью вымыть весь балкон, затем пришел дастур-джи, расстелил белую простыню и поставил на нее все, что надо для молитвы: серебряную штуковину, в которой он развел огонь, положив туда палочки сандалового дерева и лобан, большое серебряное блюдо, лоату[69], наполненную водой, цветами и какими-то фруктами.
Когда пришло время произносить молитвы, дастур-джи велел мне уйти с балкона. Потом бай мне объяснила, что это из-за того, что парсийские молитвы очень сильные и только парсы могут их слушать. А если кто-то другой услышит, то, не ровен час, они навредят его душе.
Ну вот, джашан провели, дастур-джи со всеми своими молитвенными приспособлениями ушел домой. Но когда те жильцы Фирозша-Баг, которые не верили в привидение, услышали о ритуале, они принялись судачить и насмехаться.
Некоторые говорили, что бай у Джакайли сошла с ума, сначала айе являлись привидения, а теперь она заразила этим свою бай. Бай не разговаривает с такими людьми. Она разозлилась по-настоящему. Говорит, ей не нужны друзья, которые думают, что она помешалась, и надеется, что джашан был не очень сильный и не помешает привидению прийти еще раз. Она хочет, чтобы его все увидели и узнали правду, как узнала она.
Хозяева едят с удовольствием. Карри острое, они шумно втягивают воздух, чтобы охладить язык, но все равно едят, они любят острое карри. Секрет хорошего карри не только в специях, но и в их последовательности: что класть первым, что вторым, третьим и так далее. И никогда не готовьте карри под крышкой, всегда держите кастрюлю открытой, часто помешивайте – это надо, чтобы проявился букет приправ.
Как видите, бай надеется, что привидение снова придет. Она все время спрашивает меня о призраках, что они делают, почему являются. Думает, что, раз я первая в Фирозша-Баг его увидела, то я чуть ли не специалист по ним. Особенно потому что я деревенская. Он говорит, что деревенские о таких вещах знают больше, чем городские. Поэтому я рассказываю ей о бхуте, которого мы видели на нашем маленьком поле, и о том, что сказал отец, когда заметил его у колодца. Бай нравятся мои рассказы о привидениях, она даже приглашает меня сесть с ней за стол, взять свою отдельную кружку, наливает мне чай и слушает. Не относится ко мне все время как к прислуге.
Однажды вечером она пришла в мой коридорчик, когда я читала молитву по четкам, и присела ко мне на постель. Я своим глазам не поверила, даже молиться перестала. «Джакайли, что говорят католики, когда дотрагиваются до лба, живота и двух сторон груди?» – спросила она. Я объяснила, что они говорят: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». «Вот-вот! – воскликнула она. – Я теперь вспомнила. Когда я ходила в школу Святой Анны, там было много девочек-католичек, и они всегда говорили эти слова до и после общей молитвы в классе. Вот именно, Святой Дух. Джакайли, а тебе не кажется, что к нам приходил как раз этот Святой Дух, которому вы молитесь?» Я сказала: «Нет, бай, этот Святой Дух совсем другой. Он не имеет ничего общего с бхутом, которого видели и вы, и я».
Вчера она попросила: «Джакайли, поможешь мне кое-что сделать?» Все утро она была какая-то беспокойная, и я сказала: «Да, бай». Она вышла из-за стола и вернулась с большими ножницами и плоской тростниковой супрой[70], через которую я просеиваю рис и пшеницу. «Моя бабушка, – сказала она, – однажды показала мне, как можно немного поколдовать. Но предупредила, что это только на случай чего-то очень важного. Бхут – дело важное, значит, я поколдую. Если ты мне поможешь. Нужны двое парси, но я могу проделать это и вместе с тобой».
Я сидела тихо и немного беспокоилась, прикидывая, что еще она могла придумать. Сначала она накрыла свою голову белым матхубану[71], а другой матхубану дала мне. Сказала надеть его на голову как платок. Затем с одной стороны проткнула супру двумя концами ножниц, так чтобы та держалась крепко и могла висеть на ножницах. Мы с бай сели на два стула лицом к лицу. Она велела мне держать на пальце одно колечко ножниц, а сама надела себе на палец второе. Так мы и сидели с покрытыми белой тканью головами, а супра висела между нами на ножницах. Хотите верьте, хотите нет, но выглядело это одновременно и смешно, и страшно. Когда супра перестала качаться и больше не двигалась, бай сказала: «Теперь закрой глаза и ни о чем не думай, главное – не шевели рукой». Я закрыла глаза и подумала, знает ли сетх о том, что мы здесь вытворяем.
Потом бай стала говорить голосом, который я раньше никогда не слышала. Мне казалось, он шел откуда-то издалека, очень нежный, но страшный. У меня волосы встали дыбом, и я почувствовала прохладу, как будто бхут сейчас появится. Вот что она сказала: если бхут хочет нам явиться, супра повернется.
Ничего не происходило. Но, поверьте мне, я так испугалась, что сидела с зажмуренными глазами, как она просила. Мне не хотелось ничего видеть, особенно то, чего я видеть не должна. Все это было так необычно. Даже в моей деревне, где все жители много знали о привидениях, про колдовство с ножницами и супрой не слыхивали.
Потом бай опять заговорила тем же страшным голосом: «Если привидение хочет явиться снова наверху или внизу, на балконе или в доме, в этом году или в будущем, днем или ночью, с добром или со злом, супра обязательно должна повернуться».
Хотите верьте, хотите нет, но на этот раз супра начала поворачиваться, потому что я почувствовала, как кольцо ножниц задвигалось у меня на пальце. Я закричала и отдернула руку, раздался грохот, и бай тоже закричала.
Я медленно открыла глаза. Все упало на пол. Ножницы сломались. «Простите меня, бай, – сказала я, – но я так испугалась, бай. И за то, что сломала ваши большие ножницы. Можете вычесть из моей зарплаты».
«Ты испугала меня своим криком, Джакайли, – ответила она, – но теперь все в порядке. Бояться нечего, я с тобой». На ее лице больше не было беспокойства. Она сняла матхубану и потрепала меня по плечу. Подняла сломанные ножницы и супру и унесла все на кухню.
Бай казалась очень довольной. Она вышла из кухни и сказала мне: «Не беспокойся о ножницах, пойдем, возьми свою кружку, я заварю нам обеим чай. Пока забудь и про супру, и про привидение». Тогда я сняла матхубану и пошла за ней.
«Джакайли, Джакайли!» – зовет она из столовой. Наверное, хотят еще карри. Хорошо, что я отложила себе на обед. Они съедят всю кастрюлю. Когда я делаю карри по-гоански, ни ложки не остается. Под конец сетх всегда берет кусочек хлеба и вычищает им всю кастрюлю до мельчайших крошек. Они всегда шутят: «Джакайли, сегодня кастрюлю мыть не надо, все вылизано». Да, я и правда люблю готовить свое карри по-гоански, мешать его, мешать, вбирать в себя его аромат, пока оно варится, мешать снова и снова, смотреть, как оно бурлит, как поднимается пар, опять мешать, пока не наступит время подавать карри на стол.
Визит с соболезнованиями
Вчера был дашму[72] – десятый день после похорон Миночера Мирзы. В храме огня вознесли все полагающиеся молитвы. И вдова Мирзы с тяжелым чувством ждала визитеров, которые нагрянут в дом в течение следующих нескольких недель. Они придут выразить соболезнования, разделить с ней горе, копаться в их с Миночером жизни, задавать тысячи вопросов. И, чтобы удовлетворить их любопытство, ей придется заново пережить всю боль самых тяжелых дней.
Наиболее тактичные подождут, пока пройдет первый месяц и маасисо[73], прежде чем начать одолевать ее своим сочувствием и утешениями. Но не ранние пташки. Эти прилетят стайками уже сегодня. Сезон открыт, а Миночер Мирза был человеком, хорошо известным среди бомбейских парсов.
После долгой и изнурительной болезни Миночер неожиданно почувствовал облегчение, похожее на выздоровление. Оба они, и Миночер, и Давлат, понимали, что это всего лишь мнимое выздоровление, настоящего ждать не приходится. Но все равно они были благодарны за то, что теперь дни и ночи проходят относительно спокойно. Он мог ждать своей смерти, свободный от агонии, терзавшей его тело последние несколько месяцев.
И, как часто бывает в таких случаях, вместе с освобождением от физических мучений, изматывавшие его рассудок сомнения и страхи тоже ослабили свою хватку. Он пребывал в мире со своим «я», которое должно было вскоре погаснуть, словно задутая свеча.
Давлат тоже была спокойна, потому что ее страстная молитва была услышана. Миночеру будет позволено умереть достойно, он не будет низведен до животного состояния, и ей больше не придется смотреть, как он страдает.
Миночер ушел из этого мира во сне, пробыв в последние шесть дней в необъяснимом просветлении и спокойствии. Давлат просила, чтобы его кончина не растянулась надолго, и теперь чувствовала, что грешно испытывать что-то иное, кроме радости, за его такие счастливые последние дни.
Однако сейчас неизбежные визиты с соболезнованиями заставят ее заново переживать месяцы бесконечной боли и бессонных ночей, когда она прислушивалась к его дыханию, вздохам, стонам, звукам, выдававшим его внутреннюю агонию. Тем, кто явится с соболезнованиями и сочувствием, она должна будет рассказывать о болезни мужа, о докторах и больницах, о медсестрах и лекарствах, о рентгеновских снимках и анализах крови. Ее попросят (нежно, но настойчиво, как будто они имеют на это право) воссоздать тот ад, который пережил ее любимый Миночер, вместо того чтобы позволить ей хранить в памяти те благословенные последние шесть дней. Самым ужасным будет повторение подробностей для разных визитеров в разное время и в разные дни, пока тот крайне эмоциональный период, проведенный с умирающим, не сведется к сухому, скучному уроку из учебника, который она, уподобясь школьнице, станет повторять как попугай.
В прошлом году Сарош, племянник Давлат, десять лет назад эмигрировавший в Канаду и теперь звавшийся Сидом, приехал к ним в гости из Торонто. Он не объяснил, почему с тех пор ни разу не приезжал. Но и после того визита тоже больше не появлялся. И это после всего, что они с Миночером для него сделали. Правда, помня, как она любит музыку, он привез ей из Канады портативный кассетный плеер, чтобы можно было записывать ее любимые песни с программ западной музыки «Карусель» и «Субботняя встреча» на индийском радио. Но Давлат не приняла подарок. «Бедный Миночер лежит больной, – сказала она, – а я буду слушать музыку? Никогда». И она не изменила своего решения, несмотря на рассказ Сароша-Сида о том, чего ему стоило пройти с плеером через бомбейскую таможню.
Теперь она жалела, что не взяла подарок. Пригодился бы (с горечью думала она), чтобы записать все подробности, втиснуть их с Миночером страдания в пластмассовый корпус и предлагать всем желающим, явившимся к ней, как того требуют обычай и традиция. Когда они соболезнующим жестом протянули бы ей правую руку (кончики пальцев левой руки трагически поддерживают локоть правой, как будто правая рука, изнывая от горя, не может справиться сама), она выдала бы им плеер с кассетой: «Вы пришли справиться о моей жизни, страдании, горе? Вот, возьмите и послушайте. Включите плеер, там все записано. Как заболел мой Миночер, когда начались боли, насколько они были сильные, что говорил врач, что сказал специалист, как шли дела в больнице. Клавиша "R"? Это значит "перемотать". На любую часть рассказа. Можно прослушать снова. Хоть десять раз, если хотите. Как сестра дала не то лекарство, но мой Миночер, внимательный даже в болезни, заметил, что таблетки другого цвета, и попросил ее еще раз проверить; как санитар всегда грубо подавал судно, пихал его под больного, как будто делал одолжение; как Миночер боялся, когда подходило время мытья губкой, потому что с ним обращались небрежно и бесчеловечно – "по пролежням словно наждачной бумагой номер 3", – шутил мой мужественный Миночер. Что? Клавиша "FF" значит "быстрая перемотка вперед". Если какой-то отрывок наскучил, нажмите "FF" и перейдите на другой, например, на рассказ о том, какие страшные пролежни были у Миночера в больнице; у меня даже слезы на глаза наворачивались, когда я их видела, сплошной гной, и всегда от них шел отвратительный запах, даже после мытья губкой, поэтому я попросила врача выписать Миночера домой; как дома четыре раза в день я меняла ему повязки с серной мазью и через две недели пролежни почти исчезли; как постепенно ему становилось все хуже и хуже и друзья перестали его навещать как раз тогда, когда они были ему очень нужны, друзья вроде вас, слушающих сейчас эту пленку. Что? Буква "P"? Означает "пауза". Нажмите, если хотите остановить, раз не можете больше выносить рассказ о страданиях вашего друга Миночера…»
Давлат заставила себя прекратить. Ох, уж эти горькие мысли усталой старой женщины! Какой в них толк? Лучше не думать об этих визитах, таких же неизбежных, как смерть Миночера. Единственный выход – запереть квартиру, уехать из Фирозша-Баг и пожить несколько недель в другом месте. Может, в пансионате в Удваде[74], в городе с самым знаменитым храмом огня. Но, хотя выбор места не вызовет нареканий, время поездки спровоцирует крайне оскорбительные толки и осуждение, на какие только способны местные парсы, а на это у Давлат не хватит ни сил, ни смелости. Придется терпеть их визиты, как Миночер терпел болезнь.
Давлат вздрогнула, когда в дверь позвонили. В такое раннее утро вряд ли кто-то пришел с соболезнованиями. Когда она подошла к двери, часы пробили девять.
В квартиру вплыла соседка Наджамай, так же плавно, как запах чуть прогорклого жира, неизменно ее сопровождавший. Все последние годы Давлат поражалась килограммам, свисающим с боков Наджамай. Сегодня к обычному соседкиному духу примешивался аромат дхансак масалы[75]. Запах еды долетел до Давлат и защекотал ноздри. Обычно можно было легко догадаться, что готовит Наджамай, потому что частичку кухонных ароматов она всегда носила с собой.
Хотя Наджамай была ровесницей Давлат, вдовство пришло к Наджамай намного раньше, превратив в крупного специалиста по религиозным ритуалам и нуждам овдовевших женщин. Раньше Давлат об этом не задумывалась. Смерть Миночера предоставила Наджамай неограниченные возможности, которые она использовала в полной мере, не давая Давлат проходу и бомбардируя ее советами по всем вопросам: от вещей, которые ей следует упаковать в чемодан для четырехдневного бдения в Башне молчания[76], до диеты, рекомендуемой в первые десять дней траура. Впрочем, с окончанием погребальных ритуалов службе советов Наджамай пришлось закрыться, после чего Давлат смогла смотреть на соседку, как и раньше, со смешанным чувством снисходительности и легкой неприязни.
– Прошу прощения, что так рано пришла, но хочу дать вам знать, что, если понадобятся стулья или бокалы, только скажите.
– Спасибо, но никто не…
– Нет-нет. Вы же знаете, вчера был дашму, я хорошо сосчитала. Как быстро пролетели десять дней! Сегодня люди начнут приходить, поверьте мне. Бедный Миночер был человеком известным, имел так много друзей, и они все придут…
– Да, придут, и мне надо подготовиться, – сказала Давлат, прервав излияния, грозившие превратиться в утренний пролог к визиту с соболезнованиями. Трудно было судить Наджамай слишком строго, той тоже выпали на долю и горести, и нелегкие времена. Ее Соли умер в тот самый год, когда дочери, Вера и Долли, уже уехали за границу учиться в университете. Наверное, Наджамай было ужасно тяжело нести так неожиданно свалившийся на нее груз одиночества. Некоторое время большой новый холодильник помогал ей поддерживать приток друзей-соседей, привлеченных предложением хранить в нем лед и прочими выгодами. Но после истории с Фрэнсисом этот приток тоже заглох. Техмина отказалась иметь хоть какое-то отношение к холодильнику или к Наджамай (ее мучила совесть, а катаракты все еще не созрели), Силлу Бойс ниже этажом тоже стала пользоваться холодильником значительно реже (хотя ее-то совесть была спокойна, а сыновья Керси и Перси и вовсе проявили себя героями).
Сейчас Наджамай, одинокая и заходившая к тем, кто терпел ее присутствие, заметила пагри[77]Миночера.
– О, какой красивый, черный и блестящий! Совсем как новый! – восхитилась она.
Головной убор действительно был элегантен. Много лет назад Миночер поместил его в специально купленный стеклянный футляр. Утром Давлат перенесла его в гостиную.
– Знаете, – продолжала Наджамай, – ведь в наше время пагри очень трудно достать. За этот можно выручить приличные деньги. Но вы ни за что не продавайте. Ни за что. Он же Миночера, так что держите его у себя.
Произнеся эти поучительные слова, Наджамай собралась уходить. Напоследок она обшарила взглядом квартиру, что вызвало легкое раздражение Давлат.
– Вы, должно быть, очень заняты сегодня, так что я…
Наджамай повернулась к спальне Миночера и, замерев на полуслове, на что-то уставилась.
– Ах, бап ре![78] Лампа все еще горит! У постели Миночера – это неправильно, совсем неправильно!
– О, я совершенно забыла, – соврала Давлат, изобразив огорчение. – Столько дел навалилось. Спасибо, что напомнили. Я потушу.
Но ничего подобного она делать не собиралась. Когда Миночер упокоился, вызвали дастур-джи из корпуса «А», и он подробно объяснил Давлат, что от нее ожидается. «Первое и самое важное, – сказал дастур-джи, – это зажечь небольшую масляную лампу в изголовье кровати Миночера. Лампа должна гореть четыре дня и четыре ночи, пока возносятся молитвы в Башне молчания». Однако лампадка принесла успокоение в притихший, опустелый дом, который лишился одного своего молчаливого и немощного обитателя, одной своей тени. Давлат оставила лампадку гореть и после назначенных четырех дней, постоянно доливая в нее кокосовое масло.
– Разве дастур-джи вам не рассказал? – удивилась Наджамай. – Душа приходит сюда первые четыре дня. Лампа нужна, чтобы ее привечать. Но после четырех дней, вы же понимаете, молитвы все произнесены, и душа должна быстро-быстро отправляться в иной мир. Если же лампу оставить гореть, то душу будет тянуть в разные стороны: и сюда, и в иной мир, поэтому ее надо потушить. Вы сбиваете душу с толку, – убежденно заключила Наджамай.
«Ничто не собьет с толку моего Миночера, – подумала Давлат, – он пойдет туда, куда ему надо». Но вслух сказала:
– Да, я сейчас же ее потушу.
– Очень хорошо, – ответила Наджамай. – Ах да, чуть не забыла. У меня в холодильнике много бутылок с напитками: «Лимка» и «Голдспот», вкусные и холодные, если надо. Несколько лет назад, когда люди приходили с соболезнованиями после дашму доктора Моди, у меня еще не было холодильника, и бедной миссис Моди приходилось бегать в иранский ресторан. Но вам повезло, так что заходите ко мне.
«Она что, вообразила, что я устрою вечеринку на следующий день после дашму?» – подумала Давлат. В спальне она подлила масла в лампадку, полная решимости поддерживать огонь до тех пор, пока чувствует в этом необходимость. Только дверь надо держать закрытой, чтобы соперничество двух миров с душой Миночера между ними не предоставляло визитерам возможности тоже в нем поучаствовать.
Она опустилась в кресло рядом с бывшей постелью Миночера и стала смотреть на ровное, ничем не колеблемое пламя масляной лампы. «Как и Миночер, – подумала она, – надежное и неизменное. Повезло же мне с мужем! Дурных привычек не имел, не пил, на ипподром не ходил, не доставлял никаких хлопот. Правда, когда заболел, мне здорово досталось. А сколько я нервничала, когда у него еще были силы спорить и сопротивляться! Отказывался есть, не желал принимать лекарства, не позволял мне ни в чем ему помогать».
Через стекло лампы было видно, как нерафинированное кокосовое масло оставляет на жидкости золотистый круг. Фитиль плавал, давая чистое, не коптящее пламя, точно маленький плотик на золотой поверхности. Давлат, ища ответы на трудные вопросы, остановившимся взглядом смотрела на огонь. Рожденный этим пламенем-плотиком, в ее памяти медленно возник случай с коробкой из-под сухого молока «Остермилк». Дело было несколько месяцев назад. Ее воспоминание не сопровождалось ни злобой, ни отчаянием, которые она испытала тогда; оно пришло к ней в совершенно новом свете. Сейчас она не могла сдержать улыбку.
На тот день пришелся ежемесячный осмотр постельного белья на предмет клопов. Исключительная важность задачи добавляла Давлат энтузиазма, который в других случаях не требовался. Она работала бок о бок со служанкой. Миночера удобно устроили в кресле, его матрац перевернули. Служанка одну за одной снимала планки кровати, Давлат же, вооружившись фонариком, осматривала каждую щель, каждый уголок, каждое возможное убежище насекомых. Она уже готова была разбрызгать смесь «Флит» и «Тик-20» и взялась за рычаг дозатора.
Но, не успев нажать на поршень, она заметила на полу между столбиком кровати и стеной большую банку из-под сухого молока «Остермилк». Служанка полезла за ней под кровать. Банка была плотно закрыта, поэтому пришлось поддеть крышку ложкой. Как только крышка отскочила, из банки пошла такая сильная вонь, что могла бы поразить нюх любого бывалого ассенизатора. Давлат быстро захлопнула крышку и стала энергично разгонять воздух рукой. Миночер вроде бы дремал, так что его обонятельные нервы не пострадали. Не пытался ли он подавить улыбку? Давлат не могла бы сказать наверняка. Но банку со снятой крышкой выставили за дверь черного хода в надежде, что так или иначе запах выветрится.
Поиски клопов продолжились, и опрыскивание завершилось без дальнейших помех. Кровать Миночера была вскоре застелена, и он в ней уснул.
Когда запах банки из-под «Остермилк» начал ослабевать, Давлат, сморщившись, заглянула внутрь: серая масса чего-то жидкого и твердого, но узнать по форме, что это такое, не представлялось возможным. Давлат взяла палку и стала исследовать влажное, чавкающее содержимое. Постепенно начали появляться знакомые вещи, пережившие удивительную трансформацию, но сохранившие остатки первоначального облика, и это ее потрясло. Теперь Давлат смогла разглядеть кусок яичницы, эксгумировать поджаренный тост, выудить косточку от апельсина. Так вот, значит, что он делал со своей пищей! Как он мог поправиться, если ничего не ел! Возмущение вновь привело ее в спальню. Она отказывается за него отвечать, если он собирается и дальше так себя вести. Неважно, больной он или нет, она все равно все ему выскажет!
Однако Миночер крепко спал, мерно похрапывая. «Прямо как ребенок, – подумала она, и ее гнев улетучился». Ей не хватило решимости разбудить мужа. Всю ночь он ворочался, пусть хоть сейчас поспит. Но с этого дня ей придется внимательно следить, как он ест.
Сидя у масляной лампы, Давлат вернулась в сегодняшний день. О таких эпизодах рассказывать визитерам нетрудно. Но им станет неловко, потому что они не будут знать, что делать: смеяться или сохранять выражение скорби, подобающее для визита с соболезнованиями.
Пусть банка «Остермилк» останется их секретом, ее и Миночера. Так же как и суп из бычьих хвостов, которому тоже пришел черед бесшумно уплывать в прошлое на огненном плоту по золотистому кругу лампадки Миночера.
В мясной лавке Давлат и Миночер вечно спорили из-за бычьих хвостов, которых оба они никогда не ели. Миночер хотел попробовать, а она, содрогнувшись, говорила: «Ты только посмотри, как они висят, прямо как настоящие змеи. С чего ты решил, что такое можно есть? Не к добру это. Я их готовить не буду».
Он называл ее суеверной. Бычий хвост, однако, оставался мечтой Миночера. После того как он заболел, Давлат ходила по магазинам одна и как-то раз на мясном базаре вспомнила о склонности Миночера пробовать что-нибудь новенькое. Она осторожно пробиралась по мокрому, скользкому полу, лавируя среди узких проходов между мясными лавками и избегая назойливых рук, сующих ей плечи, ноги и котлеты. Она заставила себя остановиться перед висящими предметами своих страхов и устремила на них долгий тяжелый взгляд, словно хотела подавить их этим взглядом, преодолеть к ним свое отвращение.
Давлат постоянно испытывала искушение купить бычий хвост и удивить Миночера – новое блюдо могло возродить его почти совершенно угасший аппетит. Но всякий раз мысль о вреде и несчастье, связанная с любым извивающимся предметом, не давала ей это сделать. Наконец, когда для Миночера наступила пора псевдовыздоровления, он проснулся однажды после спокойной ночи и попросил: «Сделаешь мне одолжение?» Давлат кивнула, а он лукаво улыбнулся: «Свари суп из бычьих хвостов». И в тот день они ели на обед то, что заставляло ее морщиться многие годы. С тех пор как болезнь перевернула всю их жизнь, это оказался первый сытный обед для обоих.
Давлат поднялась из кресла. Пришло время осуществить то, что она задумала вчера, когда шла домой из храма огня мимо парсийского Дома престарелых. Если бы Миночер мог, он попросил бы ее так поступить. Он часто просматривал свой гардероб, отбирая вещи, которые больше не носил или которые были ему не нужны, заворачивал их в оберточную бумагу, перевязывал бечевкой и относил в Дом престарелых для раздачи нуждающимся.
Давлат начала разбирать его одежду на каждый день: судры, нижнее белье, два запасных кушти[79], пижамы, легкие хлопчатобумажные рубашки для дома. Она решила сразу же их упаковать – зачем ждать положенный год или полгода и не помочь нуждающимся старикам в Доме престарелых, если она могла (и Миночер, безусловно, тоже мог бы) отдать их сегодня?
Когда первая гора одежды была сложена на расстеленной на кровати оберточной бумаге, что-то внутри ее сжалось. То же самое случилось, когда врач сказал, что Миночер умер. Потом отпустило, как и в тот раз. Она сосредоточилась на одежде. Надо положить в каждый сверток по одной из похожих вещей: судру, трусы, пижаму, рубашку. Так потом будет легче распределять свертки.
Склоненная над кроватью, Давлат трудилась, не замечая на стене собственную тень, падавшую от мягкого света масляной лампы. Хотя окно без занавесок было открыто, комната погрузилась в полутьму, потому что солнце было с другой стороны квартиры. Но света оказалось достаточно и в этой полутемной комнате, где для нее сосредоточилась вся вселенная во время тяжких испытаний, выпавших им обоим. Каждую мелочь здесь она знала досконально: умела не задевать посеребренный край первого ящика комода, за который могла зацепиться судра; понимала, как вытаскивать ящик с рубашками, который вечно заедало; давно научилась вставлять ключ под нужным углом, немного повертев, в замок шкафа фирмы «Годредж».
За стальной шкаф «Годредж» Давлат взялась во вторую очередь. Тут было непросто – в нем лежала одежда «на выход»: костюмы, галстуки, шелковые рубашки, модные домотканые рубахи, включая некоторые заграничные, присланные канадским племянником Сарошем-Сидом, – предмет зависти друзей Миночера. Этот шкаф опустошить будет трудно, каждая вещь напоминала ей о праздниках, новогодних танцах, свадьбах, навджотах
