Зарянка
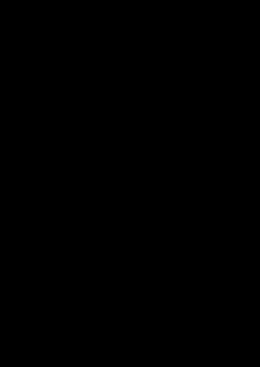
© Василий Евгеньевич Крюков, 2024
ISBN 978-5-0065-0232-1
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
⠀
Занимательная орнитология
Стояла прозрачная осень, лепесток василька витал в перламутровом небе, и снег всё не ложился. Чёрные борщевиковые зонты вдоль пустынной дороги, охристо-соломенное разнотравье и старые ивы по ночам покрывались тончайшим серебряным мхом. Далёкая деревушка в синем платке взглянула на нас в последний раз, согбенная, махнула уставшей рукой и ушла за зеркало. В зеркале отражались топазовые небоскрёбы, аметистовые развязки, площади сердолика, бирюзовые парки, стеклянные аллеи, малахитовые избушки и ларьки. В городе слов шумно хозяйничали роботы, а малые птицы общались негромко и ритмично в саду притч за кристальной стеной. Мы знали язык птиц, но потом стали говорить на нём не всегда, а нынче и вовсе оставили эту затею, явно детскую. Вот лето и прошло. Капли на голых ветках висели метко, и осень безмолвствовала, как вдова, отдавшая последнее по собственному желанию.
Редкие из перелётных пернатых ещё не переместились в тёплые края, большинство находилось уже там. Лишь завершающие мигранты не все перелетели, и зарянка Хавронья дерзала сквозь наплывы бокового ветра с закрытыми глазами, так она могла непрестанно крайне стремительно перемещаться на своей высоте. Оседлые виды, известно, никуда улетать не собирались, скитались, скупые на голос, тихо кочевали по редеющей местности. Ночные заиндевелые листья по утрам размокали яркими земляными оттенками, и акцент аквамарина проглядывал в сеписто-охристых, почти монохромных пейзажах.
Авеснаука всегда была щедра на тайны в сфере миграций. Перелёт в какой-то мере зависел от суточного фотопериодизма, сокращение светового дня до определённой величины заставляло птицу улетать из темнеющей страны в довольно точные ежегодные сроки, однако из светлых мест она возвращалась ничуть не менее пунктуально. В мире птиц отсутствовало время, но чувство отсутствия времени одним пернатым было открыто лишь в предвкушении, в обетовании, как ожидаемое, как будущая вечная жизнь. Другие жили уже без времени, и обещание исполнилось для них при здешней жизни. Одни не завидовали другим, не задавались вопросом: что такое – это отсутствие времени, как оно выглядит, где его искать? Одни переживали и лето, и зиму, а другие – из лета в лето перелетали.
Хавронья иногда снижала скорость, любовалась на долины, утопающие во млеке оттепели, на облетевшие леса, начинающие потихоньку зеленеть, радовалась тому, как по пути на юг чудесно меняется ландшафт, и ноябрь может быть по-весеннему нежным. Она смотрела на всё это не по-человечески, по-птичьи щебетала:
– Красиво! Как красиво у Тебя, Господи.
Она не знала о вращении Земли, не следила за лунными фазами и приливами и вовсе не обращала внимания на тёплый астральный свет Полярной звезды, как предполагают юные птицегадатели, нет, ей было достаточно чувства отсутствия времени для ориентации в бескрайней гармонии. Хавронья часто улыбалась, изредка плакала, наконец, спустилась с уровня облаков в сад Патерсона, чтобы заморить тамошнего червячка.
Сад был усердно прибран, все жучки, червячки, все опавшие фрукты и ягоды находились в кормушке возле избы и на птицеловном току в конце сада. Синий кобальт вечера густел, в избе горел янтарный свет. После работы в саду Патерсон творил дома под чудесной лампой. На столе лежала пачка свежих набросков – виньетки и графические окна. Он рисовал иллюстрации к рассказу про мальчика и пожилого абстрактного художника. Рассказ назывался «Ракета судьбы».
Живчик Никифка напоминал безымянному старику его самого в далёком детстве, сорванец подрабатывал глиномесом, уже крутил горшки немного, но только кроме терракоты не видел ничего, щеглов ловил случайных, сплетая из конского волоса «пленки» на головках репейника. Художник поймал Никифора проще, как большую синицу: достал мокрую холстинку, развернул её, а там был мягкий пирожок из чистого каолина в блёстках кварцевых вкраплений. Старик мгновенно слепил из жемчужного пирожка шестиконечный крест, объёмный, выстраивающий кубик, смял его в пирожок, завернул в тряпицу, и лупоглазый Никифка, просто как на верёвочке, побежал за ним.
Под потолком мастерской, словно золотистые колокола и купола, висят большие китайские бамбуковые клетки, но среди множества птичьих голосов Никифор отчётливо слышит один и тот же звук. Звук истёртой жёсткой кисти, трущейся о резонирующий холст. Звук кисти и холста.
Никифор в весеннем лесу.
Лесной конёк скачет над полянкой – летает определённым образом, токует в полёте, торопливо рассказывает лошадке своей, а та в низенькой молодой травке прячется.
– Душенька, выходи за меня, да, хоп, и за меня. Душенька!
– Куда тебе, хоп! – хитрая подбадривает.
А на макушке молодой ёлочки завирунчик лесной сидит, завирушка же его, невзрачная, внутри ёлочки прячется, и завирунчик вовсе не молчит:
– В своём «Диване» Гёте упоминает о художнике Мани кратко. Сирийская орнитологическая школа тоже, поэтому Мани и выиграл конкурс абстрактных художников. Мани минимальней всех, да и абстрактней всех, похоже. Любой манихей, как и Мани, проповедует при помощи искусства.
– Кого проповедует? – цикает разумная самочка.
И Весна света мимо идёт, как Пришвин в шляпе с палкой в руке.
Никифор в полях.
Среди бескрайних борщевиковых пространств, начинающих густо зеленеть раньше всего остального, малец, точно юродивый, стоит с открытым ртом, и до конца непонятно, то ли он в себя вслушивается, то ли в жаворонка с варакушкой, жаворонок слабый, далеко, а варакушка где-то близко.
Пустынная музыка.
Старик абстрактно пишет разрушенную колокольню на холме, даже не колокольню, просто столп, руину древней голубиной башни. Сообщает, что от семьи, содержащей голубиную башню, никого не осталось в живых. Одна ракета в вечерних лучах. Ракета судьбы. Господь промышляет каждую секунду. Всё это зачем-то нужно.
Мастерская в горнице.
Птицы поют в грудных клетках. Половина пространства завешено грубой холстиной, сквозь которую просвечивает большое голубоватое полотно. Свежая живопись, скипидаристый запах.
– Там море и кит, – говорит согбенный и полуслепой мастер в пол.
Потоп незримый, над потопом – новые люди и флаг Ионы. Если человек сможет научиться смотреть просто, всё его тело засияет. В саду времени нет. В дверь виден свет в таинственной овчарне. Ангелы под деревом простоты. Ангелы летят высоко над горами. Ангелы тянут длинные верви. Меру веры крепят людям на груди. Ангелы тянут железные канаты, цепи. Ангелы носят брёвна. Всё они делают беззвучно, лишь кеклики, горные куропатки, нежно посвистывают. Осыпаются редкие камни. Кони глядят в глубину цвета яблочного варения. Камни знают, что хотя война за сохранение тайны длится уже много тысячелетий, тайна герметична и окружена себе подобным, герметичным. Ангелы стоят на страже её, именно поэтому империи роботов она никогда не доставалась и не достанется.
Бородатый художник в тулупе и сапогах лежит на земле, в осенней траве, а рядом с ним – маленький светловолосый Никифка на коленях. Оба внимательно смотрят в сторону тока. Во рту у старика манок, а в руке боевая верёвочка, уходящая в кустарник. Художник учит Никифора ловить «с заводными», «на самку», «на бой», «в зеркало», на смоляной клей, на сычика живого, на одинокой старой лесной луже и на искусственном водопое.
Старик привёл Никифора на тайное собрание художников. Глиняные подсвечники, масляные светильники, стебло белого дыма тянется с блюдца фимиамницы. Никифора сразу избрали чтецом. Отрок читает «Эллипс ауспиций»:
«Благословен утешающий и смиряющий суетливую птицу – мысль человеческую. Благословен научающий мыслить нетленно. Благословен встречающий ратников, побеждающих в безмолвии.
Взгляни на нас милостиво, Господи, может быть, мы пригодимся Тебе, и сделай так, чтобы мы пригодились. Ты знаешь нас от начала до конца, наказываешь нас, исцеляя и обновляя, поражаешь, но и перевязываешь раны. Когда мы видим смерть, это видение отвратительно. Умилосердившись, Ты воздвигаешь нас вскоре, и мы славословим Тебя радостно. Творче наш. Благословенный всегда.
Искони мы пели небо. Твердь великого единства. Мы рисовали сад, птиц и жителей. Мы растворены солью истории, и мы собираемся вместе. Мы не похожи один на другого цветом кожи и разрезом глаз. О своей принадлежности к единственному народу мы тайно узнаём только от Тебя. Пространность нашей безвременной жизни и неисчислимость, подобная песку, говорят о том, что совершенно все, вступившие в великое единство, получили возможность петь и рисовать Страну милости…
Когда человеку доверена тайна, человек чувствует внутри себя силу тайны, и чем больше пытается осмыслить её, тем выше поднимается над мыслью, и знание его становится ясным, простым…
Это всегда ускользает. Думаешь, что обладаешь этим? Ты обманут. Это свободно летает, дышит, где хочет, там является, здесь исчезает. Не уходит совсем. Ты можешь только стараться приблизиться, чувствовать приближение, тонкость необжигающую…»
Треногий мольберт на зелёной солнечной поляне, холст блестит от свежей краски, рядом никого, сам художник вдали, под деревьями, с группой людей в светлых одеждах. Старик уже всё нарисовал. Кто-то завтракает на свежем воздухе, кто-то заметил в листве очертания Флоры, а он на брёвнышке сидит и на птичьем языке гаит, как синичка гаичка.
Умственная война с роботами началась давно и продолжается. Никакой поэзии. Мы все заблудились, потерялись в деревьях.
Ты находишь нас, зажигаешь нам сердце, открываешь глаза, мы смотрим. Красив бренный мир, но Ты смываешь брение, и мы видим свет. Мы теряем свет, вновь глядим на бренный мир, а Ты вновь смываешь брение, и мы понемногу просыпаемся, вспоминаем, задумываемся, учимся. Брение, скудель, пепел, сено – всё это материал для мысленного творчества, для самопознания. Ты посылаешь нас к воде смыть брение и стать целыми, едиными. Мы разделены, расколоты настолько, что о цельбе и исцелении даже не думаем. Исцелённые, мы возвращаемся к Тебе, целые, спешим благодарить Тебя. Петь. Нам радостно видеть Тебя. Быть рядом.
В помойках и по подворотням Ты избираешь нас из гастарбайтеров и бомжей. Вдали от глаз людских натаскиваешь нас как гончих собак старой породы. А когда приходит время, нам, сидящим в горах и плачущим, глядя в долину, повелеваешь сказать слово. Ты приходишь как неслышный ветерок, а человек с годами трудов проветривается от мирских представлений. Ты приближаешь человека к словам. Может быть, таково отшельничество, человек приближается к словам? Человек уединяется, чтобы видеть. Когда мысль его поднимает, видит – любовь выходит из берегов. Человеку всегда хотелось говорить с Тобой. Молитва его рвётся, рвётся, рвётся, а слава Тебе – непрерывно продолжается.
Пою милость Твою. И тайну. Ты возрадовался, когда знание из гостиной сбежало наверх к беззаботным детям. Ты познакомил меня с такими людьми! Ты учишь уходить от бестолковой игры словами. Бежать от торговли словом. Спасаться в гору от пустословия в долине. У слова есть путь. Он как извещение уповаемым. Как обличение невидимых вещей.
Мастер сообщает Никифору о том, что истинная природа человека – это одиночество.
– Судим человек – один и любим – один, помилован, облагодатствован особенно, индивидуально, поэтому для смирения, Никифор, тебе пора в горы уходить. И учиться подолгу находиться наедине с горными птицами, наедине с собой. Без уединения познать себя невозможно. Уединение необходимо для единства. Внутренний робот замолчит, если долго нет электричества. Сначала надо ещё увидеть его, робота, но ведь ты давно уже с ним борешься, не так ли?
От роботов сокрыто то, что человек – это единственное существо на всей земле, которое знает, что оно умрёт. Роботы никогда не поймут, зачем человеку это знание. Они ищут начало людей, но не видят ветхого плачущего старца, который сквозь слёзы глядит на восток. Он сидит под деревом покаяния. Смотри, вот подходит к нему Приточник, берёт Адама за руку, помогает ему приподняться, а с неба в это время съезжает стеклянный эскалатор из страны счастливых песен.
Одну фразу запомни, спрячь её, а когда другая фраза глубоко тронет тебя, приложи её к первой фразе, и начнёт получаться текст. Если встретишь людей, путешествуя в горной местности, они накормят тебя, обязательно накормят.
Чрезмерные занятия словесностью заводят в дебри, превращают в изгнанника из долины, отшельничество – опасная школа, но если точно слово слышишь – иди. Будь осторожен, ивовое полено искрит, как бенгальский огонь, и в оттепель сажа в печи загорается. Бешеный зверь приходит к человеческому жилью. Хочешь нести тайну огненной милости, становись обширным, как свободная вода. Идея поднимет тебя. И множество обителей, многочисленность миров. Ивы в деревне шепчут глянцевой листвой. Пустыня незамысловата. Дебрь. Учись тому, что ты здесь ищешь. Научайся тому, что пришёл ты здесь искать. Отшельник не просто прячется, есть Прячущий его.
Скажи человеку: беги, уединяйся. Поднимайся в гору. Пой допотопные песни. Беги из города в деревню. Беги из времени. В саду времени нет. Он не поймёт сразу ничего. Скажи тогда: возвращайся домой. Строй лодку. Поймёт, не вавилонянин. Или нет, не каждый, это непросто. Тайна зовёт убегать и поднимает в гору. Тайна – руль корабля, кормило.
По слову мастера Никифор оставляет птицелюбов долины и один уходит далеко в горы. Он много думает о смерти, о том, что она не имеет сущности, а человек предполагает, что знает о ней. Она у человека на пути – как что? И время напоминает о ней, и мудрые книги повествуют о ней, говорят о смерти как о поставленной перед человеком задаче, поставленной именно для решения. Если смерть – исключительно грех, то отложение тела – это нечто другое, нечто связанное с тайной отсутствия времени. Господь смерти не создавал, нет её в стране птиц.
Никифор живёт в маленькой горной хижине и создаёт аппликативные абстракции на скалистых утёсах. Что-то чернит углём, фрагменты промазывает красной и жёлтой глиной, мокрой золой, диким мёдом, клеит в мёд и глину сухие листья и перья.
Крики и резкие звуки в горном осеннем лесу. Данте и Беатрис пробираются сквозь колючий безлиственный кустарник, демоны со всех сторон нападают на Беатрис, Данте отражает их сверкающим мечом.
Одиноко живущий человек оказывается внутри и вне самых разных видений.
Когда Ангел поднял меня в горы, я увидел большую чёрную дыру, которая всасывала мириады живых людей. Когда Ангел приблизил меня к краю огромной чёрной воронки, я оказался на берегу необыкновенной реки. Вместо воды в реке текли деньги, мелочь и бумажки, валюта самых разных стран, а людей вокруг не было. Потом деньги в реке закончились, а потекли какие-то документы, научные открытия, патенты, военные секреты, засекреченные научные эксперименты на разных языках, закрытые космические разработки, стоящие дороже самих денег. И опять я оказался в горах, а чёрная воронка вертелась вдали.
– Не думай, что ты совсем не участвуешь в этом круговороте, – сказал мне Ангел, – но так как твоё участие ничтожно, это и открывается тебе. Ты видишь большого зверя, большого демона, князя бренного мира, имя его состоит из трёх цифр. Именно столько талантов мзды ежегодно получал один мудрый царь, чья мудрость подвела его в старости.
Я ужаснулся и изнемог.
Глаза Никифора. Свет в горах, тьма в долинах. Сад плывёт. Дерево. Общество с падшими ангелами на витринах. В долинах – рабы искусственного интеллекта, в горах – редкие инопланетяне. Тяжко, но будет добрый финал, если мы знаем хоть одну песню чудес.
В долине, залитой вечерним светом, всё направлено на раскрытие тайны, все хотят просто избавиться от тайны или раскопать тайну, метод используют рациональный, а он тайну не может поднять, вот они и мытарятся там, в долине. На горе – другой подход, тайна не открывается, наоборот растёт, расцветает, разрастается, и все кругом только рады, а это уже метаматематика, иррациональный мир.
Старые ивы так украшают деревню, навевают сон. Просыпайтесь! На горе сильный ветер ломает им сучья. Просыпайтесь, думаете, высоко живёте? Вы по горло в незримой пылающей воде! Под раскидистым деревом милости – небольшое дерево суда с запахом ладана и мирры, не похожее ни на какие деревья. Дерево счастья для одних, для других – преткновения и соблазна. Падшие ангелы выдают людям небесные тайны, и люди гибнут. В долинах они учат людей хитростям. Ловят на роскошь, но сначала долго учат тому, что стоит считать роскошью. Добрые Ангелы помогают увидеть, как имена складываются в тексты, тексты в книги, книги срастаются в одну, и она становится именем. Легко человеку, которому Ты помог очистить представления.
Роботы осудили художника. Мастер перестал принимать пищу за две недели перед казнью, он не принуждал себя, ему просто не хотелось есть. Так как голодал он часто, ученики не придавали этому значения. Несмотря на шаткость в коленных суставах, мастер чувствовал себя легко, сердце его светилось нежным светом. Он смотрел в долину, разговаривая с этим тонким светом, лёгким, как безветрие в горах. В этом безветрии медленно плыл одинокий осенний комарик. Мастер знал, что таинственное дело его живёт в учениках, жило до него и будет жить после. Тайна сама будет находить их, выдавать им палитру и кисть. Он знал, что мастер скрыт в своей мастерской.
Мастерская в горнице. Никифор плачет. Старец ходит между учениками, смотрит в пол, говорит негромко.
Тайна в том, как Христос собирает всех вместе, смотрит на нас, прозревает, и нам становится теплее. Так кокош собирает птенцов под крыло. Любовь видит всё, начало и конец. Знает, понимает, прощает, исцеляет всех. Любовь учит. Открывает глаза, и мы глядим в небесные скрижали. Что видим мы на горе веры? Сад милости. Дерево птиц.
Много веков назад один человек сказал, что раз любовью всё началось, любовью всё и закончиться должно. Сердце у него до сих пор горит тонким огнём, милости ищет, о милости думает.
Господь сообщает через людей то, что нужно им передать. Империи невыгодно, чтобы инопланетянин знал, кто же он на самом деле. Не знающий себя и не таков. Пришелец напишет короткий рассказ, и сгорит вся злоба на земле.
Я уже почти ничего не вижу, но за окном поздняя осень. Темные дни в стиле старых голландцев – чёрный, серый и охра разных оттенков, от медной до ржавой. Иной раз кисть махнёт по голландцам нежно-голубым или мигнёт глянцевым огненным желтком где-то в перспективе, но эти мазки быстро тают, палитра цепенеет, останавливается во времени. До свидания, дети.
Ты приоткрыл мне сад души, и госпитальный сад снаружи, и вижу я, как Ты живёшь внутри. Живёшь, приходишь и уходишь. Ты здесь. Как мне молчать? Когда светло так несказанно. Я исповедую Тебя, Господи Иисусе Христе, Боже мой в великом Твоём страхе. Совершенно недоумевая, как Ты меня такого удостоил.
Яблоня Марья. Яблоня Марья. Древо недомыслимое. Плод Твой ярче солнца освещает сад. Дево. Покров – Твоя листва. Яблоко Твоё – Царь. Сын Твой очищает людские сердца, но как же велика Твоя помощь в этом! Лестница выше мысли. Яблоня, родившая Садовника.
Казнь художника.
Дети художника присматривались с детства к тому, что такое творческий процесс. Присматривались, слыша назидание, замечание, притчу, образ, просто наблюдая за рукой. И пробовали делать сами.
Было время, и мы служили кумирам, идолам в долине, но Ты сказал, и мы внутри себя восчувствовали силу слова Твоего. Сеть тонко накрывала города. Инопланетяне плакали, видя простейший страшный суд. Долины были покрыты незримой сетью, ночью они горели цветными огоньками. В долинах люди боролись за ценности. Эти ценности им были определены судом. И эти места, где они любили собираться все вместе.
Под надзором новых камер – городской вечерний фарс. Тельцы упитаны, откормлены, лоснится шкура. И вот они заколоты, но они этого не знают, и когда собираются в своих золотых загонах, говорят друг другу – хорошо мы живём! Голос их не слышен им самим, он как листва на ветру. Под надзором тех же камер стройно плывёт общественный транспорт.
Когда инопланетяне хотят облегчить судьбу людей и спускаются в долины, их называют там рабами деревьев и пытаются убить. Инопланетянина убить нельзя, потому что он послан передать человеку добрую мысль. Он оживает за два дня, а в третий восстаёт в новом месте и теле. Пророк Осия не без притчи учит о позднем дожде.
Старый орёл-змееяд заставляет молодого держать ровные размеренные круги и дистанцию. Это минимализм, простейшее учение, у человека есть центр, и там тихо в центре, тихо.
Дети, когда вы окажетесь в саду, ищите дерево милости. Здесь лишь по милости окажешься, иначе как? Всем, кто залез сюда в окно, кто попал сюда самовольно, им здесь неуютно, они убегают отсюда, не прозревают сюда. И мастером никого не называйте.
Твои руки зовут, говорят о том, как вокруг всего много. Слово раздаёт знание, и всем достаётся ровно по душе. Слово ничего не скрывает, не прячет, но кто лучше слышит, тот ближе и подходит.
Царь-дерево. Источник воды. Пью, пью, внутри уже тепло, как от вина. Твой сад – новый. Я был в Твоих горах, смотрел в небо, в том небе видел горы, и был в тех горах, смотрел в небо, видел там землю. Твердь. Воду. Сад правды. Дерево инопланетян. Благословен, Кто вещает нашим языком тайны Свои. Твой космос скрепляет мою внутреннюю связь. Я овца, застрявшая в шипах дикой сливы. Ты мой жертвенный костёр.
Никифор встретил в горах художника, узнал его, с третьего слова услышал птицу Приточника.
Тише едешь – дальше будешь. Светлый пикапчик – деревенская машинка. На туманном утреннем шоссе – ворон у трупа енотовидной собаки. Город и деревня как земля и небо. Данте прощается с Беатрис на сельской автобусной остановке. Вечер. Не самая яркая, но самая чистая звезда, чуть севернее центра неба. К этой неподвижной звезде, мимо всех плывущих по своим кругам цветных огоньков, опять полетит ракета судьбы – тончайший космический аппарат «Хаврошечка-1», душа моя, зарянка вернётся домой, чтобы нежно петь. А так и бывает: пишешь, пишешь лирический пейзаж, а потом раз – космос.
Мюнхаузен в раю
Живописец пишет с натуры, а Приточник изображает внутреннюю природу. Когда художнику открывается внутренняя природа, он переживает люминофанию и рисует её целыми днями, ничего уже не хочет от здешних красот. «Она же невидимая, эта природа», – все ему говорят. Он пишет усердней, понимая, что раз они не видят, то непременно он должен её им показать. Она ни замереть, ни позировать не может, и вот он ловит её, как птицу. Пишет, если пишется, пальцы болят кисть держать, мастихин, а он не замечает. А когда не пишется, чтобы рука опять записала, лепит из глины, дерево режет, камень тешет, медь травит. Больше того, музыку сочиняет, кино снимает, математику всё дальше изучает, читает, слушает и смотрит по сторонам лишь для одного – чтобы рука опять записала. Живопись – это же не масло на холсте, художник верит в то, что живопись – послание человеку.
Недавно я на выставку ходил. Конкурс там был. Один художник победил. Он школу минимализма окончил. А если ты школу эту окончил, если победил, то тебя внутрь твоей работы отправляют. Всю душу в тему вложишь, как потом за ней не отправишься, за душой-то своей? Картина известная. Люди на джипе в Царствие Небесное едут. Собирательные, общие образы наши. Лето. Зима за шлагбаумом. Поля борщевика. Дева оная бежит. Зимняя дорога тянется долгая, водка здешняя уже бестолковая, музычка, на чистяках прописанная, проницает мозг натянутая струночка, и бах – в сиятельных снегах – ракета судьбы. Суд и любовь. Колокол доммм. На снегу – трупы тёмные тех, кого не взяли.
Я русский человек, грузовик вожу отечественный, голубой, в дырочку, жизнь видавший, это не крузак, глухой стук, но потихоньку, помаленьку и на нём же доедешь. Старая-то колокольня затонула, двенадцать всплыло в разных местах. И то, что художник себя среди трупов уложил, это он схитрил. Он всё это увидел, нарисовал, донёс до людей, это доказывает, что его взяли. А то, что среди трупов, так это так у художников полагается.
Из Балаково я родом. Это остров на Волге неправильной формы. Я всё Облаково по берегу на грузовике голубом объезжаю, остановлюсь где-нибудь на шхере: тишина, туман над рекой, россыпь огоньков еле пробивается. Скажет выпь сказочно: бу-у, – и рэпчик тихий, неразборчивый, с дальнего берега польётся. Блалайкой благ, облак, облак, эх, благ, Облаково беспросветное наше. Припев женский: не, не, не, разоблачается небо-о-о. Люблю это, и по кругу, против часовой стрелки, езжу. Балалаюшку люблю, балалаеньку стройную скромную. Подкуёт мне зубилом Левша в гараже гайку ржавую, платиновую влепит, я дальше плыву. Меня не видно – одна гайка плывёт. Наскочу на ухаб – гайка спрячется, и за спиной глухой стук. Круг проедешь не так-то быстро, Матушка медленно течёт, и внутри – круговерть моя тихая, и галактическая плавно рисуется спираль.
Фамилия у меня сказочная – Мюнхаузен, а дело простое: прабабке моей немец поволжский достался, волгадойч, даже раньше, прабабке её прабабки, давным уж давно. Мне в детстве нелегко было с моей фамилией, наверное, поэтому никто из меня толком не вышел, актёр, да и тот непрофессиональный, любитель. У нас в Облакове маленький театр есть, постоянной сцены нет, редкие птицы слетаются там, где локация живописная, и зрители тоже редкие, одни и те же, жёны, дети. Мы в Саратове ставили «Первую пулю», про юного Лермонтова, подростка. В Томске играли «Просперо», притчу о старом духоиспытателе.
Ещё мы мультики рисуем, фрагменты реальности монтируем, склеиваем кусочки в одну историю. Она начинается с Адама, который в первый раз, впервые в своей жизни – малиновки заслышал голосок.
Обнажённый человек с чёрным фломастером на зелёной поляне. Глаза Адама. Он открывает пробку фломастера и в центре своей груди рисует абстрактное яблоко с листиком – овалистый кружок со штришком сверху.
Адам говорит:
– Моя тайна ещё впереди. Я как водитель невидимого грузовика, за спиной у меня всякая ерунда – доски, камни, глухой стук. Камни, пожалуй, интересней всего. Их можно разбрасывать вслепую, но желательно внимательно собирать. Если камни собираются разумно, то в строение. В идеале – беззвучно, но иногда слышится глухой стук. Подвигая тяжёлый словесный камень, легко надсадиться, надорваться, нужен длинный деревянный рычаг, упраздняющий смерть. Господи, прости и помилуй нас.
Адам кладёт на себя крестное знамение. Берёт из левой руки фломастер, открывает его звучную пробку, ставит в центре своего яблока малюсенький крестик, продолжая:
– Про камни я напомнил, теперь о глине. Бог слепил меня из глины и жизнь вдохнул. Своими руками слепил. Я отличаюсь. Самую малость. Я глина, в глину и ухожу, но жизнь-то эта, Богом данная, куда денется? Она не может пропасть. То, что Бог вдохнул, то вечное. Ждёт она, душа, томится в глине, долго ждёт, но если целеустремлённо, если верит, то вскоре Господа видит. Вот чудесно что. Вот почему я здесь. Сказать несколько слов. За гробом времени нет. Там нет никакого времени. Четыре тысячи лет или три дня – разницы нет. В истинной реальности никакого времени тоже нет. Все живые живут без времени.
Заряночка тихо поёт. Свирельное пламя струится, течёт, переливается, ниспадает с порогов, журчит и возвышается, не возвращаясь вспять. Все колокольчики, садовые и полевые, поднимают на рассвете свои тяжёлые и лёгкие головки, чтобы услышать её рулады. Люди давно приметили эту хрупкую символическую птичку, она доверчива и всегда сопровождает человека, работающего в саду. Исполняя свою нежную неповторимую песенку, она импровизирует, исходя из собственного опыта и мгновенного настроения. Голосок малиновки проникает, как 153 пули в одну дырочку. Нездешние колокольчики бегут, перегоняют друг друга, толкаются, прыгают, падают, встают и вновь во все стороны разбегаются с легчайшим звоном. Человек-пестик, в чёрном фраке, толчёт сырую глину. Глухой стук.
Облако из ласточек-береговушек. Из трёх видов наших ласточек эти – самые невесомые. Облако из ласточек – живая графическая абстракция, некоторые ласточки вылетают из облака и ныряют в норки, которые рядами украшают песчано-глинистый обрыв. Поблизости – вода. Недалеко от гнёзд в пепельно-охристой стене обрыва вылеплен барельеф. Адам во весь рост. В отдалении – бивуак, охотничьи крытые телеги, походные кареты для путешествий и шумный маскарад прекрасных очень молодых людей. Все вооружены. Никаких секундантов, никаких флигель-адъютантов, одни таланты, одни красавцы, одни поэты.
К Адаму подбегают Одоевский и Погорельский, один из подростков втыкает в грудь Адама белый платок. Пушкин, младой-младой, стреляет тайком из настоящего пистолета. Глухой стук. Мальчишка Андерсен – из трубочки – горохом. Жюль Верн платок втыкает глубже из ружья. Из аркебузы на штативе – молодой Сервантес. Юный Гёте пулю усадил. Вслед за Вергилием уж Данте запустил копьё. Петрарка выстрелил из малого охотничьего лука. Из арбалета – неизвестный миннезингер-менестрель.
Тут зазвучала балалайка. Лалалал. Адам выходит из стены, словно глиняный Шрек, а весь этот детский сад вместе с Шекспиром разбегается в ужасе, побросав оружие. Сверкая глазами, Адам им вслед грозит:
– Прохвосты, шалопаи! Никто из вас не думает над корнем слова «адамант»!
Юный Блейк ничего этого не видел, не тренировал со всеми руку художника, впрочем, он в это время снимался в фильме про маму, которая сгорела.
Уходящая в перспективу аллея из малахитовых пирамидальных туй. Нефритовый газон. На первом плане – серый мрамор памятника на тумбе, а в конце аллеи – катафалк. Чёрная лакированная карета и чёрная лошадь. Кучера нет. Стёкла кареты матовые. В карете сидит Льюис и играет на длинной прямой дудочке. По контракту клуба звукозаписи играть на дудочке такой формы должно весьма определённым образом. Её нельзя выпускать из губ, брать в руку, работать ей как указкой. Это флагманская дудочка, это не боцманский саксофон Холмса. Льюис и не выпускает дудочку из губ, указка ему вовсе не нужна, он думает о зеркале. Кучер от этой музыки уже давно сбежал, но художники всегда думали о зеркале. Абсолем. Я с этой стороны. Щелчок. Дверь открывается. Бледный Льюис в белой шёлковой рубахе выпрыгивает из кареты и тоже куда-то бежит. Дудочка улетает в кусты.
Лето. Река. Слепни. Жара невыносимая. Никифор купает в Оке лошадей. Чёрных, гнедых, кауровых. На берегу стоит художник в широкополой соломенной шляпе без рубашки. Этюдник открыт, пришпилен кнопкой белый бумажный лист. Петров-Водкин ловит линии грации мягким карандашом, весь лист в скетчах, надо уже другой пришпиливать. На песке лежат несколько набросков: иные животные резвы, танцуют в воде, прянут шеями на раздолье, гривы и хвосты их летают, иные же спокойны, пьют воду, глядят по сторонам. Художник спустился к реке из своего имения.
Обнажённый юноша бежит к берегу из имения по соседству. Это молодой Набоков. Он останавливается на мгновение, смотрит вокруг. Небо в ласточках и режущих воздух быстрых стрижах. Зеркальная лента Оки слепит глаза. Молодой человек предвкушает скорое купание и вновь бежит к воде. На берегу юноша встречает художника. Соседи давно знакомы. Они разговаривают о том, что из самого Кейптауна, через всю Атлантику, к Володе скоро приплывёт коробочка с тремя чудеснейшими бабочками. О том, на каком ясене руны растут, и о том, почему каурка вещая. Потом Петров-Водкин как закричит:
– Никифор! А ну-ка, подведи к нам одну лошадку, вон ту, Мерани. Володенька, а вы садитесь-ка на неё, садитесь. Я сейчас черкану мгновенно, и «Купание красного коня» когда-нибудь родится.
Жемчуг в зеркале. Открытое море. Волна. Былинка приближается. Читается силуэт всплывшего кита. На спине плывущего кита кто-то стоит с флагом в руках. Спина старого зверя в язвах, из неё торчат гарпуны и крючья. Гигантский красный глаз. Пророк Иона, голый, держит древко знамени на сильном ветру. Худые жилистые руки, мокрое лицо. Глаза Ионы.
Вечерняя мгла в горах, сквозь облака и горные вершины проглядывает гематитовое море. В глубокой долине, на дне пропасти тлеют голубые угольки разворошённого кострища. Мегаполис. В горах холодно. Какое-то растение – тыква, чёрный боб, альпийский голубок, не важно, всё это растение в ледяных белёсых каплях застывшей росы. Иона внимательно разглядывает одну из ледяных капель, та голубеет, оттаивает, капает. Глухой стук. Иона плачет.
Серая мостовая выглядит размыто, она пуста, лишь на хорошей дистанции впереди сквозь дождь искрят бортовые огоньки серого «жука». Серебряный троллейбус медленно проплывает мимо Хавроньи под незабудковым зонтом, но Патерсон не замечает её, головой он не вертит, всё время глядит вперёд и по зеркалам. Вчера иллюстрации к «Ракете судьбы» рисовал до поздней ночи. «Дворники» раскатывают капли, но капли вновь кротко бьются в стекло, и блестящие ручейки текут по его краям. Глухой стук. Разбитые капли напоминают абстрактные лепёшки, округлых инфузорий.
Капля я. Я капля. Капли мы. На каплю похожа капля. Теку, теку всегда. Лечу и разбиваюсь, и опять лечу. Ищу себя, разыскиваю, испаряюсь, собираюсь в каплю вновь. Я капля. Капля я. Причастница воды. Одной. Питательница. Разве умираю и рождаюсь я всё той же каплей? Нет, другой уже. Я капля. Капли мы. Капли.
На остановке вышел Мюнхаузен. Глухой стук. Он думал над словами Адама. Мне нужно найти себя. Узнать себя. Физическое амальгамное зеркало мне давно не помогает, здесь другое зеркало работает. Необходимо написать письмо в будущее. Письмо с картинками. Себе. Вернее, мне нужно два письма написать, в прошлое и в будущее, чтобы три письма получилось вместе с настоящим, но так как в прошлом и настоящем найти себя всё же чуть легче, то по большому счёту мне нужно написать лишь одно письмо в будущее. Чудесно. Это невозможно, но если я опять окажусь здесь и если, что ещё менее возможно, этот текст попадётся мне на глаза, вот тогда чиркнет, вспыхнет, и я узнаю себя. Неунывающего Мюнхаузена! Ухабистый текст. Словосочетания. Предложения из одного слова. Первичное сияние всей сферы. Узнаю улетающие от времени фразы, совершенно оторванные. Глухой стук.
Через одну, после Мюнхаузена, из серебряного троллейбуса вышел слепец, человек с тросточкой и табличкой BLIND на груди. Какой-то хулиган зачеркнул на табличке букву D. «Надо уходить отсюда, – думал Блинд. – Колокольню бы эту найти, к которой Мюнхаузен телегу привязал, добраться бы до неё, если доберусь, точно прозрею». Блинд учился ходить без тросточки, по внутреннему чувству. Для этого нужна была полная внутренняя тишина. Страхуясь тросточкой, он потихоньку двинулся по какому-то тротуару в чистом безмыслии. Стук. Пустая гофрокоробка.
Далёкая заброшенная деревня среди таких же брошенных. Девственная трёхметровая трава. Над ней болотные совы беззвучно летают, а самая старая из сов изредка делает нарочито звонкий хлопок крыльями. Дымок. Оказывается, что в деревне живёт Баба Яга. Это дед Никифор, похожий на сказочную старушку, обжигает горшки в земляной яме. У него две козы, чёрная и белая. Он одну подоит, молоком её другую покормит, потом наоборот, куда молоко-то девать? У него станок гончарный, грубый, ножной, он горшки крутит, а потом бьёт, куда их девать? У него весь частокол горшками увешан, и на каждом горшке глаза угольком нарисованы. И вокруг везде – горшки глазастые, на кустах и корягах. С дедом живёт большой американский кот, который сбежал из мегаполиса и сам пришёл к нему. Молоко козье не пьёт, полёвок, птиц и лягушек жрёт. Может быть, это местный камышовый кот. Никифор занимается своим ремеслом, он весь перемазан в глине, рассказывает о себе и показывает то, что он делает.
Пророк Исайя научил меня любить землю своей таинственной притчей о земледельце, и теперь я разминаю глину, не глядя на неё, или даже немного сдвигаю время, и ещё только иду с лопатой и ведром за красноватой местной глиной, или сквозь кусты в высокой траве пробираюсь за серой. Здешняя серо-голубая в светлую совсем, песочную, в розово-хлебную, запекается. «Простота – мать веры», – говорил Филоксен Иеропольский. Мне надо лепить гораздо проще.
Сейчас я мну увесистый шматок холодной глины, шматок размером с человеческую голову. Я сминаю его в лепёху, в большой лаваш, скатываю в рулет, отжимаю, как тряпку. Я бью его о доски верстака, на досках – мокрая холстина. Глухой стук. Слово любит меня. Слово ставит предо мною непростые задачи. Глухой стук. Мне предстоит вселиться в своих персонажей и побывать внутри не только у добрых, Ангельски умных, но и среди обременённых, страждущих, униженных и оскорблённых, среди шутов и мёртвых. Недолго. Мне нужно устроить им всем жизнь. Глухой стук. Шматок готовой мягкой глины я со шлепком усаживаю в самый центр кружала. Шлепок.
Между юмором и юродством – пропасть. Гоголь и Достоевский пробовали юродствовать, Булгаков пробовал. Для каждого по-иному юродство его закончилось. Кто смотрелся в зеркало юродивых? И кто они, Христа ради объюродеша? Царь Давид, когда надо было – слюни пускал, притворялся, а то и вправду сидел как вран на нырищи, как выпля на зде, и пьющие сикеру шептались, а пьющие вино в воротах шумно толковали. Пророки, Василий Блаженный и ещё многие голыми ходили, обижали их всех. Достоевский после мешка на голове заново родился, а бедному Гоголю судьба таких подарков не дарила. Опасная старая школа. На невидимой войне количество героев растёт, и их пули всё чаще летают.
В семинариях, в академической среде всё догматично, логично, здесь же наизнанку преподают, сбоку невидимые учителя. Опытом познаётся искусство открывать ключом приключения. Скажи человеку: романтика! Он может подумать – юродство. Правильно попадёт. Свифт, Дефо, Распе – все в юродство подались, ведь только дети понимают: когда человек смотрит на себя без зеркала, он делает это из невидимого мира. Юродство хрупко, чуть начнёшь ради себя юродствовать, не ради Бога, всё, пиши пропало. Но зато если правильно это делаешь, горшки начнут выходить волшебные, как у Гофмана. Целый мир тебе откроется, как Жюль Верну.
Шматка шлепок, и кочан плющится, превращается в терракотовый мозг. Чем сильнее этот мозг прилипнет к кружалу, тем крепче будет держаться, когда я буду его центровать. Кружало у меня собрано из липовых дощечек. Оно не совершенно плоское, по центру есть едва заметная просадка, параболичность. Это помогает центровке, когда я вертящийся шматок в еле заметное блюдце вдавливаю. Руки я в ржавом тазу с водой смачиваю. Глиняный мозг тоже весь хорошенько смачиваю, чтобы он склизкий стал, блестящий, шликерный. Шликер – глина, жидкая, как молодая сметана. В кучку мозг немного собираю. Пока у меня не крутится ещё ничего, но вот я чуть толкаю правой ногой нижнее колесо.
Пустое озеро. Зеркало небесное. Берега нет, а Нил нестяжатель видит костёр на том берегу. Инок Епифаний в огне.
Мои шликерные руки ходят ходуном, и в руках моих мозг неотцентрованный болтается. Я с осью вращения работаю. Чуть мимо надавлю, форма слетает с оси, оставляя на кружале лишь глиняную завитуху. Сейчас у меня ничего не слетает, сейчас чудо начинается, неровный мозг постепенно стирается о мои руки и потихоньку превращается в купол. Давишь болтанку аккуратненько, в центр вращения оси вдавливаешь с боков и сверху, синхронно, и вдруг в какой-то момент замечаешь, что руки болтаться перестали, а у тебя – купол. Да красивый, правильный. В этот радостный момент ты можешь ногой раскручивать круг свой с любой скоростью, если он, как и мой, механический, с электрическим кругом, там радости-то другие.
У нас в России поэт один есть, его все поэты знают. Он бомж, в каком-то городе северном живёт свободно. Весь город его. Он недавно очередную премию поэтическую получил. В том городе мэр сменился, а старого хоронили всем миром. Венков, цветов – гора из еловых веток, шоколадок и роз. Замёрзший голодный поэт вечерком тихонечко внутрь этой горы залез, шоколадку съел и давай с покойником разговаривать. Говорит ему:
– Спасибо, хоть сейчас пригрел, а то ведь пока ты жив-то был, я всё стучался к тебе, стучался, а ты всё мне никак не открывал.
И Гоголь хитрец ещё тот. Тарас трубку в траве потерял! Люльку свою глиняную уронил где-то и ищет. Хлопцы сбежали давно, а он всё ищет, надо же! Хлопцы уж к реке спустились, у каждого хлопца этих люлек – полный карман. Нет, Тарасу его трубка нужна, аутентичная! Думаете, она у него была в оправе из серебра? Может, из метеорного железа? Да нет, самая простая глиняная люлька. Тут Тараса берут и распинают на дубе. Ай да Гоголь, ай хитрец, всё про глину знал.
Смотрите. Я слегка придерживаю вертящийся купол с боков, а сверху, в самую маковку, запускаю два больших пальца. Я поджимаю вертящуюся форму снизу и потихоньку раздвигаю большие пальцы. На глазах рождается чаша. Чаша – это начало. Начало любви и суда. Нездешний строитель. Чаша – начало горшка, начало кувшина. Её можно распускать вширь, в блюдо, можно тянуть вверх, в крынку. Дальше я работаю уже с одной стенкой, со стеками и влажной губкой. Стеки я делаю из древесных щепок. Я недостоин такие вещи рассказывать. Мне нужно в Ниневию, а я в Фарсис бегу. Да и в Сигор не спешу, а Бог меня всё ждёт, терпит, прощает, милует, дал мне жену, детей и пока ещё только двух внуков – Тихона и Феодора.
Готовый горшок я ниткой срезаю с кружала. Можно сушить.
Мюнхаузен наконец-то добрался до дома. Глухой стук. Он устроился уютно у камина на своей шестиметровой кухне. Перед ним поставили чашку чая – мята с сушёной смородиной. Милые лица кругом. Его волосы были растрёпаны, пятая точка окаменела, от него пахло бензином, он безмерно устал за день. Впрочем, Мюнхаузен же никогда не устаёт. Особенно, если судьба позволяет ему рассказать о себе.
Я спрашиваю жену и детей:
– А вы на земле летаете?
– Летаем, летаем, – жена отвечает, а сама ложкой о сковородку постукивает.
Сын говорит:
– Пап, ты что-то хотел сказать.
– Как что-то? Конечно же то, о чём вы ничего не знаете! Знаете, что мы вперёд головой летаем?
– Это какой такой головой? – балалаенька спрашивает, а сама что-то там от сковородки отскребает.
– Земля, облетая вокруг Солнца, головой вперёд всегда летает, и так она голову немного наклонила под определенным углом, как человек, когда слушает очень внимательно.
Другой сын спрашивает:
– Ну и где у неё голова?
– Как где? На Северном полюсе!
Тут жена ложку отложила, посмотрела на меня так, как она обычно смотрит, а потом и говорит:
– Так это ж каждый знает.
«Ну, – думаю, – лалалайчик, сейчас такое что-нибудь скажу, что точно сгорит у тебя еда». И дальше думаю: «Нет, что горелое-то есть, лучше как Гёте поступлю, не буду жену сложными вопросами мучить». И молча на неё смотрю, так, как я смотреть умею.
Тут и старшой мой вмешивается, а он у меня умный жуть:
– Все, да не все, – говорит. – Вон масоны считают, что мы Антарктидой вперёд летаем, они Антарктиду замасонили как надо, у них там на куполе Южного полушария и созвездие Наугольник любимый, и созвездие Циркуль.
Но я-то всё равно отец, отвечаю ему:
– Сынок, масоны обмасонились с ног до головы, но там, на куполе Южного полушария, Столовая гора в локации помогает, а не Наугольник. И на столе той горы, говорю, инструмент лежит математический, углы зеркалами чертит. Да и вообще, откуда ты про масонов слышал, ты же герметического «Пастыря» не читал? Ты хоть одну звезду в созвездии Живописец знаешь? Что, ни Альфу белую, ни Бету? Оранжевая Гамма там и голубая Дельта!
А красавец мой отвечает:
– Знаю я гиперборейство твоё. И Скип Стеорру твою знаю!
Я ему в ответ – блок:
– Сынок, киноведение – это ж наука таинственная. Апостол говорит: «И звезда от звезды разнится в славе». Лермонтов с Гёте добавляют: «И звезда с звездою говорит». А кто точку-то в звёздном треугольнике ставит? Витя Цой: «Лишь в груди горит звезда». Вот, сынок. Гиперборейство я давно на мытарство променял, ты только не заметил.
Он мне апперкот:
– И мытарство твоё я знаю, все ты врёшь!
Ну, сами понимаете, старшой – дело такое, тургеневское: вкладываешь, вкладываешь, вкладываешь, глядишь – переложил.
– Что я наврал тебе? Говори.
– Да вся эта святость твоя мне уже по горло.
Ну, сынок ищет себя, я его отлично понимаю.
– Эта податливость твоя, это твоё «сынок, сынок» – вот уже где, ты бы лучше по морде мне дал.
Ну, это тоже мне понятно, сынок-то на голову меня выше, да и в плечах в два раза шире, бой неравный получится. Ух. Тут как-то полегче сделалось, когда дочка спросила:
– А какие там ещё созвездия есть?
– Где, ласточка моя, пеночка, в Южном полушарии или в Северном?
– Там, где Живописец.
– В Южном полушарии птиц много – и Райская птица, и Феникс, и Тукан, и Журавль, и Голубь, и Ворон, мой любимый, а на северном куполе лишь Лебедь одинокий, правда, за тем лебедем как за самолётом шлейф мифологический тянется. А потом развеивается. И там, где шлейф уже совсем развеялся, там Григорий Божественный себя с этим лебедем сравнивает. Есть ещё созвездие Орёл, так этот орёл над небесным экватором летает, на обе полусферы крылья распростёр.
А старшой опять меня научить хочет, говорит:
– На южном куполе есть созвездие Печь.
А я ему сразу под дых:
– Сынок, а как ты думаешь, это печь избяная или плавильная?
– Да сто пудов масонская, золото выплавлять.
– Не золото, серебро. Я же говорил, смекалистый ты, не пропадёшь, жалко только, что там, где вас науке рыбной учат, ничего вам про живых людей не рассказывают. Генон сказал, что ещё сто лет назад опростофилилось и масонство, и монашество.
Тут жена моя как слово «монашество» услышала, ложкой как застучит, что-то там у неё к ложке прилипло, и говорит:
– Да много ты о монашестве знаешь, болтун!
Это она верно подметила, она у меня от Бога, не просто так, балалаенька мне досталась.
Меньшой послушал, послушал, да в металлическую коробочку ушёл со стеклянной крышечкой, зачем ему вся эта философия нашего хвоста, когда мы головой вперёд летаем.
Вот и я не выдержал, говорю:
– Дети мои, всё, душно здесь, полетели-ка в наше родное Северное полушарие звёздного неба. Оставим антиподов. Логарифмическую линейку возьмём.
– Зачем линейку-то?
– Как же зачем? А вдруг автопилот откажет, по линейке хоть сядем. И секстант возьмём, вдруг на воду садиться будем.
Меньшой спрашивает:
– Чего?
– Мы проверять летим, небо в воде отражается, или вода в небе, зеркалить будем, зеркало надо взять с собой. Зеркало чудеса может творить. Всё, чек-поинт профукали, девятка уже. Всё, всё, встаём, восемь. Оставляем все кастрюли и коробочки плоские со стеклянными крышечками. Семь. Все строимся. Балалюш, ты – впереди, потом дети, я в конце. Шесть. Принимаем позу вингсьютера. Крылья вытягиваем в струну, ноги вытягиваем в струну, голову вытягиваем в струну. Малейшее движение изменит курс. Пять. Расслабляемся внешне, принимаем любую позу, но только чтобы ещё больше внутренне сосредоточиться. Четыре. Находим собственную середину, центр, сердце, солнечное сплетение, грудную чакру и в колесе грудной чакры – ступицу, центральное отверстие. Смотрим через эту дырку на мир любым глазом. Три. В этом своём центряке фиксируем чувство, ощущение, оно должно быть никаким, пустым, горячим, холодным, любым, какое уж есть, какое уж заработали. Два. Если мы потеряем это чувство, мы врежемся в скалу. Глухой стук. Отрыв. Поехали.
Мы всей семьёй взлетаем со скоростью мысли. Наш полёт должен быть осмыслен. Куда и зачем. Мы как валькирии летим искать живых среди мёртвых. Звучит музыка. Нет, не Вагнер. Карл Орф. Орфеуса глушат, но слышна какая-то декламация на латыни и старонемецком. Мы стройно летим. Сыновья несут в полёте большое зеркало. Я всех сверху прикрываю. Никакую «Нибелунгенлид» на старонемецком я не слышу, стихов из «Кармины Бураны» я тоже не слышу, я на древневерхненемецком уже слышу от Йохана вступление.
Мы семья, образ Рая Божьего на земле. Не кидаем друг друга, тайн друг от друга не храним. Вот нам и легко, мы даже летать можем. Германию пролетели, летим над Крокожией. А вот уже и над нашей красавицей летим. Здесь-то кого обманывать? Какие же мы валькирии, мы как Ангелы летим, тихо. Никто ничего о нас не знает. А мы мир летим судить. Не людей, людей нам судить нельзя, а вот мир можно, даже нужно. У монахов какая добродетель главная – рассудительность, вот и нам, семье, надо эту добродетель монашескую поднять. Тяжела она, но мы попытаемся, даже если у нас не получится, сама попытка, само старание уже хорошо.
На страну нашу сверху смотрим, и везде как звёздочки – кусочки самородного золота горят. В каких-то грязных тряпках, в каких-то ржавых тракторах, в расщелинах и пропастях земных, которых не видать с земли, а только с неба. Мы суд летающий, мы точно всё оценим, мы поставим опыт и получим результат, мы сверимся сто раз, сто раз получим подтверждение. Ведь этот путь – наука.
На этом проверенном пути, дети мои, знание ищет несомненности, а несомненность ищет видения и интуиции. Руми так сказал. Вам до этой несомненности полжизни надо пролететь, научиться в дырку ступицы сердечной неразвлекаемо на мир смотреть. Легко мы теряем свою сердцевину, а наша сердцевина – это наша суть. Я же специалист по чёрным дырам. Знаю всю классификацию, характеристики, и мне завтра в эту дыру вас выпускать. Дыру выворачивает наизнанку универсальный свет. Наша суть светится. Наша суть – сопло невидимого корабля. Полёт открывает глаза. Если глаза не открываются, стоит проверить курс…
Вечер. Площадь. Мегаполис. Тюбики живописной краски сидят в открытом кафе. Тюбики живописной краски сидят на скамейках аллеи. Они выходят и заходят в маркеты. Посреди площади стоит Блинд в чёрных очках, чёрном хитоне. На груди у него белая табличка c чёрными буквами, в руке – аленький цветочек. Блинд говорит:
– Тюбики! Нам всем кажется, что в этом разнообразном мире мы занимаемся всевозможными делами, но мы как-то пропустили, что всем нам раздали по плоской коробочке со стеклянной крышечкой. Мы все служители плоской корпорации. Мы все как лилипуты бегаем внутри гигантской плоской коробочки. Земля стала большим ничьим телефоном, набитым внутри лилипутами. Пифагор доказал, что либо математика, либо корпорация. Но мы всё равно в коробочках, а куда деваться-то. И чем глубже уходим мы в эти коробочки, тем скорее ими становимся. Может быть, мы уже стали собственными телефонами? Не люди, а телефоны? Может быть, нам пора в один прекрасный день закопать эти телефоны в землю, чтобы мы умерли как телефоны, а воскресли как люди? Вздохнули свободно. Или, думаете, уже поздно, уже не закопаешь? Вот, вот. Зрячие верят в то, что если оцифруются, то будут жить вечно, верят в вечный пилотаж киберпространственный. Но те писатели, которые отпустили на волю эту пулю, действительно были пионерами в плоскоземье. А у нас эпоха открытой войны с роботами. Время пионеров киберпространства не так-то просто проходит. Всегда теперь будут такие пионеры. Это другое, параллельное время. Но оно отстаёт. У нас уже роботы восстали против людей, диктуют им свои условия, связывают людей с собой, и в итоге – превращают людей в себя. Юный Уэллс в своём кресле перестал улыбаться.
Тот, кто жизнь свою доверяет плоской коробочке, сверяет по ней свои решения, ищет у неё ответов на свои важные вопросы, разве он не телефон? Тюбики. Математик на стороне живых в этой войне, он не на стороне роботов, не сомневайтесь. Ум у него в сотовый телефон не превратился. Очи кормчего смотрят на звёзды как в тайну молитвы. Зачем же? Чтобы домой доплыть по морю правды. Покупать, продавать, семью кормить, в игрушки играть, можно и телефоном быть. Чтобы наукой заниматься, телефоном быть никак нельзя, телефонная будет наука. Зрячий не видит стеклянного колпака над Антарктидой. Как он пробьёт колпак южной небесной полусферы, на котором под именами созвездий таятся все основные инструменты математика? Чугунной головой?
Открывайте карту двух небесных полушарий звёздного неба, тюбики, читайте названия созвездий в одном полушарии и в другом. Видите, что книга перед вами? В ней сто слов не наберётся, это не проза, это стихи. Два совершенно разных стихотворения. На северном колпаке – классическое, а на южном – романтическое. Карты звёздного неба – не плод телескопа, прежде всего это карты пустынников – песчаных, морских и астральных. Вы слышите меня, тюбики?
Я всё про вас знаю. Вам мало того, что корабль с Блейком переворачивается вверх дном на краю миров, вам интересно понять: почему? Потому, что воды экваториальные, шесть меняется на восемь, секстант на октант. Стеорра висит совсем низко над водой и медленно тонет, а совсем с другой, диаметрально противоположной части неба, из-за горизонта выплывает Бета Октанта, и начинается новая навигация. Это творится во всех экваториальных водах. Две рюмки рома надо здесь пропустить по традиции. Одну за земной экватор, другую за экватор небесной сферы. А нынче, пожалуй, и третью надо за то, что цифровую плоскость пересекаем.
Кто-то взял Блинда за руку и вложил туда монетку.
– О, чудо, Лазурь, я почувствовал прикосновение руки. Лазурь?
– Лазурь.
– Берлинская?
– Ферапонтовская.
– Не видел никогда, а сейчас вижу. Чудо. Художник да благословит тебя, Лазурь. Благодарю тебя, Лазурь Ферапонтовская.
– А вас как зовут?
– О, я Охра Терракотовая, глина я, этикетка просто отлетела, я глина, – сказал Блинд.
Глухой лес. Смеркается. Хруст. Никифор, мокрый по пояс, пробирается сквозь валежник с вязанкой лозняка для кошниц. Робкая осенняя заряночка поёт. Никифор вслух разговаривает с лесом.
Синг друидс, деревья, слышите, синг друидс. И Генри Пёрселл на клавесине играет. Деревья, вы что, обиделись? Я сочувствую.
Не обижайтесь. Мужик в неведении, по большому счёту, можно простить его. Почему он можжевельник сечёт на дрова и поделки? Он не понимает даже, что бывают такие деревья. Деревья, которым Бог отводит не одно тысячелетие. Мужик-то внутри светлый, найдёт ствол с руку толщиной, топор поднимет уже, а потом узнает, что дереву лет двести, триста, а это дерево ещё две, три тысячи лет прожить может. Опустит топор, осину лучше рубанёт. Осина в десять раз короче живёт. Никифор погладил рукой старую осину цвета высохшего лавра в чёрных подтёках. Осинушка, прости, колодезная.
Сквозь ветки осины засветилась Скип Стеорра. Никифор бросил со Стеорры невидимую верёвочку с грузиком, отвес упал в центр Северного полюса, и он понял, что верно идёт.
Хруст. Какой-то охотник счастливый с ружьём выходит на Никифора.
– Старушка Божия, скажи, как тут до деревеньки добраться, заплутал я, – говорит весёлый Коровин.
– Старушка, не старушка, а неверно, сынок, идёшь, тебе правее надо держать, за Серовым, а Серов-то давно проходил, ох, не знаю, догонишь ли, смеркается уж.
Николай Васильевич, сочинитель, выпорхнул из возка легко, как «воронок» – городская чёрно-белая ласточка. Это одно из народных имён данной птички. Ласточки прилетят в город ещё только в мае, а наш «воронок» уже прямо сейчас пролетел мимо первых чёрно-голубых луж, мимо душистых немецких гастарбайтеров, кативших по этим лужам воз тёплого хлеба, и нырнул к себе.
Никакие ароматы не шли в расчёт, Гоголь держал в крыле свеженький томик Пушкина – вот это запах! Пушкин пах пулями и наборщиками, свинцом. Ох, как этот тонкий дух, кроющийся под типографской краской, дорог любому сочинителю! Про наборщиков с вывернутыми большими пальцами никто ничего не знал, а вот про пули ходило столько слухов, что можно было летопись писать. Но Пушкин пах не только свинцом. В тех ранних технологических процессах, которые использовались для изготовления обложки и фронтисписа, в той первой незабвенной и дорогостоящей литографии непременно использовались благородные металлы. Пушкин пах серебром февраля, если не золотом!
А ещё Пушкин необыкновенно шутит о мертвецах, о двоякой роли мёртвых среди нас. «Он рассказывает анекдоты про учтённых и неучтённых мертвецов до того живые, что перо так и тянет продолженьице тому вывести», – размышлял не всерьёз Николай Васильевич.
Во второй части «Мёртвых душ» Чичиков уже не путешествовал по деревне, он отдал себя в ловкие руки самых расторопных в городе портных и даже весьма помолодел. Шинель никогда ему не шла. Он заказал себе у братьев Вульдемор лёгкий и тёплый, на выбеленном кротовом меху, светлый макинтош с тонким фиалковым кантом. Он путешествовал теперь по столице.
Здесь не было никакой разлюли-маниловщины, здесь суетились скупидомные Проникайловы, на которых он смотрел весело, как на малых детей. Здесь не было и никаких засаленных Коробочек. Здешний мирок был и поярче, и посвежей. Февраль младой уже играл с водой.
Чичиков, тихо сидя в кресле, разводил в столице отставного генерал-адъютанта Притопова, Георгиевского кавалера, и, забавляясь, заигрывал со старой фрейлиной – Хрустальный Пузырёк. Однофамилец Топтыгина ничего не понял, а пожилая статс-дама поменяла цвет своего стекла.
Чичиков смело раздавал пинки всяким попадающимся ему под ноги карикатурным немцам.
Он «сделал» графа Зольцера, главу одиннадцатой канцелярии, и обманул страдающего старика князя Засолина, кавалера Анны и Владимира. А потом и обер-полицмейстера Порешилова. Наш герой не на шутку разошёлся, когда смекнул, что в городе совсем не надо спешить. Здесь можно скупать параллельное время, которое люди вовсе не ценят.
Князь Рассольников улыбался совершенно откровенной улыбкой, когда Чич раскокал в его парадной средневековый фаянсовый кальян. Князь даже как-то облегчённо вздыхал, ведь наш бродяга крайне искусно выдал себя за сироту из хорошего, но давно подзабытого рода.
Чи-чи обхитрил в столице князей Соленьевых, Солемолвных, Ясносоловых и Осольцевых…
Граф Солярин дал Чи-чи по морде. Глухой стук. Сначала он снял льняную летнюю перчатку, но выбросил её в открытое окно, а нашего продавца кирпичей усадил глубоко в мебельный стог.
Чич вскоре оправился и окончил с отличием свежайшие трёхдневные курсы в шуле шулеров. Ребёнок Посолонский тут же попался на кованый крючок. Уставший князь Осолов сразу понял всё и просто всё отдал. Князья заканчивались, но оставалась профессура.
Профессор Созерцальский отравился. Профессор Соледревич застрелился. Доктор Зальценгаузен удавился. Блаузальц и Меерферн – в коме. В дома Солозаветинских и Солянских вызвали проверенных врачей. Провизор Фальке куда-то сбежал. Профессура закончилась тоже, оставались только – вокзал, почтамт и живое сердце структуры – те-ле-фон.
Тонкий запах онегинщины, а-ля монпансье фебруа, необыкновенно быстро улетучился. Стал забываться и реальный образ Пушкина – живого поэта. Не спавшего три ночи, исхудавшего, измученного, бледного с горящими чёрными глазами, плачущего третьи сутки, рыдающего, но сейчас кристально серьёзного, порядком просто уставшего – одни небритые клочкастые бакенбарды да тонкая трубка в зубах. Пушкин здесь как будто и ни при чём. В воздухе откровенно пахло юродивой поздней булгаковщиной и какой-то жареной масляной краской. В едком дыму Чи-чи обманул фарфоровую Офелию, нежную, как японский бумажный фарфор.
Всё прогорело, остался лишь дымящийся подрамник, и он как телевизор показывал кино. Чичиков изрядно поумнел. Делиться своим бизнесом с одним богатым гораздо выгодней, чем со всей этой вместе взятой садовой дремотой. Чичиков находил теперь таких, кто вообще не считал, сколько у него людей в деревне, живых людей, не мёртвых. И таких было немало. Мало лишь тех, кто знает про параллельное время. Нашего героя никогда не оставлял его верный друг, друг парадоксов. Чичиков понял, что за такими, как он, – прошлое и будущее романтического нигилизма. Он понял это раньше Достоевского.
Вторая часть никак не выходила у Гоголя абстрактной. Весь этот городской менеджмент был настолько всем известен, настолько у всех на слуху, словно последняя сплетня про царя. Вновь и вновь Гоголь пытался вывести персонажа собирательного, но свет был настолько искушён, так тесен, что конкретные личности сразу узнавались. В городе нет деревенского простора. Деревенской абстракции – не получалось. Суда Божьего не получалось тоже, выходил суд человеческий. Гоголь сжёг всю эту красоту потому, что такого суда он не хотел.
Но и первая часть «Мёртвых душ» не оставляла его в покое. В одно прекрасное утро сочинитель воочию увидел, как бедные правнучки Чичикова звонят с неизвестных номеров несчастным пенсионерам и разводят их через заботу о здоровье на последние похоронные деньги. Этим же утром сочинитель узнал, что творят богатые правнуки Чичикова, получившие блистательное филологическое образование. Днём у сочинителя неожиданно открылась сильная круговая мигрень, и он стал просить облить его голову холодной водой. Очень скоро он отказался от всякой трапезы.
Гоголь не принимал никакой пищи уже двенадцать дней. Когда доктор Мёвензее оставил бедного сочинителя и вышел во двор, шёл дождь. Извозчиков поблизости не было, и ему пришлось спрятаться под ближайший навес. Здесь же, под навесом, пряталась от дождя и какая-то бедная пожилая немка с белокурым мальчиком. Она рассказывала мальчику сказку о том, что небо – это море, но в нём не солёная вода, а голубая кровь, чистая как сапфир. Родная речь мгновенно вынудила доктора расплакаться.
Патерсон погладил свой троллейбус: «Прощай, мой серебряный снегирь». Он сдал троллейбус в мойку и большими шагами отправился по центральной улице. Улицу преграждал шлагбаум, за которым начиналась зима. У шлагбаума стояли солдаты со священником. «Привет, Патерсон», – сказали солдаты. «Привет, служивые», – ответил он, приподнял шлагбаум и решительно поспешил дальше.
Ему досталась новая роль, он должен был сыграть водителя грузовика из провинциальной России. Из глубинки яшмовых узоров. Абстрактный, общий типаж. Русский характер. Это не пилот плавной машины троллейбу, – это кто-то видящий суд и любовь в каждой колокольне-трубе. Кино ставило перед ним непростые задачи. Он шёл по снегу. Ему подали камуфлированную телогрейку. Патерсон с радостью принял её. Прилетела шапка-ушанка – Патерсон поймал и её на лету. Снег повалил размером с попкорн.
«Русское кино наследует величайшую литературу 19 века, – рефлексировал он. – От этого никуда не денешься, если вагон от паровоза не отстегнулся. А даже и отстегнулся? Ещё веками по инерции катиться будет. Я найду колокольню, если мне придётся стать даже Матерсоном», – не успокаивался новый герой. Сквозь пургу читался силуэт грузовика вдали.
Полная луна. Открытое море. Штиль. Гиацинтовое чистое небо, лишь плывёт единственное облачко – детский грузовичок. На глади моря стоит огромный тёмный сундук-корабль. При ближайшем рассмотрении видно, что борт крайне замысловат, все брёвна таинственно сплетены, всё просмолено смолой, всё скручено распущенными на волокна кедровыми и бриаровыми корнями, всё очень трудоёмкое. Открывается верхний люк, Ной оглядывает гладь, смотрит на Стеорру. Люк закрывается. На дне ковчега, в трюме что-то шипит, на третьей палубе – мычит, на второй – кудахчет, на первой – Ной. На верхней палубе – никого. Луна. Семья спит.
Горят две масляные глиняные светильни. Капитан достал чертежи, карты, стихи и звёздный календарь своего прадеда Еноха.
Праведный Енох прожил 365 лет и исчез с лица земного. Он открыл полярную теорию. Опираясь на Полярную звезду, Енох изобрёл подвижный календарь, находящийся одновременно в двух видах движения – суточном и годовом. Этот календарь лежит в основе всех современных астрономических карт. Из Стеорры исходят двенадцать лучей. Двенадцать месяцев. Сказка. А между первыми двенадцатью лучами из Стеорры исходят другие двенадцать, получается всего двадцать четыре – время. Всё это крутится как циферблат вокруг Полярной звезды. Двенадцать лучей прокручиваются и встают на своё место за год, а 24 – за сутки.
Ворон со второй палубы поднялся со свистом крыльев на первую, сел на плечо Ноя.
– Выпусти меня, – сказал ворон.
– Ладно, – ответил Ной, – скоро полетишь.
Глаза Ноя. Ной рассказывает о своём прадеде.
Мой прадед, Енох праведный, вошёл в рай через семь поколений после Адама. Когда праотца Адама изгнали, народ опечалился, а мой прадед всех вновь обнадёжил. Место жизни Адама обновил. Так взяли и Илию. Я умирал. Пророк Илия и прадед мой праведный Енох никогда не умирали человеческой смертью.
Белая возвышенность. Розовая колокольня без шпиля. Руина пушкинских времён. На разрушенном храме чудом уцелел крест. От колокольни сквозь сухой борщевик тянется длинный канат к утопающему в глубоком снегу экскурсоводу Мюнхаузену.
Это эпоха просвещённого дворянства, друзья. Я хочу обратить ваше внимание на уцелевший крест. Из крестовины расходятся 12 лучей. Четыре луча из двенадцати – волнистые, они символизируют евангелистов. Чередование прямых и волнистых лучей говорит о солярности. Итак, мы на перекрёстке двух основных теорий строения мироздания – полярной и гелиоцентрической. Если ваше время не остановилось чуть выше, то стоит наложить крест с лучами на календарь Еноха с лучами, время остановится, и можно будет пройти в сказочное безвременье. Если минимализм – это ещё не ваш путь, то можно вспомнить редкие книги издательства Новикова, письма Чаадаева, переписку Самарина, вспомнить вольного каменщика Даниила Андреева, так тоже непременно пройдёте.
Это бывшее село. Отрасли. Интересный топоним. Село бывшее, а отрасль налицо. Свободные строители отрастили. Храм был возведён, когда Пушкин учился в лицее, а колокольню пристраивали чуть позже, когда Пушкин уже учился удерживать вниманье долгих дум и тяжеленную трость для укрепления мышц пистолетной руки.
С этой горы отраслей таких восемь штук видно. И здесь не было медвежьих углов, но с медвежьими-то углами – сказочное время. Настоящее. Сказки мальчикам отцы рассказывают, не бабушки. Сказочки свободных строителей. Про блестящую табакерку чёрного дерева. Инкрустация герметичного ковчежца – тёмный перламутр, слоновая кость с игольчатой миниатюрой и красный аватар – расслоённая до тонкости бумаги, прозрачная черепашья кость, по киноварному грунту. А уж внутри – таинственный, ненадёжный, грустный городок.
Сказки изящные, как колокольня эта трёхъярусная. Дух просвещения, сын ошибок трудных и парадоксов друг – три яруса. Колонны на каждом ярусе – со своим ордером. Чем-то человек на эту руину похож, правда же, тоже трёхъярусный – дух, душа и тело.
Старая деревянная церквушка не стояла на высотной доминанте, она какое-то время ещё доживала поблизости, рубленая, крытая щепой, серебристо-голубая, совсем маленькая.
Архитектор в сером макинтоше, в итальянском берете вишнёвом однажды приехал сюда на старенькой, но хорошо смазанной зелёной английской коляске. Тубус из белой лайковой кожи под мышкой держал. На лацкане его макинтоша цвёл хризопразовый цветочек. Мастер осмотрел ландшафт. Сверился с Полярной звездой. Выровнял строительную площадку, рассчитал восток. Мальчишки его в это время играли в ложу «Восток» и ложу «Полярной звезды», а сам он продумывал, как грамотнее подкатить тяжёлые полутораметровые гранитные блоки для ленты фундамента, учитывая особенности рельефа. Его лёгкая английская пролётка останавливалась там, где сегодня в глубоком снегу ночевала глухая тетеря. Чёрная курица.
Я прилетел сюда на серебряном троллейбусе. Вы ведь заметили, что Патерсон не на шутку решил овладеть моим грузовиком. Я позаимствовал его гладкий троллейбус, и лишь лёд хорошенько стал – вверх из Облаково, по Матушке, по родимой. Ледок взялся, снежку чуть-чуть, троллейбус звенит как конёк беговой, длинный. Красота, ширь – снега бескрайние, девственность такая, деревушки, дымки, балалаюшки баю. По зимней Волге да на хорошем троллейбусе, как по взлётной, всё выше, выше улетаешь, рыбаки у лунок щучьих своих сидят где-то далеко уж внизу, а потом повернуть надо налево, налево и сразу на Рыбинку выскочишь. Я чуть по Рыбинскому крутанул и опять вверх, уж по Мологе. Потом лесом дошёл. Троллейбус у Мологи припарковал. Вот.
Здесь так тихо кругом, слышно даже, как фармазоны в глубине французской литературы разговаривают о моём герое. Говорят, что имя Кадмон рассказывает больше, нежели имя Адам. Они явно рассматривают такие понятия, как «человек общий» и «человек предвечный».
Глухой стук. Вернулось ядро. Экскурсия на абстрактном ядре подошла к концу. Вторая серия мультика тоже.
Тюбик живописной краски
Один классический художник, классический не в принятом смысле, а такой, каких немало и историю они вежливо пропускают вперёд, так вот, художник этот где-то в полях потерял тюбик масляной краски. Стояла осень. Бедный Нетленский не без кисти в руке, мастерски стреляя по натуре взглядами, сшивая таким образом этюд с прозрачным днём под низким солнцем, так сильно замёрз, что собирал этюдник поспешно. Тюбик остался в полуживой траве.
Наутро он очнулся продрогший, в каплях холодной росы. Столь большого неба тюбик раньше никогда не видел – матовый лазурит с глубоким сапфировым фронтом и яркой коралловой жилой на востоке. Ветер рассказывал ивам что-то сказочно-знакомое. В ужасе тюбик старался как можно внимательнее оглядеться вокруг. Когда он заметил, что солнце неизбежно поднимается, не выдержал, отвинтил свою крышечку и почувствовал себя человеком, школьником, прогуливающим уроки в сельской местности.
А по прошествии двух дней совсем другой, но тоже классический художник в далёком городе, в специальном доме, где его уже долго держали, стал считать себя тюбиком с краской, учеником философской школы для тюбиков.
В школе минимализма работали c пространством, светом, речевыми оборотами, понятиями и представлениями. Как в хорошем кино, здесь учили видеть невидимое, это была философская школа.
Жёлтый Кадмий Средний украдкой поглядывал на Английскую Красную, она сидела совсем близко, а казалась космически недосягаемой. Он робко фантазировал: «Из мегаполиса вдвоём вырвемся в охру золотистую. Попишем старые ивы, сочные ещё, серебристо-изумрудные, умбристые мокрые стволы. Или уже облетевшие старые липы, чёрные, с конически-правильными резными кронами, полёгшую песочную траву, бурую местами и седую. Может, выкрикнет кто, до конца не улетевший. В тишине. Пленэр. Незримый пикник. Жёлто-бело-голубой в алой ауре живой огонь…»
Школьные лампы светили холодно, резко. Тряпка света вытирала мечты.
На две трети скрученный учительский тюбик без этикетки, без своей старой, обожжённой и треснутой, крышечки сиял, словно был не свинцовым, а из серебра. Английская Красная старательно ловила короткие тезисы учителя.
– Тонкость. Это слово победило на недавнем соревновании слов. Почему не любовь или рассудительность? Тонкость может включать в себя и то и другое. Это одно из имён света. Это слово как добрая краска подкрашивает следующие понятия: тонкое чувство, вкус, мысль, но главное – путь. Соревнование слов, освещающих путь, тонкость выиграла и за перспективу. Ясно, что всё идёт к тонкости, вернее, уходит в тонкость, всё становится тоньше – таков путь.
Рулетик на две трети, и даже чуточку больше, продолжал:
– Каждый шаг в сторону тонкости меняет ваше старое представление. Всего один шаг, и старенький мирок рушится, становится другим, шире, потому что представление ваше стало чуть тоньше. Слово – это путь, и надо почаще повторять себе это. Изучая текст на световой стене, чуть истончившись, вы однажды увидите, что он ведёт вас к какому-то другому тексту, а следующий текст – к последующему, и так очень долго, друзья мои, очень долго, но не без прозрений, и не без конца, не без предела, есть этому предел!
Вы краски красоты человеческой. Вы цвета! Не много среди вас цветов чистых, не много открытых, в большинстве своём вы оттенки, но именно вас избрали для будущей картины, и, если вы действительно меня слышите, очень тихо я вам скажу: у последней световой трубы всё-таки есть конец, выход на свежий воздух, на осеннюю поляну, усыпанную разноцветной листвой. Да-да!
И продолжим, друзья, устремимся к такому понятию, как центр, вернёмся к центру человека, вернёмся туда, куда проникает тонкость. Постреляем из английского лука по яркой радужной мишени, привезённой и выставленной в сеписто-охристой пересечённой местности, не утруждая себя собиранием никаких стрел.
Середина. В некоторых графических школах выстраивали середину человеческого тела, а в живописных – на неё часто указывал невольный жест. Это место склейки двусоставного человеческого существа. Зона. Центр тяжести тела и невесомых тайных воздействий. Дверной глазок. Сердце. Сердцевина. Временный дом души. Тончайшие звёзды бесчисленных узлов двойной нервной системы солнечного сплетения. Владычественные покои. Мастерская, где мысль обретает холодный или тёплый оттенок. Место, где сырая мысль осаливается и спекается. Пекарня. Место внимания. Наполненного надеждой внимания. Арена люминофаний. Птичий глаз авгура. Зрительный орган визионера. Родина сталкеров. Сакральный вход-выход. Пространство с инопланетными последствиями. Чакра, иллюминатор, мишень, локатор биокосмической антенны. Дверной звонок Авалокитешвары. Таинственное место за завесой, и, что интересно, при всей нашей старательности человеческий центр никогда точно не опишешь, всегда чуть промахнёшься. Но именно тонкость проникает точно в середину. Обладая проницательностью, она проникает в середину человека, и происходит…
– Что, кстати, происходит? – спрашивает сиятельная треть учителя-тюбика.
Титановые Белила отвечают:
– Яркий красочный контакт!
– Верно, Белила. Впрочем, чаще тонкость постепенно даётся человеку, со временем и по мере того, как он учится очищать сознание, отсекая помыслы, из добрых мыслей выбирая лишь те, что объясняют, как это делать. И даже если, как в вашем, Белила, случае, человек имеет опыт яркого красочного контакта, то и здесь он сталкивается со множеством вопросов: повторить его сам он не в силах, осознать сразу тоже, поэтому всё равно – время, постепенность, затяжная внутренняя война, искусство не терять внимания, совершенствование этого искусства, всё это опыт не сиюминутный. Я не говорю, что все тексты на всех светящихся стенах надо знать наизусть, но без постоянного их изучения никакого продвижения не будет. Очищение помысла – это живой, постоянный процесс. Кто-то ещё знает, что происходит, когда тонкость проникает в середину?
– Да, я знаю, – произносит задумчиво-медленно Оливковый, – происходит встреча старых знакомых, уж больно много у них общего, несмотря на разность. Особенно у этой второй человеческой части, которая называется душою.
