След в след
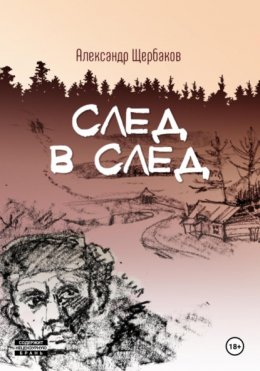
След в След
Пролог
Вагон резко качнуло, монотонный перестук колёс сбился с наладившегося ритма на несколько мгновений, и этих мгновений хватило, чтоб в туманной полынье сна – или не сна уже – мелькнуло окровавленное лицо женщины. Затем в рассыпающейся на осколки тягучей сонливости глаза ожгли сполохи близкого выстрела, но лица стрелявшего было не разглядеть. И последнее, что померещилось в череде неразборчивых видений -оскал разъярённого медведя. Или не медведя даже, а какого-то непонятного зверя. Пробудившееся сознание вытолкнуло к действительности полностью.
Николай Мансура открыл глаза, будто и не спал. Под утро ему часто снились дурные сны. И он, ведомый почти семидесятилетней судьбой, уже знал, что понапрасну такие сны его не посещают: жди каких-то немилостей. Придавленный только что пережитым – в который раз, а словно всё сызнова и наяву – он ещё минут десять лежал неподвижно, перемалывая в себе притаившееся беспокойство.
Редкие лучи далёкого случайного света вкрадывались в тёмное пространство купе, выплясывали замысловатую карусель по стенам и исчезали, оставляя перед сонным взором фантомные разводы. Наконец Мансу-ра приподнялся, осмотрелся – соседи спали.
Уже утро. Года и жизненный опыт – самый проверенный хронометр. За оконной рамой темнота непроглядная, потому и ночь кажется бесконечной и бездонной. Похоже, лишь один старик сомневался в ночном господстве. Он достал туалетные принадлежности, заготовленные с вечера, и всё так же бесшумно выскользнул из купе. Несмотря на возраст, Ман-сура сохранил умение перемещаться тенью, по-звериному, и любой, кто наблюдал бы за ним сейчас, удивился его сноровке и лёгкости движений.
В слабо освещённом коридоре свежо и прохладно. Мансура остановился у окна, скучающая темнота за стеклом утрачивала бездонность: горизонт раскроила бледно-синяя мерцающая полоска, оттуда и вверх и вниз расползались тонкие струи рассвета. Мансура был ростом чуть выше среднего, худощав, но чувствовалось, что в плечах ещё таилась сила, и опять же чувствовалось по фигуре, что старик не чурается нагрузок и ещё способен проявлять характер, благодаря которому сопротивляется напирающей старости. Волосы были седы и заметно поредевшие, а когда-то имели тёмно-русый цвет. Лицо сохранило черты привлекательности и мужества, прямая осанка указывала на военное прошлое и выдавала натуру целеустремлённую, несгибаемую. В тёмно-карих глазах плескалось умудрённое понимание жизни.
Николай Васильевич высматривал, как пробуждается день. Мутные рассветные сполохи наконец-то уверенней стронули дрожащую черноту неба. Дальняя гряда леса обрела лик. Перед ним растеклись забелённые поля, начинающие отражать наступающий день. Заснеженный край скупился на разнообразность пейзажей и красок, но именно эта заснеженная безжизненность и грезилась в снах, когда он бывал далеко от родных мест. Тайга! Её потаённая тихая величавость будто корила Николая за то, что так давно не был в родных краях. И сразу воспоминания закопошились, вырвались из чёрного колодца прошлого…
Он вспомнил мать и отца. Отец-то, Василий Георгиевич, считался пришлым в этих местах; здесь все, кто приходил с чужих краёв, считались пришлыми. Может, поэтому так и не сложилась жизнь его родителей на этой земле. А его? Его судьба сложилась? Не единожды задавал себе этот вопрос Николай Мансура и, верно, не всегда находил ответ.
Почти полтора века деревня – а деревня на сто дворов, – где родился и рос Колька, жила своими заботами, ничуть не заботясь жизнью большого государства, не тревожась буйствами далёких и неведанных миров, не интересуясь материковой жизнью необъятной, как он потом узнает, родины. Кольке шёл восьмой год, когда зашатались вековые устои царской России. Несколько лет прожили под гнётом смуты. Советская власть -ещё не крепкая, не совсем понятная простому сибирскому крестьянину, только обретала свои государственные формы. Зима двадцать третьего года выдалась холодной, как никогда. Мороз, голод, смерть хозяйничали в каждом доме. Отец Кольки хоть и тесно водился с удачей и фартом на охотничьем промысле, но даже таёжные богатства не могли наполнить хозяйские закрома прежним достатком. Спрос на пушнину пропал – до пушнины ли, когда столько крови вокруг. Кедровая шишка мешками лежала в подвале никому не нужная.
Наверное, в ту зиму отец и посчитал, что в городе выжить будет легче. Собрались с матерью без лишних разговоров и уехали в Иркутск. Колька остался с бабушкой. По всем прикидкам, ненадолго. Обустроятся и заберут сына. В первое же лето, как остались они вдвоём, Колька поутру выбегал вслед за бабушкой в коровник: проснувшись, он боялся оставаться в доме один. Ему с чего-то вдруг стало казаться, что бабушка так же, как и родители, однажды утром уедет, не разбудив его, и останется он один на всём белом свете. В то лето Колька и приучился выбегать босиком на крыльцо и ловить угасающие мгновения «к утру». Эти мгновения очень коротки и завораживающе трогательны. Правда, его удивляло то, что только он один умеет любоваться этими минутами. Привычку эту – встречать новый день с рассветом – он из детства перенёс на всю свою жизнь.
Берёзы уже стряхивали обветшалый рыжий лист, когда за Колькой приехал родитель. Сборы вышли короткими. Отец заколачивал избу с угрюмой отрешённостью, в полном молчании. Спустя четыре дня на попутных повозках добрались до Иркутска. Так для Кольки началась городская жизнь. Отец работал на мебельной фабрике, мать – на стройке. Жили они в крохотной квартирке, что выделили отцу как лучшему бригадиру: вслепую мог сосну от лиственницы отличить. А квартирка – это большая печка у порога, где сразу за ней, в маленькой кути, определили Колькин угол, а прямо, на куцем квадрате, разместили родительскую кровать, одной частью упирающуюся в стол, другой – в приземистое оконце.
Территорией детских развлечений Кольки был затон, пускающий потаённые пролески к железнодорожной станции. Через год Колька пошёл в школу, этого очень хотели его родители. Жизнь его, весёлого пытливого мальчугана, потекла размеренно и насыщенно, и думалось Кольке, что никого нет на свете счастливее него. Внутреннее наполнение счастьем оказалось настолько большим, что он с ним прошагал все последующие годы.
Мать Колька потерял в пятнадцать лет. Воспаление лёгких – диагноз не страшный, но врачи что-то напутали или не проконтролировали: просто утром зашёл участковый и спросил у открывшего дверь Николая, кто есть дома из взрослых.
– Я! – уверенно, чуть ли не горделиво произнёс Николай. Участковый смерил его долгим изучающим взглядом:
– Тогда найди отца скорее и дуйте с ним в больницу. – Смышлёные тёмно-карие глаза парня подозрительно сузились. Участковый отвёл взгляд, смутился и негромко добавил: – Там всё узнаете! – Подкованные сапоги застучали тяжело по доскам пола.
Николай поступил, как велел участковый. В больнице отца куда-то сразу увели, и Николай долго дожидался его, сидя на лавке в светлом приёмном покое. На него никто не обращал внимания. Сердце Николая наполнялось недобрыми предчувствиями. Очевидно, он настолько проникся приближением беды, что стоило увидеть в конце коридора наконец-то появившегося отца, а рядом с ним врача в халате, который что-то тихо и напористо говорил в его белое окаменевшее лицо, что у Николая не осталось и тени сомнений – в их дом постучалась беда…
После похорон матери отец в то же лето вернулся в Уварово, в городе он оставаться не мог. Смерть жены надломила Василия Георгиевича. Он словно ослеп от непрерывной боли внутри, от бесконечных и несбыточных мечтаний, от ожидания того, что все несчастья временны, что скоро всё наладится, что их терпение и бесконечная маета в труде перетрут все невзгоды, и станет легче не только им, а всем. Школу Николай заканчивал, живя в городе один, под приглядом дальних знакомых, некогда проживавших в Уварово. У них же Николай и прогостил зиму.
Самостоятельность не только дело наживное, но ещё и выборочное. Если приглянешься судьбе – выходит, облагодетельствует, не столкнёт на дно жизни. Суровая действительность была к Николаю снисходительна. Денег у него, конечно же, в ту пору не было, односельчане, у которых жил, оказались людьми сердобольными и чуткими – подкармливали. Одежда на нём, как не относился к ней бережно, прохудилась – так и здесь отдали обноски старшего сына. Но всё равно было очень трудно. Одно спасение -учёба и доброе отношение первых учителей к подростку. Однажды, ближе к весне, его вызвали в кабинет директора школы. Удивлённый и растерянный Николай зашёл после короткого стука в дверь. Мужчина, по-хозяйски расположившийся за преподавательским столом, листал какие-то бумаги, попивал чай, очень интеллигентно поднося горячий стакан к губам. На спинке кресла висел кожаный плащ: в таких плащах, как представлялось тогда юноше, ходили лишь военные начальники. Мансура застыл в растерянности посреди кабинета. Он настолько растерялся, что даже не мог поверить, что именно его ждёт степенный, очень взрослый, приятной наружности мужчина.
– Проходите, молодой человек! Не тушуйтесь! – мягким густым басом обратился мужчина, вставая ему навстречу. Френч, плотно облегающий статную, чуть выше среднего роста фигуру, произвёл на Николая глубокое незабываемое впечатление. Если б не располагающая улыбка и светящиеся приветливым вниманием синие глаза, Мансура никогда не осмелился бы заговорить с этим человеком.
– Я вас именно таким и представлял. Очень рад знакомству! Станкевич Эдуард Рамилович, – и новый знакомый протянул руку для пожатия. Ни при первой встрече, ни при второй, что состоится тремя днями позже, Эдуард Рамилович не обмолвился о месте своей работы. Кратковременные беседы внешне выглядели непринуждёнными: откуда молодой человек родом, кто родители, не партизанил ли отец, что делали в городе, а где отец сейчас? Николай не понимал до конца, к чему все эти расспросы, но интуиция подсказывала: интересуются им неспроста. Всё прояснилось несколько позже, когда Станкевич пригласил Николая посетить здание на Литвинова – там располагался штаб местных чекистов. Станкевич, оказывается, руководил отделом контрразведки Сибирского отделения НКВД, и для Николая знакомство с ним стало судьбоносным.
Какая-то размытая тень вдалеке вдруг оборвала воспоминания. Мансу-ра не сразу разобрался в причине внезапного замешательства. Там, вдалеке, на взгорье, где обрывалась кромка синего леса, в предрассветных сумерках взгляд успел уловить длинный забор… Память скачками, в мятущейся лихорадочной пляске, расталкивая незряшные видения, остановилась вдруг у какой-то черты. Забор… Забор… Уже покосившийся, уже почерневший от времени, изрешеченный прорехами… Забор исчез из вида, а разбуженные воспоминания вскипели в нём с неуёмной силой. И сразу стало как-то тесно у окна… Ему всё чудилось, что он остался там, на том взгорье, что было огорожено покосившимся забором. И воображаемый его взор нырнул туда, за колючую проволоку. Нырнул туда – и ничего не увидел, кроме тьмы. Но даже из той тьмы пронзительно ясно выступили все события роковой для него весны сорок девятого года.
Озерлаг
Глава 1
Заключённых подогнали к воротам лагерной зоны под напирающие сумерки. Стылое небо уже расслоилось: где-то темнота повисла чёрной плотью накрепко, где-то ещё ютились закатные блики. Показались первые дрожащие звёзды. Дальний край раскисшей дороги полосовали жёлто-белые раструбы лучей. На них и ориентировались, выбираясь из потемневшего леса.
В здешних местах последние числа октября жутко холодны. Ещё не зима, но если задует ветер, как сейчас, порывисто, остервенело, мороз так прижмёт, что всех чертей разом вспомнишь. Одно слово – Сибирь!
Темнота сузила пространство окончательно. Поэтому конвоиры действуют крайне предусмотрительно: стоит что-то заподозрить в строю арестантов, так сразу вскидывают автоматы, грозятся стрелять. А застрелить могут без предупреждения, заключённым это известно: второй выстрел – так, для отвода глаз – может прозвучать и позже, когда убитому будет уже всё равно.
Как назло, в лагпункте только началась вечерняя поверка – придётся ждать. Не зря конвойные этот час называют «трухлявым», сами сидельцы «собачьим», лагерная охрана «вечерней поверкой». Это значит, что пока всех в лагере не пересчитают, новый этап не примут. Сколько времени пройдёт, неизвестно. Этап вымотал заключённых вконец. Пройдено километров двадцать, не меньше. Что конвой, что зеки – все хотят одного: быстрее добраться до тепла, прижаться к печке, дать ногам и усталому телу передых.
Новый этап отводят в сторону, выстраивают вдоль запретной зоны, конвоиры оцепляют периметр. Жёлтые глазницы прожекторов высвечивают унылую картину, до боли знакомую всем зекам: расквашенный ранний снег на плацу, несколько сотен мрачных теней, они безмолвны и все будто на одно лицо; по команде выгоняют сюда, по команде разводят.
Прошло около получаса. Донеслись обрывки нескольких коротких команд: «о-ойся-а!» «аво-о!», «ёо-од!»
Слабо доплыл металлический дребезжащий звон. Здесь жизнь, как и во многих других зонах, начиналась и заканчивалась по сигналу: дежурный несколько раз стучал трубой о подвешенный на краю плаца обрубок рельса. Сигнал предупреждал: поверка окончена, все по баракам; в силу вступал комендантский час, любое движение между бараками – нарушение лагерного режима, наказание вплоть до расстрела на месте. Те же, кого подогнали к лагерю, услышав звон, встрепенулись, зыбкая колонна, словно прибрежная волна, колыхнулась, вспенилась и прокатилась вдоль дощатого забора. Пробудилась надежда – скоро всем мучениям конец. В лагере уже тлел слушок: новый этап привели.
Такие этапы с середины лета стали постоянными. Среди заключённых только и разговору, что о создании лагерей с особым режимом. Неизвестность порождает слухи, один страшнее другого.
– С какой пересылки? Может, кто что знает? Сколько их?
– Да хрен с ними! Наверняка, опять одни по пятьдесят восьмой!
– Гляньте! Судя по ним, доходные все!
– Эт, глазастый какой! Чё, зенки на заднице выросли?!
Последняя колонна арестантов, что покидала плац, вдруг зашевелилась невпопад, сломала строй, грозя колодой развернуться по всему плацу.
– Тихо-о-о! Мать вашу! – заорал лагерный старшина. Подключились к восстановлению порядка надзиратели. На двух вышках стрелки закрутили прожекторами, упреждая малейшие волнения среди арестантов. Их слепящие лучи неустанно полосовали темноту.
– Строем, строем, кому говорят! Строем! – доносился трубчатый бас одного из лагерных старшин. Овчарки где-то в глубине лагеря срывали поводки, захлёбываясь в лае. Когда плац совсем опустел, молодой лейтенант Скрябин, дежурный по лагерю, приказал старшине, своему помощнику, занести в журнал время прибытия нового этапа, сам же направился скорым шагом к избяному строению – вахте, у которой уже топтались начальник конвоя и его заместитель. Офицеры поздоровались согласно уставу. Скрябин ещё издали узнал в крепко сбитом начальнике конвоя лейтенанта Шустова. Тот летом приводил два этапа на лагпункт, тогда и познакомились.
– Что-то зачастил к нам, – негромко сказал Скрябин, когда отошли в сторону.
Шустов тяжело вздохнул, дёрнул зябко плечами, всем видом показывая – служба, брат, что поделаешь! Были они практически ровесниками.
– Пересылки на Тайшете и Анзёбе переполнены. Из ангарских лагерей собирают и командируют к вам, «озёрникам»1 . Евстигнеев, говорят, в Управлении сутками сидит. И днюет, и ночует, – ответил Шустов, вытаскивая пачку папирос. Закурили.
– Одно не понятно, где их всех размещать, – озадаченно глядя на серую массу арестантов, тихо сказал Скрябин.
Сигаретный сполох отразился в его чёрных зрачках. Продолжая думать о чём-то своём, добавил:
– Там, в канцелярии, Канашидзе на ужин ждёт. Забегай!
– Добро! Тут сейчас утрясу всё и зайду.
Между тем изнурённые дневным переходом заключённые застыли у ворот лагпункта.
Вот для этих двухсот заключённых, одетых-обутых в изношенные, истрёпанные лохмотья, дорога от пересыльного пункта до нового места заключения, сегодняшний этап – событие. Событие, потому что они дошли. Не остались лежать на обочине обледенелой дороги.
Заключённые стояли ровно, скрадывая тяжёлое дыхание, и что-то злое ещё исходило от них. Пугала не просто чёрная неподвижная людская масса, пугало то безмолвие, что висело над ними. Они ничем не выдавали свою тягу к жизни. И создавалось впечатление, что заключённые от бессилия даже не могли думать. Ведь любое движение мысли причиняет истощённому организму осязаемую боль. Поэтому мало кто думает о завтрашнем дне, о новом месте заточения. У всех мысли, а вернее, инстинкты схожи: быстрее добраться до барака. Если повезёт, до места на верхних нарах, а если очень повезёт – отогреться немного у печки, если она в бараке имеется и топится.
У вахты сгрудились конвоиры: и постоялые, и прибывшие. Курили, негромко обмениваясь новостями. Шустов вызывающе выделялся среди прочих служащих добротным овчинным полушубком. И вёл себя вызывающе: заходил в вахтенное помещение, через минут пять-десять выходил, и так не единожды. Арестанты же стояли, мёрзли, мучились: что ж они там телятся!? сколько ещё!?
Примерно через час дали команду выстраиваться по трое: помощник начкара достал формуляры, выбрал освещённое место, поднёс формуляр ближе к глазам. Только выкрикнет фамилию, тут же из общей массы отделяется фигура и бегом, точнее трусцой, сцепив руки на затылке, подбегает к старшине, останавливается в трёх шагах, словно упёрся в невидимую стену, и быстро называет свою фамилию, статью, срок.
Кто «отмолился», пристраивается в предзоннике: туда, как свечку, выставляли конвоиры в такой же строй, только по другую сторону колючки, на двадцать шагов ближе к лагерным строениям.
– Прохоров!
Заключённый семенит. Его тяжёлый хрип слышен аж в середине колонны. Словно битюг тащит на гору гружёную телегу.
– Прохоров. Статья пятьдесят восьмая, пункт восемь десять, восемь девять. Пятнадцать лет, пять с поражением в правах.
– Огородников!
Очередной заключённый отделился от чёрной массы арестантов, словно ржавый лист от дерева, не выпрямляясь, отчеканил:
– Огородников…
Конвойный ощутимо толкнул Огородникова в плечо, указывая куда встать. Конвойные, что распределяют зеков в самой зоне, не вооружены. Огородников глубоко втянул промозглый воздух, стараясь быстрее отдышаться. От долгого времени на морозе голова шла кругом, конечности болели от нудной свербящей боли: холод, усталость скручивают в груди пружину, не продохнуть. Хочется тишины, покоя, тепла. Мороз, казалось, гнул людей к земле: и многим мерещилось, что конца и края этим мучениям не будет.
Старший лейтенант Шустов, убедившись, что всё идёт согласно инструкциям, направился в штабной барак. Там, несмотря на позднее время, в надзирательской комнате оживлённо обсуждали что-то трое охранников. Печка раскалена докрасна. Единственная лампочка под потолком светила тускло, в комнате чувствовался запах пота, старых отсыревших вещей. На лейтенанта внимания даже не обратили. Место дневального пустовало: он попался Шустову на крыльце. Шустов прошёл дальше. Наконец наткнулся на двери с вывеской «Канцелярия».
В кабинете лейтенант Канашидзе и начальник лагерного режима капитан Недбайлюк просматривали документацию. Поздоровались. Шустову предложили табурет – охотно присел, ослабляя верхние петлицы полушубка. Предложили чай – ещё охотнее согласился. Горячий чай очень кстати! Пока коллеги занимались бумагами, Шустов, обхватив горячую кружку ладонями, негромко отхлёбывал кипяток. Когда о чём-то спрашивали, спокойно отвечал. Чай был без сахара, с тяжёлым непривычным привкусом. Шустов и этому рад: на щеках от тепла разбежался румянец, черты лица размякли, опростели, и ничего в нём не осталось от грозного блюстителя конвойных порядков. Выражение мальчишеского восторга будто застыло на его белокожем круглом лице – ну, никак не начальник караула!
Между тем перекличка продолжалась. Конвойные в одинаковых серых полушубках для согрева прохаживались вдоль строя: им дозволено! Прохаживались согласно инструкции не ближе, чем на пять-шесть шагов: мало ли кто отчаявшийся может наброситься. Никто из охраны не всматривался в лица заключённых, какой смысл? Да и что там увидишь? Безмолвный оскал приближающейся смерти?! Страшное прикосновение тлена человеческих тел и душ?
Выкрикивавший фамилии старшина, в манерах которого без труда угадывался бывалый служака, при этапировании заключённых не зверствовал.
По нынешним временам это редкость. Хоть здесь повезло зекам! Старшина, назвав очередную фамилию, вдруг закашлялся: дыхание на холодном воздухе перехватило. А может, умышленно родил паузу, видя, как подходящий зек, вдруг оступившись, сбился с шага и чуть не упал. Все видели, как зеку непросто было устоять на ногах, но устоял. Выпрямившись, выкрикнул громко своё имя, статьи, срок и всё такой же шатающейся походкой отошёл в предзонник.
А в кабинете воцарилось оживление. Черноглазый, неусыпно балагуривший лейтенант Канашидзе предложил прямо здесь поужинать. Предложение показалось своевременным. После нескольких глотков добротного самогона, как полагается, разговорились. Пару раз забегал Скрябин, забегал для того, чтобы, как он говорил, «добавить в топку горючего».
По отчётам выходило: этап состоял из ста двадцати четырёх зеков. От пересыльного пункта под станцией Анзёба до ИТЛ-04… двадцать два километра. Этап вели вдоль насыпи, которую укладывали под железнодорожную ветку. Шустов рассказывал степенно, не торопясь, иногда забавно окая, что придавало его лицу особую крестьянскую выразительность, а когда принимался поглаживать ощетинившийся ёршик на крупной голове, тогда совсем казался беспомощным. Взглянувший в его васильковые глаза и не подумает, что в конвойных нарядах этот парнишка, так напоминающий доброго крестьянина-пахаря, не дрогнувшей рукой пристрелил восьмерых заключённых.
– Шли по вешкам. Дык, я сюда по лету и осени этапы приводил. Места уже знакомые. Одно плохо: дорога идёт вдоль отсыпки. Для любителей бегать, ориентир – лучше не придумаешь. Всё без карты понятно.
Высказанное Шустовым замечание встревожило капитана Недбайлю-ка. Он, уловив в себе какую-то мысль, сразу озадачившую его, медленно притянул к себе со стола тетрадь и, не торопясь, словно пугался, что мысль в суетливой спешке забудется, сделал длинную запись. В отличие от товарищей Недбайлюк только пригубил самогон, к поставленной на подоконник кружке больше не прикасался, и в этой его отстранённости не было ни грамма показушности: Недбайлюк не жаловал пьянство вообще, а на работе тем более. Он с интересом проглядывал дела новоприбывших зеков.
С плаца донёсся шум. Начальник режима глянул в окно, Шустов напряжённо следил за ним. В эти минуты с предзонника заключённых стали принимать лагерные конвоиры, всё началось снова, только с досмотром. Один из зеков упал, видимо, лишившись чувств. Те, кто стоял рядом, закричали, пытаясь обратить внимание конвоиров. На морозе все звуки ломаются: трудно иной раз сразу уразуметь, что происходит. Свалившегося арестанта оттащили от общих рядов, вахтенный надзиратель дёрнулся было в его сторону, но предусмотрительный Скрябин – он руководил уже здесь – жестом остановил его.
– Не подходить! Только по номеру! – закричал он, бойко подчёркивая свой начальственный статус.
Никто не осмелился ослушаться. Шмон* продолжался. Про обессилевшего зека тут же забыли.
В кабинете продолжался доклад.
– Ничего, у нас не забалуешь, – худой нос Недбайлюка заострился ещё больше.
Он вновь что-то записал в тетрадь.
– Так-то оно так! Всё равно лезут за колючки, как тараканы на крошки. В семнадцатом пункте три дня назад четверо ломанулись. Не знаю, взяли или нет. Меня прикрепили к этапу, что там дальше, не знаю, – сказал Шустов.
– Семнадцатый – это где? – немного осевшим голосом спросил Кана-шидзе.
В отличие от товарищей он слегка захмелел.
– Ближе к Вихоревке на вёрст десять, наверное. Там одних политических уже сгуртовали, – уточнил устало Шустов.
Недбайлюка радовал тот факт, что этап в основном состоял из зеков, осуждённых по пятьдесят восьмой: всего три повторника* 2 , столько же бэбэковцев*; бытовиков и уголовников кот наплакал, а бубновых* – всего один. Недбайлюк с интересом пролистнул дело «бубнового» и не только потому, что так полагалось по инструкции; эта уголовная каста с некоторых пор стала вызывать у капитана простое житейское любопытство. Раньше, ещё до работы в органах, уголовники подобного рода, представлялись ему отпетыми головорезами, очень ограниченными и озлобленными, уж точно не склонными к людским нормальным чувствам. Каково же было его удивление, когда, столкнувшись уже в лагерях с уголовниками высшей касты, он пришёл к выводу, что во многом насчёт них ошибался. Всё оказалось сложнее.
На фото некто Лукьянов выглядел неприглядно: это был вор-рецидивист, чья тюремная биография начиналась ещё с царских времён, а далее старший лейтенант читал длиннющий «послужной список», где лихие разбойные нападения на заводские кассы и банки купеческих магнолий чередовались с мелкими грабежами уже советских торговых прилавков. При царе – один срок, трое покалеченных; при советской власти – три срока и почти два десятка трупов. Шестьдесят семь лет! Матёрый дядя! Недбайлюк развернул дело к Шустову, ткнул пальцем в фотографию:
2 Значение слов и выражений, отмеченных знаком *, приводится в Словаре на стр. 472.
– Есть такой, – кивнул Шустов, пережёвывая кусок хлеба. – На пересылке вёл себя тихо, в дороге тоже. Среди блатных – непререкаемый авторитет.
«Серьёзный дядечка. мокрушник. в ближайшее время надо приставить за ним уши», – размышлял Недбайлюк, внимательно слушая начкара.
– Да, волну по дороге не гнал, – продолжал Шустов, когда его конкретно спросили про блатарей. – Держались кучкой своей, как обычно. Их там всего-то четверо серьёзных, ну и примазанных, по-моему, уркаганов пять. Они и на пересылке, судя по отчётам, не шумели особенно.
– Конечно, сейчас для них, вообще, времена пошли не сахарные, – заговорил Канашидзе, ясно выделяя свою бесхитростность в кумовских расчётах. Он потянулся к бутылке, но увидев осуждающий взгляд Недбай-люка, передумал: – Свора между ворами началась не шутейная. До резни доходит. Слыхал? К нам, так сказать, по обмену опытом с Дальнего Востока скоро отправят целые отряды «перевоспитавшихся».
– Не знаю толком насчёт этой заварухи ничего. Говорят всякое. Но у нас в лагерях всё тихо! Воры сами по себе, работяги сами, – сказал Шустов, украдкой глянув на отставленную в сторону бутыль самогона. Он сейчас гадал, оставят ли ему причитающийся стакан на ночь для сугрева или всё сами выхлебают, паразиты.
Похоже, эта думка настолько заняла начальника конвоя, что по его лицу всё стало понятно Недбайлюку. Начальник режима, хмыкнув, вернул бутыль на стол. Выпили, как положено, на посошок. Канашидзе заметно осоловел. Шустов, понимая, что в разговоре уже цепляться не за что, поднялся. Не слишком хотелось выходить из натопленного помещения, но служба требовала. Подчёркивая груз ответственности, дескать, за всем присматривать требуется, Шустов вышел наружу.
По времени прикинул верно: этапников загоняли в карантинный барак. Некоторых обессиленных, среди них и тот, что свалился в пред-зоннике, поддерживали зеки, в ком ещё находились силы для благородных поступков. Один, видимо, совсем дошёл. Начал заваливаться на бок. Его подхватили, возле самых дверей барака, таких, как правило, не бросают – хуже может обернуться. Откинет дух, заставят снова на поверку строиться. Им то что? А вот у зеков уже сил нет. Доходяга еле ноги переставлял.
Может, уже волокли с остановившимся сердцем. Но, похоже, нет, выдюжил! Вон ногу подтянул, ступил, опять ступил. Последние спины исчезли в проёме сеней. Овчарки постепенно утихли. Установилась долгожданная тишина над лагерем.
Шустов закурил, мечтательно-добродушное выражение застыло на его лице. Он представил, как сейчас, прежде чем разлечься в тёплой постели, съест добротную порцию каши, обязательно с мясом, выпьет стакан, а может, и два крепкого самогона и уснёт. Он так надеялся, что во сне увидит тёплые края, откуда родом, равнинное колосившееся поле и славную девушку Галину, которая обещала ждать его ровно столько, сколько понадобится. Письмо и фотографию девушки Гали начкар всегда носил с собой.
Глава 2
На утреннюю поверку вывели с опозданием. Подгадали так, чтоб лагерь выглядел безлюдным: только лагерная обслуга и силуэты стрелков на вышках. Очевидно, перестраховывались. Нынче в лагерях было неспокойно.
Небо, истёртое белёсыми рассветными полосами, давило вселенской пустотой. От земли клубилось морозное марево, уплывало куда-то вверх. После переклички объявили, что весь день продержат в карантинном бараке; через тридцать минут завтрак, потом баня, медосмотр и прочее…
Когда старшина Скорохват – долговязый, опухший, с тяжёлым угреватым носом – заикнулся про баню, никто в строю радости не выказал. Все ещё находились под впечатлением кошмаров от холодного, как могильный склеп, барака, куда их загнали ночью. Единственная печь, бесхитростно слепленная из железной бочки, топорщилась почерневшим валуном посередине, но нескольких охапок дров, брошенных возле неё, едва хватило на пару часов. Скоро холод вновь полез из всех щелей. Как ни расходовали дрова экономно, стараясь растянуть жар до утренней побудки, всё равно в эту ночь двое умерли во сне, с десяток уже не смогли подняться без помощи солагерников.
Незадолго до побудки дверь барака распахнулась. Дежурный старшина через порог переступать не стал: из барачной полутемноты дохнуло не только тяжёлым запахом, дохнуло смертью. Забродивший рассвет вырисовывал лишь силуэт старшины, глаз не видно, лицо прячется за отворотом полушубка, не человек – призрак.
Неожиданно высоким бабьим голосом дал команду надзирателям принести два ведра воды, дров, напоследок предупредил:
– Через пару часов выведут на завтрак.
– Может, трупы вынести, старшина?! Несподручно как-то тесниться на одной шконке* с покойниками, – выкрикнул тот самый сиделец, что барак назвал «домом». Лицо его немногим отличалось от лиц умерших, отличие – вздрагивающие, почти прозрачные веки, словно ширмы-ставни, прикрывающие одичалые навыкате глаза.
– О живых думайте, дюже грамотные! И не бузите, а то мигом на плац выведу, – спокойно, как на базаре, отбрехался старшина.
– Вот за живых и просим! Здесь доходяг много. До столовой точно не дотянут. Может, хельшера? – спросили из темноты охрипшим голосом.
Старшина-призрак сделал вид, что не расслышал: он отодвинулся из сеней наружу, пропуская надзирателя с наполненными вёдрами. Во всей его неторопливости подчёркивалось презрение к заключённым. Старшине, поди, грезилась тёплая лежанка да наваристый борщ. Такому докучать просьбами, что у месяца просить тепла! Второй, худой долговязый, надзиратель занёс охапку дров. Несколько заключённых немыми тенями отделились от стен барака и угрюмой, устрашающей волной двинулись к нему.
– Этого же нам не хватит! – вскрикнул кто-то обречённым голосом.
– Дайте ещё пару охапок, передохнем ведь все, – увещевал в глубине барака другой голос, эхом рассыпающийся по закуткам барака.
– На дрова ещё не заработали, – осклабился надзиратель с лицом только что разбуженного буддиста и усмехнулся. Он забежал в барак всего на секунду, без особого рвения, умело пряча за непроницаемым лицом прилипший страх, уже поставил вёдра с водой и собрался тонкой змейкой выскользнуть, поскольку барак должны были вот-вот закрыть. Но к нему подскочил зек, немолодой, средних лет, схватил за кисть руки, что-то заговорил негромко, оборачиваясь иногда и указывая взглядом вглубь помещения. В раскосых глазах татарчонка-надзирателя промелькнули озадаченность и испуг: он выслушал внимательно и вышел.
Подошёл к старшине. Арестанты ловили фразы негромкого разговора между старшиной и татарчонком. Старшина спокойно выслушал, кивнул головой, татарчонок мигом исчез. Ветер гулял в дверном проёме. Прошло минут пять. Татарчонок вернулся, с ним ещё один: принесли добротные охапки дров. Дверь, вырывая из петель царапающий скрип, закрылась.
Как только затопили печь, по бараку поплыл удушливый смрад, однако тепло было важнее – терпели. Лёгкий иней с барачных дощатых стен по углам и на стыках исчез, отовсюду потянуло сыростью. Многие лежали на двухъярусных нарах, не раздеваясь. Зеки, кто с проклятиями, кто с молитвами, кто вообще молчком сидели в бараке, пытаясь забыться во сне.
Так прошла первая ночь этапников на новом лагпункте. Утром следующего дня им объявили о бане. Опытные зеки знают, что такое баня на зоне. Сплошная фикция, галочка для отчётов. Все лагеря – это братья-близнецы, и не бывает такого, что здесь хорошо, а там плохо. Лагерные бани – душевные и телесные мытарства, и все эти «дезинфекционные процедуры» – очередная, ловко замаскированная возможность вволю поиздеваться над заключёнными.
– Вы что, ублюдки? – гаркнул Скорохват притихшему строю зеков. – Мы им баню подготовили, а они даже счастья не кажут. Первая шеренга, шаг вперёд!
Колонну выстроили по трое: старшина рычал всё злее и громче, подгонял угрюмых зеков, иной раз не жалея тумаков для арестантов, уверенный, что только так можно ускорить процесс. С ближайшей вышки стрелок, напоминающий огромную нахохлившуюся птицу, высунувшуюся из гнезда, с любопытством наблюдал за построением.
В числе первых повели Сашку Огородникова. Рядом идущий заключённый пошутил:
– Повезло, каторжане, хоть мыло достанется.
Баня оказалась на взгорке, почти сразу за бараком, где провели ночь. Предбанник – человек на двадцать, а их запихали в два раза больше. Одежду снимали молча, скидывали узлом в узкое окошко на прожарку от вшей и грязи. Полутемно, скользко, полы холодные, два ушата тёплой, один холодной воды; мыло – один кусок на несколько человек, если прозевал свою очередь, то можешь и без мыла остаться. Сам виноват. За слабого сильный думать не будет.
Буквально через полчаса непросушенное тряпьё банщик выкидывал в то же окошко общей охапкой обратно. Как крест устанавливают на могилу, так на измождённое тело зека возвращались сырые арестантские обноски. В предбаннике запах въедливый, пропитанный чем-то кислым. От тесноты дышится тяжело, распаренная сырость тянется отовсюду. Кто уже оделся, не торопятся на выход: всё равно здесь жизни больше, чем за дверью.
Притулился в углу и Сашка Огородников, тридцати лет от роду, в последнее время всё чаще откликавшийся на Сашку-пулемётчика. Огородников – светло-русый, синеглазый, без лишней растительности на молочно-белых скулах, всё в его простоватом лице блёкло, невыразительно, только надбровные дуги немного тяжелее обычного, отчего кажется, что он вечно хмур и даже разозлён. На левой щеке приметный шрам: зацепило гранатным осколком. Ростом хоть невелик, но плечи, руки, стан ещё хранили, несмотря на второй год срока, дикую, свирепую силу. Чувствовалось – предки Огородникова всласть погуляли по бескрайним просторам Руси-матушки.
Сашкой-пулемётчиком он стал после событий в сорок пятом. Думал, прилипло на время, оказалось, на всю жизнь. На первой пересылке сокамерники поинтересовались его именем, Сашка возьми и назовись так, как окликали его в самые последние недели войны.
Его дивизия стояла на окраинах Берлина. Взвод, в котором Огородников дослужился до старшины, получил задание занять на крупном дорожном перекрёстке высотное здание и лишить фашистов манёвренности до подхода танковой части. Задание, показавшееся несложным и не таким ключевым для Сашкиных однополчан, через час стало решающим для всей наступательной операции. Поначалу немецкое командование не придало этому направлению особого значения. Когда увидели свой просчёт, вынуждены были несколько десятков эсэсовцев бросить на захват именно этого здания, где расположились три пулемётных расчёта Сашкиного взвода. Больше часа шёл неравный бой. Из взвода выжили несколько солдат, среди них Огородников.
Обещанную Звезду Героя, к которой представил по спискам комдив, не дали, а вот в сорок седьмом, когда заступился за председателя в родной деревне, срок впаяли в три дня по пятьдесят восьмой статье, пунктам седьмому и одиннадцатому. А заступился в горячке на совхозном собрании за председателя, перед приезжей областной комиссией: мол, не враг вовсе председатель, да и мы не хуже других, просто указы идут сверху какие-то дурацкие, один противоречит другому, не дают голову поднять да на ноги встать покрепче.
Председатель был из местных, в сорок третьем году вернулся с войны изувеченный: ногу оторвало миной. Признаться, не шибко-то рвался в руководители, но что поделаешь, – назначили. А партийному быть в отказе – уже считай, голову на плаху положил. Короче, не председательство – каторга. Потом по болезни снимали, ставили нового – моложе да побойчее на язык. И что самое обидное – все пришлые. А им что? Посидят месяц-другой, покомандуют и, как созревшая редиска по весне, ловко перебираются в другое кресло другим начальником, добавляя к умирающему хозяйству кучу новых проблем. Опять собрание, где опять в правление выдвигали бывшего председателя. Всё бы ничего, мужик с головой, может, справились бы всем селом, если б давали жить по уму, а не по разнарядкам всяким, в коих председатель разобраться неделями не мог.
Закончилось всё тем, что на очередную посевную зерна не оказалось: всё для плана по осени выгребли, оставив закрома пустыми, даже мыши разбежались. Сажать было нечего, значит, и собирать нечего. Поля остались незасеянными. Вот и вступился Сашка за председателя, не один, конечно, ещё с несколькими односельчанами. Но глотку драл больше всех, потому, видимо, и запомнился кому-то из приезжей комиссии. Сашка в ту пору, стоит отметить, ещё пребывал под гнётом фронтовых воспоминаний, всё не мог надышаться радостями жизни, частенько выпивал и выпивал, признаться, крепко. Иногда его заносило: мог несколько дней провести в пьяном угаре. Родные – матушка и младшая сестра – пока терпели, понимали, что многое пережил Сашка на фронте, жалели, полные надеждами, мол, погуляет ещё немного и возьмётся за ум. Вот на том-то собрании Сашка в сердцах да под хмельным дурманом и наговорил лишнего.
За Огородниковым и председателем приехали ночью на двух чёрных воронках, больше в деревне никого не тронули. Лейтенант в форме НКВД во время обыска скомкал небрежно парадный мундир Огородни-кова, скинул на пол. Сашка распалился, поднял китель и ткнул орденами в восковую рожу чекиста. Лейтенант небрежно посмотрел на всё это и сплюнул. О судьбе председателя Огородников узнал через год, сидя в Ангарлаге. Тот, видимо, отчаявшийся вконец и уже не верящий ни в какие праведные суды, на одном из пересыльных пунктов инсценировал побег. С костылём под мышкой, в дождливое осеннее утро. Конвоир пристрелил арестанта с близкого расстояния. Стрелял, наверняка, больше из жалости, чем из ненависти. Так, во всяком случае, рассказывали Сашке-пулемётчику. Может, оно было всё и не так, но отчего-то хотелось принимать только такую версию.
Наконец забряцал снаружи засов.
– Ну что, говноеды, пропарились? – гаркнул Скорохват, всей своей разъевшейся наружностью выказывая откровенное презрение к арестантам: – О! А чё не бачу благодарностей? Як известно, после пару свежего особливо тянет на трудовые подвиги! Все выходь на построение!
Выстроившись в колонну по трое, арестанты угрюмым молчанием отмежевались от словоблудия старшины: в лицах каждого – ненависть, в походке – усталость, в глазах – тоска. Старшина весёлым глазом смотрел на молчаливую серую массу арестантов. Потом что-то изменилось в его лице. Какая-то горькая дума тенью легла на обвисшие щёки. Он негромко скомандовал идти в барак. Всю дорогу молчал, утаптывая грузным телом раскисшую землю.
Глава 3
После обеда начался медосмотр. Эта процедура для арестантов означала следующее: каждому присвоят категорию трудоспособности, которая определит будущее заключённого. Когда Сашкина группа вернулась в барак, следующая часть арестантов отправилась в баню. Вошли три надзирателя, не спеша отгородили с правой стороны у самого входа выцветшим куском брезента угол, предварительно разогнав оттуда всех заключённых. Вальяжная сытость надзирателей никак не вязалась с лагерным бытом, где хозяйничали голод, болезни и смерть. Отчего и вся процедура медосмотра напоминала плохо поставленный спектакль.
Общая арестантская масса расщепилась уже на отдельные кучки: группировались в основном по землячеству или по интересам, как, к примеру, бывшие военные, которых объединяло фронтовое прошлое… На данном этапе фронтовиков оказалось всего трое: Огородников, Мальцев – южанин из Ростова, лет на пять старше Огородникова, и Мургалиев – немолодой, с пожелтевшим пергаментным лицом узбек. Расположились они посередине барака, на верхних нарах. В разговоры вступали редко, каждый думал о своём. А какие думы у арестанта? Во сне – про еду, наяву – тоже про еду, и всё это подгоняется неугасаемым желанием отыскать такое место, где можно согреться.
Сноровистые надзиратели выставили за ширмой лавки, получилось вроде нескольких отдельных кабинетов, лишь визуально определявших огороженную территорию.
Перед приходом врачей затопили печь. Многие жались к печке. Огородников слез с нар, попытался протиснуться к теплу поближе. Удалось, но не сразу. Затопили вторую печь, что стояла почти в самом конце барака. Там сидели стайкой, так называемые на зонах, «блатные». Огородников ещё на этапе обратил внимание на эту группу: костяк состоял из четырёх человек, несколько развязных зеков крутились возле них, стараясь примазаться к ним по-серьёзному, но Лука – все уже знали погоняло* авторитетного вора – не спешил с ними корешиться*.
В барак вошли двое мужчин в белых халатах. Сразу исчезли за ширмой. Чуть позже к ним присоединился третий – фельдшер. Медосмотр начался. Постояльцы барака заметно оживились. Многие принялись делиться хитростями, с помощью которых можно получить низкую категорию по здоровью, что гарантировало более лёгкий труд. Возрастные сидельцы, а таких было немного, только усмехались. Выкрикивал фамилии помощник санврачей. Вот наконец выкрикнули Огородникова. Он зашёл без волнения за ширму, полностью полагаясь на удачу. Фельдшер, что поближе и моложе, потребовал мягким баритоном раздеться.
– Быстрее, быстрее, молодой человек! Вас много, нас мало, – заговорил не совсем внятно фельдшер и, выглянув наружу, выкрикнул новую фамилию. Потом также быстро дал указания надзирателю-помощнику, чтобы подошедший заключённый у порога уже начал раздеваться. Фельдшер спрашивал, не скрывая раздражения и недовольства, но взгляд был, напротив, спокойный и бесконечно усталый.
– Есть на что-то жалобы? Чем болели в детстве? Так и запишем: корью, ага, ещё свинкой.
Второй врач выглядел старше на добрый десяток лет. Он прощупывал гениталии, ничуть не испытывая при этом неловкость; чёткими выверенными движениями быстро, словно пианист, пробежал пальцами по всем интимным местам, тронул филейную часть ягодиц, на ощупь определяя физические возможности заключённого. Огородников не сомневался: ему выдадут первую категорию. С такими мыслями он прошёл на своё место.
На нарах лежал Мальцев. Узбек, ссылаясь на плохой слух, пристроился ближе к перегородке, боясь не расслышать своей фамилии, когда её выкрикнут. В его спокойных чёрных глазах тлела слабая надежда, что ему присвоят низшую категорию трудоспособности. Учтут пятидесятитрёхлетний возраст, поразятся доходной худобе, потом обязательно вычитают в справке, что он воевал и был тяжело ранен в грудь. Всё это не останется без внимания врачей. А это был единственный шанс вытянуть свой «червонец» и вернуться на родину. Каких-то три месяца назад ему ещё снилось солнце, родное небо, тихий кишлак; ему ещё помнились запахи степного ковыля и сухого ветра.
– Бедолага наш узбек, – заговорил негромко Мальцев, постреливая взглядом по сторонам, – не подслушивает ли кто. – Всё думает, что завтра объявят, извините, мол, вас посадили по ошибке. Господи, сколько таких дураков здесь сидит! Ты бы послушал, Сань, охренел бы. Для них гуталин*, как икона… Чё, мошонку прощупали? – уже не без иронии спросил солагерник.
Огородников неопределённо дёрнул плечами. Он желал сейчас одного: лечь, не чувствуя прохлады от голых досок, и забыться. Хотя бы на какое-то время.
Мальцев ещё о чём-то рассуждал вслух, когда Сашка, едва уткнувшись головой в спелёнатые руки и натянув плотнее ушанку, провалился, как и мечтал, в короткий, но, главное, глубокий сон. Во сне он вдруг увидел белые женские руки, они прикасались к его груди, плечам, и ему стало несказанно тепло от этих нежных прикосновений.
Ночью напротив лежанки Огородникова поднялась драка: кавказцы сцепились с «хивниками»*. Толком Сашка не понял причину затеянной потасовки. Зеки на новом месте так же, как и в других лагерях, сходились по общепринятым принципам, на самом-то деле очень понятным и немудрёным. Заключённых объединяли либо национальность, либо землячество, либо принадлежность к какому-либо роду деятельности и, что в меньшей степени, родственные взгляды или родственные судьбы. И эти простые истины прижились по всем лагерям.
Он понимал: если держаться куриями, тогда шансов выжить в жестоких гулаговских условиях появляется несравнимо больше. Но, правда, в минуту серьёзных передряг отсидеться в стороне явно не получится. На пересылках он несколько раз становился свидетелем того, как сидельцы одной группировки сталкивались с сидельцами другой. Часто всё заканчивалось поножовщиной.
Тогда-то Огородников и сделал вывод: нужно иметь свой костяк, группу. Но вот с кем? Мальцева и Мургалиева Сашка пока в расчёт не брал: неизвестно, как их распределят, да и трудно в новом лагере сразу заиметь вес, чтобы с тобой считались. Надо искать среди здешних сидельцев фронтовиков. С такими думами Огородников уснул: разбудили приглушённые крики.
По бараку будто катилась океанская волна, с шумом втягивая в смертельный водоворот случайных людей. Бандеровцы наседали ростом и количеством, кавказцы отвечали отчаянной смелостью, данной им от природы.
Дежурный по бараку кинулся к закрытым дверям – на малейший шум изнутри часовой вышки обязан поднять тревогу. Не принимавшие участия в драке быстро сообразили, чем обернётся затеянный шум. Дежурного перехватили у самого порога. Но уже видно было – к первому дежурному на помощь бросился второй: в лагерях суточную вахту всегда несли по двое. Барак утробно загудел. Кто-то из блатных заговорил негромко, стараясь своим авторитетом погасить пыл сцепившихся зеков; если сейчас поднимут тревогу, запросто выгонят всех на плац и придётся там бодаться с морозом, чёрт знает сколько.
Этот аргумент утихомирил всех. Постепенно страсти улеглись. Сашка задумался на предмет того, что первым делом надо будет в новой бригаде – куда его кинут, он ещё не знал – отыскать фронтовиков.
«По-другому здесь не выжить. А если фронтовиков нет? – терзал он себя тревожными мыслями. – Тогда собирать всех сибиряков вокруг себя. Думаю, тут таких немало».
Глава 4
На исходе вторых суток в барак ворвались надзиратели, с ними старшина Скорохват – так начался шмон. Уже который по счёту. Этапники настороженно притихли.
Надзирателей было шестеро, что позволило им вести досмотр одновременно в разных углах барака. Старшина переходил то и дело от одной пары надзирателей к другой. Всё подозрительное выкидывалось на середину коридора. Но таковых вещей у заключённых не было. Многие имели при себе фотографии, прочие безделушки, связывающие их с прошлой жизнью. Изъятие фотографий надзирателями считалось высшей формой изощрённого издевательства, но такое случалось редко.
Один надзиратель ощупывал одежду на арестанте, второй перетряхивал лежанку. В обоих случаях требовалась недюжинная сноровка. На всё про всё – пять-семь минут.
Функции надзирателей и десятников во всех лагерях выполняли заключённые. Статьи у них были соответствующие – бытовые. Так называемая лагерная «аристократия» жила в отдельном бараке.
Быстро добрались до Сашкиного ряда. У того, что ощупывал нижние нары, руки – под стать гибкому сухожильному телу: запястья тонкие, пальцы лёгкие, вёрткие, существуют словно сами по себе и проявляют небывалую сноровку и виртуозность. Он, наверняка, был карманником. На воле любая баба сомлела бы от таких прикосновений.
– Тебе бы не шконку тискать, а пианино… такими-то ручонками шаловливыми, – заметил кто-то из другого ряда.
Огородников равнодушно созерцал, как ощупывают его вещи. Его телогрейка вертелась в цепких лапках шустрого надзирателя. Пусто!
Второй продолжал ползать то под нарами, то вдоль стенки. Не найдя ничего и не теряя времени, они перешли дальше. Огородников поднял с пола свои пожитки. Рядом присел Мальцев:
– Что, хлопец, тоже ничего с собой не кантуешь? У меня было с собой письмо, ещё на уральской тюрьме полученное. От матери и сестёр. Почти год с собой таскал. Вот здесь, – он ткнул пальцами в левую часть груди. -Так сховал, что почти год не могли найти, но. потом в бане кто-то с тельняшкой свистнул.
В стороне поднялся надрывный, выворачивающий душу мужской скулёж. Высокий худой арестант упал на колени прямо перед старшиной. Хотел вскинуть руки кверху, но получил от надзирателя крепкий удар в спину.
– Богом прошу! Не отымайте, нельзя! Богом прошу!
У старца-баптиста въедливый надзиратель обнаружил крошечный крестик – изъяли. Старец не на шутку убивался по крестику и всё причитал, давясь слезами.
– Заткни его! – гаркнул старшина. Раздался звук крепкой оплеухи. И тут же несчастный старец притих.
Монолог Мальцева прервался из-за этой сцены. Наблюдали молча, с философской отстранённостью. Немного помолчав, Мальцев опять заговорил, всё поглядывая по сторонам:
– Совсем озверели, скоты! Эх, навалиться бы толпой, придушить бы парочку придурков. Эх, Санёк, а что? Может, тряхнуть плечами? По-моему, здесь только свистни, сразу охочих до кипиша* наберётся.
– А ты что? Ещё не навоевался?
Огородников говорил машинально, особенно не придавая значения разговору, который казался ему пустым, отчасти балагурным. Вот только взгляд Мальцева – взгляд плута и прохиндея – смущал Огородникова. Где-то в глубине барака опять поднялись крики: нашли листки затрёпанной донельзя Библии. Старого сидельца бить не стали, просто пихнули под шконку и приказали, чтоб сидел тише мыши, иначе в карцер отправят. Охая сиделец преклонных лет так и поступил. Большинство арестантов не обращали на выкрики внимания. Мальцев вновь проявил нездоровую заинтересованность к чужому горю.
– Люби меня по самую ватерлинию, обшмонали до пёрышка! Всё хочу спросить, ты на воле кем кантовался? Я в речном пароходстве в рейсы ходил. На Каспии.
Сашка Огородников не очень ясно представлял, где находится Каспий, поэтому вслух удивился:
– Ты же говорил, что из Ростова.
Мальцев на секунду смутился отчего-то, но очень быстро выдавил хмельную улыбку:
– Я говорил, что из Ростова, это моя родина. А сам я по профессии моряк. На Каспии ходил.
На третьи сутки, после развода, в карантинный барак влетели три надзирателя:
– Выходи на построение. Строиться! Строиться! Быстрее! – дико орали они, высматривая тех, кто не проявлял особой торопливости. Все этапники внутренне готовились к этому моменту, а он, как всегда, наступил неожиданно, от того, может, собирались дольше обычного, подбирали ватники верёвочками-тесёмочками, на ходу запахивались надёжнее да бережнее: «Тепло в теле – дольше в деле», – с горечью на искривлённых устах высказался старый каторжанин-бэбэковец. Выходили неровной струйкой во двор.
– В три шеренги становись! – нервно кричит Скорохват. Ему разноголосо вторят надзиратели, захлёбываясь в ругательствах, конкретно ни к кому не относящихся: так, для порядка больше.
– Быстрее, уроды! Чё канителитесь? Обосрались что ли? Быстрее давай! За пять минут выстроились. Вывели за жилую зону. Следующий приказ:
выстроиться вдоль запретной зоны и замереть без признаков жизни.
За построением наблюдали четыре офицера – лагерное начальство. Вперёд вышел высокого роста, худощавого сложения капитан, в повадках которого проскальзывала франтоватость. Офицер имел крупные правильные черты лица, выразительные синие глаза, кустистые белёсые брови. Наверняка, этот среднего возраста мужчина пользовался успехом у женщин. Зеки нового этапа уже знают, что это начальник режима капитан Недбайлюк. Также знают и то, что заключённых он за людей не считает. Уже было известно, что душевные и умственные силы капитан тратит на изучение процессов, связанных с перевоспитанием зеков. Никто не задавался вопросом: искренен в своих убеждениях начальник режима или, прикрываясь этими убеждениями, просто делает себе карьеру. В данном случае – это не имело для заключённых никакого значения: страдали от служебного рвения капитана только они, но и облегчить свою незавидную участь не имели никакой возможности. Слухи да пересуды для заключённого, что вошь на одежде: живут бок о бок. Так вот: поговаривали, что капитана побаивались не только зеки, даже сам начальник лагеря старался с ним не связываться. Неспроста, значит. Выстроившиеся зеки замерли.
– Ну что, предатели, дезертиры, враги народа и прочая блядская нечисть. Сегодняшний день – особый в жизни каждого из вас. Партия подарила вам очередной шанс искупить свою вину перед родиной, перед народом. Очень хочется надеяться, а точнее, мы уверены, что ударным трудом вы свою вину искупите и… перед партией, и перед народом.
Капитан выкрикивал слова хлёстко, с напором, с демонстративной напыщенностью, весь его вид излучал радость, а проникновенность его интонации должна была очерствелые аспидные души лагерников наполнить светлыми надеждами. Так, во всяком случае, представлялось Нед-байлюку. Он, наверное, предполагал, что его речь зеки слушают с чутким вниманием. Взял многозначительную паузу.
– Всё! Курорт закончился! – тон его резко изменился. – Отдых в такое трудное и тяжёлое время – непозволительная роскошь. Тем более для врагов народа. Старшина, приступайте.
Лагерное начальство отодвинулось от передней шеренги подальше. Закурили, наблюдая между разговорами за арестантами.
Скорохват неторопливо вытащил формуляры и начал с короткими паузами выкрикивать фамилии. В выстраиваемой колонне уже другой старшина при помощи краснопогонников* начинал обыскивать подошедшего заключённого. Между заключёнными незначительное смятение: впрочем, охранники не сразу обращают на это внимание.
– Слышь, Бек, – заговорил хриплым шёпотом молодой парень, воровато зыркая по сторонам глубоко посаженными тёмными глазами. – Ты же пел по дороге, что зона здесь тихая, без кипиша. И хозяин не зверствует!
К кому он обращался, стоя слева от Сашки Огородникова, не разобрать. Только из чрева людской колонны ухнул утробным звуком – ответ: но словами не понять, на морозе звуки ломаются, а смысл такой – «хорош шипеть, заранее не скули».
«И то верно», – подумалось Огородникову.
Начальник режима имел чутьё породистой ищейки: непонятным образом уловил брожение среди арестантов и мягкими движениями, словно рысь, двинулся к колонне. Шевеление среди заключённых резко прекратилось. Старшина тоже уловил неладное. Примолк, вглядываясь в серые пустые лица зеков. В водянистых глазах капитана колыхнулось настороженное подозрение. Он приблизился к передней шеренге, ткнул пальцем в одного из заключённых, который опрометчиво позволил себе что-то шёпотом сказать рядом стоящим. Сказал-то шёпотом, да слух у капитана оказался чутким, как у зверя: услышал или так догадался, кто его разберёт, но вычислил несчастного точно и потянулся к кобуре.
– Выйти из строя, три шага вперёд!
Заключённый оробел, встал, как вкопанный, вжал голову в плечи. Его вытолкал подскочивший надзиратель.
– У тебя какие-то вопросы? В чём-то не согласен с политикой партии? Или у кого-то есть собственное мнение на этот счёт? С-510! Фамилия? Статья? Срок?
– Почигрейда. Пятьдесят восьмая, пункт десять. Пятнадцать лет, – отчеканил осипшим голосом Почигрейда.
Начальник режима уже не глядел на заключённого.
– Когда вас с лица земли сотрём, уродов? Пять суток карцера, с выводом на работу. Старшина, продолжайте.
Сформировавшуюся первую группу под каркающее понуканье рыхлого возрастного старшины повели к дальнему бараку. Туда попал Мальцев. Огородников отыскал его глазами, кивнул, мол, держись! Даст бог, увидимся!
Мальцев сохранял внешнее спокойствие, словно брёл в булочную. Впереди колонны замельтешили двое десятников, в хвосте плёлся один, согнувшийся нескладной цаплей и всё норовивший докурить окурок, оставленный одним из товарищей. Кто-то за спиной Огородникова невольно со свистом втянул табачный запах и затем выдохнул так, словно скинул с плеч непосильную ношу. Кто-то невзначай вякнул про папироску.
– Разговорчики в строю, – напомнил о себе громко Скорохват.
Колонна приближалась к повороту. Никто уже не вспоминал то короткое волнение, привлёкшее внимание капитана Недбайлюка.
Огородников попал в последнюю, третью, группу. Мургалиев – во вторую.
Серое мглистое небо висло над лагерем, когда они уставшие, замёрзшие подходили к бараку, выстроенному в десятке метров от угловой вышки. От территории лагеря вышку отделял дощатый забор, за которым не видно, но все знают – запретная зона, шириной в три метра, огороженная проволокой с обеих сторон. На вышке двое охранников укутали лица в воротники тулупов так, что даже глаз не разглядеть, верно, тоже продрогли.
– Вот мы и дома, – обронил рядом идущий с Огородниковым зек. По голосу устало-скрипучему, по походке видно – зек из бывалых. Барак воспринимает как «дом». А что? Может, и станет этот дом последним пристанищем в бренном мире!
«Дом» встретил кладбищенской тишиной. На входе в замусоленной телогрейке стоял доходной старик – дневальный, с впалыми серыми щеками, выдающими медленное угасание жизни, и только глаза выражали ещё присутствие духа. В бараке никого: через маленькие окна просачивается в помещение слабый свет, холодно и тихо – как в могиле. Сами окна обнесены толстой металлической решёткой. Нары в два яруса; две печки – посередине и в торце не топились. Забежал местный «придурок»*, тот самый юркий хитроглазый татарчонок, и без лишнего шума, быстро выискал нужного ему человека. Им оказался зек из касты авторитетов. Перекинулись короткими фразами. Татарчонок уверенно повёл авторитета и ещё двоих, явно из блатных, в конец барака. Никто внимания на воров не обращал.
Заключённые разбрелись по бараку. Все заняты поиском свободного места на нарах. Для опытного арестанта отыскать такое место – задача несложная. Огородникову хотелось определиться рядом с фронтовиками, если таковые были, поэтому решил подождать. Он устало присел на краешек, как ему показалось, свободных нар: ни о чём думать не хотелось. Понемногу заключённые обвыкались в новом «доме», кое-где стали слышны разговоры. Дневальный затопил печь. Многие, в том числе Сашка-пулемётчик, подобрались ближе к печке, невольно вытягивая руки вперёд, как бы стараясь вобрать в себя как можно больше тепла. Прошло немного времени, когда в полной тишине за барачными стенами послышался нарастающий гул от топота нескольких сотен ног. Слышны громкие маты надзирателей: им не перечат, зеки думают об одном – быстрее добраться до нар. Знакомое чувство каждому заключённому на исходе рабочего дня. Наконец шум лавиной закатывается в сени, и вот в широко распахнутую дверь вваливаются первые заключённые. Их разглядеть невозможно: общая чёрная масса телогреек, узкий проход теснит людей, давятся, не уступают друг другу пространство между нарами. Громкое, словно прут быки, а не люди, сопение; кашель, неразборчивая ругань, редкие вскрики – всё течёт сплошным гулом. Огородникова несколько раз пихнули. Он, повинуясь действиям молчаливой, угрюмой толпы, невольно переместился в середину барака…
Вернувшиеся с работы, кто сноровисто, кто уж совсем тяжело, занимали обжитые места на нарах: изредка кто-нибудь ронял фразы, словно комья холодной земли сбрасывал с себя. В бараке стало тесно.
Рядом с Огородниковым уселся на нижний ярус вагонки заключённый: скудный отсвет лампочки едва освещал его измождённое лицо. Зек сидел в оцепенении, когда его застал вопрос Огородникова:
– Подскажи, фронтовики здесь есть?
Заключённый вскинул голову, не сразу сообразил, что обращаются к нему. Но ответить не успел. Справа вспыхнула ссора – делили место.
Новенький, видать, был из борзых и решил занять приглянувшееся место на нарах: перебранка в любую секунду грозила перейти в драку. Все оставались безучастными: на зоне только так, двое дерутся, третьему зрелище и хоть какое-никакое развлечение. Мужчина, к которому обратился Огородников, когда понял причину ссоры, тут же потерял интерес к сцепившимся и тусклым холодным голосом ответил:
– Вон, напротив, – и кивком головы указал направление. – Да иди смелее, не заблудишься, – донеслось в спину.
Пройти к тому месту оказалось невозможным; двое сцепились всерьёз. Зеки плотным кольцом обступили их – не пройти. Было видно, что оба рослые, неуступчивые, когда-то в плечах гуляла сила залихватская, у кого-то больше, у кого-то меньше. Они, как борцы, давили друг дружку, пытаясь дотянуться до горла. В бараке холодно, а со лба обоих катит пот градом. Из груди каждого вырывалось со свистом тяжёлое дыхание. Прибывший с этапа зек начинал сдавать. Он хоть и был моложе, и казался гибче, да вот в жилах и духом выходило, был пожиже.
Разозлившись уже до припадочного состояния, с перекошенным от бессильной злобы лицом, молодой на секунду смог податься назад, а отскочив, изловчился завести руку за спину и затем, не мешкая, в ту же секунду вдруг выдернул её вперёд. В руке у зека заиграла тонкая чёрная пика.
Толпа, подвластная инстинктам, отступила на полшага. Как умудрился урка, после стольких обысков, утаить от вездесущих лап надзирателей холодное оружие!?
Хищническая гримаса исказила бескровное лицо парня. Заключённый, что постарше, видимо, был готов к такому повороту поединка. Он отпрянул, схватил лавку, прислонённую к нарам, и одним рывком опустил её на голову молодого. Тот хоть и выставил руки над собой, и сжаться успел, да удар вышел сильный, а потому болезненный. Часть лавки косым углом зацепила голову. Молодой охнул, кое-кто из наблюдавших успел поймать его замутнённый взгляд: взгляд подраненного зверя, именно таким взглядом зверь прощается с миром. Заметил этот взгляд и Огородников. Его нисколько не удивило, что за всем происходящим заключённые наблюдали молча, а некоторые с озлобленным отчуждением. В лагере подобными разборками никого не удивишь.
Лоб и вся левая часть лица молодого зека обагрилась кровью, выглядел он ужасно. Неожиданно выступил вперёд, как бы прикрывая собой молодого товарища, другой заключённый, тоже из нового этапа. Вот здесь уже никаких сомнений не оставалось: урки хотели показать своё превосходство на новом месте. Заодно зарекомендовать себя перед признанными на зоне блатными, так сказать, без проволочек влиться в ряды «махровых»*.
– Ты чё, фраер*. а-а? Ты чё-ё, гнида порхатая? – негромко зашелестел тот толстыми искривлёнными губами, изогнувшись подобно змее перед броском. – Да я же тебя сейчас на куски покромсаю. на ремешки пущу, лопырёк гнойный.
В руке у него тоже появился нож – увесистый, явно ручной работы: тот, кто его делал, разбирался в холодном оружии. Он принял решительный вид и выставил немного вперёд руку с ножом. Между тем молодой урка отступил в сторону: кровь забрызгала лицо, он пошатывался, болезненно морщился, но при этом хитро подкрадывался сбоку, готовый в любое мгновение полоснуть воздух длинным шилом… И ткнёт ведь!..
Такой расклад для мужика, к которому с каждой секундой Огородников испытывал всё большую симпатию, становился явно опасным – зарежут…
Не осмысливая собственные действия, Огородников вышел в круг, как бы обозначая своё участие в драке. Урка в тёмном свитере расценил это по-своему, осклабился:
– А?!! так у нас тут семейные! друг за дружку впрягаются!
В глубине барака, где сидели блатные, возникло движение. Огородников только и успел подумать: «Если сейчас этого не свалю сразу, просто раздавят массой!..»
Однако в облегчение своё услышал совсем не воинствующий голос:
– Эй, каторжане, вы что там за толковище устроили да при честном народе?
В их сторону двигался вразвалочку, разгребая длинными худыми ручищами плотное кольцо зеков, местный блатарь. Расхлябанная походка выдавала кастовую принадлежность. Так ходят по зоне только урки. Все расступались безмолвно. Тонкая шея с остро выпирающим кадыком, покатые худые плечи, пугающая даже под телогрейкой телесная субтильность арестанта вызывали не просто подсознательное отторжение, вселяли исподний неконтролируемый страх. В довершение всего длинное тело имело большую гладковыбритую голову, сильно напоминающую голову рептилии. Увидев нож в руке этапника, он напрягся.
– У нас вообще-то сначала предъяву* кидают, а потом за ножи хватаются. Дай сюда.
Нож скользнул в широкую ладонь худого урки. Неожиданно его позвали:
– Череп, шо там происходит? Разобрался!? Если непонятки, тащи вакла-ка* сюды!
– Я такой же вор, как и ты, – негромко сказал урка с этапа, разглядывая почти в упор Черепа. – А за пику взялся потому, что ерепенистых не люблю. Объясниться могу на раз-два.
Череп плавно перевёл выпуклые глаза с финки на лица заключённых, потом на урку.
– Как кличут и откуда?
– Крюк! Сам уральский, перекинули с Ангарлага.
– А шо к нам не поканал* сразу?
– Пока порчаков* пригрел, тока разобрались, они ввалили.
Урки перекидывались фразами так, словно находились в бараке одни, некоторые покидали ряды любопытствующих, а что в гляделки играть: ворон ворону глаз не выклюет! Эти всегда между собой договорятся! Череп думал пару минут.
– Пошли, побазарим*. У нас есть свой красный уголок, – хохотнул отрывисто Череп. – А дружка твоего пусть перевяжут. И чтобы тут без кипиша всё было.
Они удалились к дальней стене барака – широкая ширма огородила их от любопытствующих глаз.
Парня с разбитой головой подхватили дружки с того же этапа, увели в тёмный угол барака. Толпа схлынула окончательно, о них совсем забыли, и оба перевели дух. Мужчина был чуть выше среднего роста, сорока-сорока пяти лет, с волевым резко сложенным лицом, серыми воспалёнными глазами.
Он устало смотрел на Огородникова:
– Я должен сказать спасибо? Вот говорю – спасибо! На зоне редкий случай, чтоб кто-нибудь вписался за тебя. Николишин Степан Степанович! Бугор четвёртой бригады!
– Огородников Сашка. Подскажи – фронтовики здесь есть?
Тут дежурный подал сигнал на построение. Сборы в столовую для заключённых – святое. Они выходили из барака в общем людском потоке.
– А ты что фронтовик? – в голосе Николишина проявилась серьёзная доля сомнения.
– Ну да. С сорок третьего до сорок пятого. В пехотной части. Демобилизован с Берлинской комендатуры.
Николишин вновь, с какой-то упрямой придирчивостью, ожёг недоверчивым взглядом фигуру Огородникова, посмотрел в лицо, в глаза – сомнения не стронулись в его душе:
– Не подумал бы. Я, вообще, как увидел тебя рядом, подумал – из них, только поавторитетнее, и за понятия встать решил. Фронтовик, значит. Есть у нас тут фронтовики. Опосля познакомлю.
Шеренги обрели стройность: сотни пар ног, обутые кто во что горазд, дружным топотом столкнули тишину в глухие задворки лагеря.
Глава 5
К вечерней поверке Огородников выяснил: фронтовики, в отличие от предыдущего лагпункта, в этом держались разрозненно. Очевидно, по причине того, что в основном здесь были окруженцы, успевшие в первый год войны побывать в немецком плену да потом либо сбежавшие, либо освобождённые. Ещё было много переметнувшихся на сторону немцев.
Так какие же это фронтовики? Огородников к таким относился понятно как – с презрением. Истинных фронтовиков, дошедших в рядах Красной Армии хотя бы до западных границ, а он себя считал настоящим фронтовиком, в их бараке оказалось двое: Семёнов и Сергеенко.
Семёнов, недавно разменявший шестой десяток, сидел за бытовое преступление. Как-то под майские праздники, у себя на родине, в соседней деревне пошумел чуток прилюдно да спьяну залез в торговый амбар – водки не хватило. Вот и припаяли хищение социалистической собственности. Впрочем, Семёнов Кирилл, или, как его все на зоне окликали, Кирилл Ки-риллыч, по этому поводу не расстраивался, если, вообще, эта сложная сентенция была знакома его характеру. Едва начав с ним разговор, Огородников понял всю сущность Семёнова: перезрелая дурковатая буйность кипятила весьма недалёкого немолодого человека; на умалишённого он, конечно, не походил, но что-то промелькивало в его внешности и в повадках от ненормального. С ним просто никто не хотел связываться.
Сергеенко, близкий по возрасту Огородникову, оказался инвалидом: левый глаз при артобстреле в сорок пятом году, на Одере, выбило осколком, обезобразив лицо практически до неузнаваемости. Одежда на нём была рваная, совсем непригодная для носки. С первых минут беседы с ним не оставалось сомнений: заключённый на грани нервного помешательства и уже не жилец. Огородников оставил его в покое.
Николишин нашёл-таки место для Огородникова на верхних нарах, недалеко от себя.
– Завтра переведу тебя в свою бригаду, – сказал совсем уставшим голосом Николишин. – Пдёшь? – непонятно откуда нашёл силы пошутить.
– Пду! – ответил ему в тон Сашка, залезая на нары и укладываясь удобнее на холодных жёстких досках.
Он закрыл глаза; всё поплыло в голове; тело, словно легло не на нары, а в лодку, закачало, забаюкало. В считанные минуты он провалился в глубокий сон. Он даже не видел, когда потух свет, и не слышал, как гудящий мол снизошёл до редких речей. Постепенно наступила тишина.
И лишь в дальнем конце барака стелился окутанный простуженным шёпотом рассказ прибывшего с этапа Лукьянова.
Уже давно барачная суета спеклась, и полотно арестантского покоя расползлось в темноте. Только в дальнем углу, огородившись разноцветным ветхим тряпьём, под утробный гул раскрасневшейся печки нарушали режим заключённые воровской масти.
Было их семеро: трое из этапа, среди них Степан Лукьянов, в возрасте больше подходящем для лёжки на печи, чем для мытарств по лагерным шконкам. Обращались к нему все не иначе как Лука, или Лукьян. Чувствовалось – авторитет у вора непоколебимый. Пришлые с ним – Циклоп и Бек. Обоим не больше тридцати, у каждого отличительная примета на лице, попробуй догадайся: из детства вынесенная или в разборках тюремных. У Циклопа бровь над левым глазом порвана, даже когда веки вздрагивают и смыкаются, всё одно – кажется, что застывшим глазом смотрит на тебя, душу наизнанку выворачивает. Бек – смуглый, чернявый, одним словом, -азиат, у него весь лоб в грубых рубцах.
Встретили их местные воры, как положено: на столе картошка, селёдка, аккуратно нарезанные ломтики сала. Напротив уважаемого гостя, Лукья-на, – высокий, скрюченный собственной нескладной долговязостью Ми-хась. Кличку получил, видимо, от фамилии. Фамилия у него Михайлов, только её мало кто знал в лагпункте. Михась тоже вор, и тоже имеющий весомый авторитет. Блатные сидели, прогоняя по кругу кружку с чифирем*, слушали внимательно неторопливый рассказ Лукьяна.
– Бамовские колонии прошерстят наглухо. Оставят одних политических да ссученных*. Нормальных людей вывезут. И сроку, как мне нашептал один баклан* из вертухаев* в крытке*, не позднее следующего года, всё чтоб чин чинарём было.
– Да эту парашу уже сколько раз нам совали, – нетерпеливо высказался вор по кличке Жмых. Воротник выцветшей серой рубашки распахнут, левая часть шеи забрызгана бесформенным тёмно-бордовым родимым пятном, несколько капель плавились на щеке, ничуть не делая лицо сидельца обезображенным или устрашающим. Скорее наоборот: тёмно-серые глаза подкупали выразительной уютной теплотой, располагали собеседника к благодушию и спокойствию. Мало кто знал, что за видимым благодушием таится коварная натура вора-убийцы.
Лукьян остался невозмутим и продолжил:
– Вдобавок, по слухам, с весны на наши лагеря начнут привозить ссученных. Целые бригады. Откуда-то с Приморья. Там, говорят, целый зверинец отошедших от понятий уркаганов развёлся.
– А с воровскими что? – спросил рядом сидящий Хмара – молодой вор из евреев. У Хмары субтильное тело; углистые глаза, ровный прямой нос с немного расширенными вздёрнутыми ноздрями, мягко сложенный подбородок. На такого взглянешь, верно, студент престижного заведения. Портфеля в руках не хватает. Однако, несмотря на двадцатидевятилетний возраст, Хмара уже был хорошо известен в воровских кругах. Во время войны его банда прославилась громкими грабежами в Подмосковье. Банда Хмары имела разветвлённую сеть наводчиков. Поговаривали, что всё было организовано через синагогу. Впрочем, поговаривали, что за те дела, что плелись вслед за бандой, синагога его же и сдала: сдала, повесив клеймо богоотступника и убийцы на него и всех его подельников. Сейчас он сидел тихий, елейный, с ученической скромностью потроша взглядом почти в упор Лукьяна.
«Сучья война» к тому году уже набрала обороты. Слухи, как и рассказы, были противоречивы, многое оставалось непонятным.
– Если после правилки вор не отказывается от своей масти, причём прилюдно, с покаяниями, его просто режут. Режут, как барана, – без иронии говорил Лукьян.
– Мне бакланили на другой командировке, что у ссученных даже ритуал есть на этот случай – нужно целовать нож и вслух произносить, дескать, не вор я больше, – неуверенно заметил Жмых.
– Да, братья, есть такая хиза*, – подтвердил Лукьян.
– А что, мы за себя что ли не постоим?! -ловя одобрительные взгляды солагерников, весомо заявил Михась.
– Я сюда отправлен с последней сходки из двадцать первого лагпункта, чтоб рассказать, как мастырят* ссученные дела свои тёмные. А мастырят дела свои с помощью хозяев да кумовьёв. Да ещё вертухаи на тюрьмах способствуют бесправию. В самом Тайшете на пересылках житья уже нет правильным ворам от ссученных. Вся власть, почитай, у них.
С полчаса Лукьян рассказывал подробности последних событий, творящихся по здешним лагерям. Все удручённо молчали.
– В общем-то расклад для гуталина верный. Сами друг друга режем. Им по любому хижняк* выходит. Запомните!! В открытую суки не идут на резню. Администрация с ними заодно. Подсабляют им справно. Идут только кодлой. Когда их в разы больше. Да спины прикрыты краснопо-гонниками, – закончил длинное повествование Лукьян, отхлёбывая чифирь.
– Во, волчье отродье, а! – заворочался какой-то внутренней болью старый Михась.
Зеки притихли. Многие подобное уже слышали от других.
– И что? Вот так и будем сидеть, как телок перед убоем?! – не затухал в распалившемся озлоблении Михась. – Ждать, когда придут и погладят по головке, чтоб отсечь её, да перо в бочину приставить?
– Ну почему же?! Для чего меня сюда кинули? Не дорогу же строить? Обмозгуем, прикинем – с какой горы легче камни кидать будет.
В глазах Лукьяна отразился огонёк свечи, словно в чёрной полынье полыхнула главная звезда Млечного Пути.
Глава 6
Скорый ужин заканчивался, не успев разогреть измождённые тела зеков даже запахами малосъедобной баланды. Огородников вяло дожёвывал кусок хлеба, который лелеял в дневных грёзах приберечь до отбоя, а ночью доесть с кипятком. Щепоткой чая обещал поделиться бригадир: днём он получил посылку из дома.
Перед глазами выросла тень: десятник смотрел на него, как на болезного, без жалости, без сочувствия:
– Держись возле меня. Вечером к тебе подойдёт один из блатных для серьёзного разговора. Выслушай его.
Всё оставшееся время Сашка-пулемётчик старался быть на глазах десятника, осознавая всю опасность ситуации. Причины для опасений были. Случившаяся стычка с Крюком почти три месяца назад не прошла для Сашки даром и, кажется, предопределила все дальнейшие события. Крюк не простил или не захотел простить Огородникову заступничество за бригадира: одно дело шкодливого молодого воришку скамейкой ударить, другое дело – встать на пути у него, честного вора, за которого на любой пересылке слово скажут. Крюк не дал повода усомниться в своей масти: ни во время этапа, ни в самом лагпункте. После стычки с бригадиром Николиши-ным воры пригласили Крюка для разговора. Разговор был обстоятельный, серьёзный. Михась слегка упрекнул в невыдержанности молодого уркага-на, и в тот же вечер при всей сходке попросил Крюка не злобствовать и повременить с решением. Не время сейчас бузить и вызывать недовольство «хозяина» зоны. И так слишком много проблем навалилось, ужесточив и без того нелёгкую жизнь «хороших» людей. Крюк, конечно, уважил мнение авторитетов, усмирил гордыню, но злобу затаил.
А Сашка сразу припомнил, как однажды на отсыпных работах увязался за ним шестёрка Крюка, тот молодой, что сцепился за место с Николи-шиным. Народу вокруг мельтешит, что вороньё над падалью – не счесть. А этот молодой урка всё норовил рядом оказаться. Понятно, с какой целью – под лопатку заточку вогнать. На лице уркагана все мысли написаны, и гадать не надо. Через какое-то время молодой, поняв всю тщетность своих попыток, улизнул, но холодок на сердце остался.
Вечером в бараке, перед самым отбоем, как и было обещано, к Сашке подошёл зек:
– Я – Хмара, может, слыхал?! Ну да ладно, услышишь! Завтра будут раскидывать людей по бригадам, если тебя предложат в бугры, не отказывайся. Дежурный по зоне в теме, подмогнёт.
На разводе следующего дня их действительно распределяли по новым бригадам. Сашку-пулемётчика зачислили в последнюю. Старшина, дежурный по лагерю, перечитывая в который раз формуляры, глянул быстро на шеренгу заключённых.
– Кого в бригадиры поставите? – обратился он к надзирателю. Угрюмый молчаливый увалень, то ли из белорусов, то ли из украинцев,
за долгое время несения службы практически всех знавший, вдруг растерялся. Развёл руками, часто захлопал белёсыми ресницами:
– Микола, пдёшь? – вдруг посмотрел он на земляка.
Тот, который Микола, не раздумывая согласился. Подпёрла, видимо, возможность харчеваться не с общего бригадирского стола. Бригаду повели из лагеря. Через неделю несчастного Миколу придавило сосной. Просто не доглядел бригадир, не успел отбежать, правда, кое-кто видел, что Микола за секунды до того, как крикнули «бойся», лежал уже с распоротым животом в снегу. Гибель «западенца»* для всех так и осталась в памяти случайной нелепостью, но не для Огородникова.
Между тем гляделки с Крюком и его дружками продолжались. Крюк неотступно мутил воду вокруг него. Глубокими знаниями Сашка-пулемётчик не блистал, но вот природной смекалкой природа-матушка не обделила. Он отчётливо понимал: рано или поздно развязка наступит. Топтать землю в тупом ожидании, когда тебя подкараулят и прирежут, словно барана, не в Сашкином характере. Но и лезть на рожон первым тоже нельзя.
Ожидание, вообще, удел не для слабонервных. Сашка-пулемётчик настроился терпеть, сколько понадобится, а если придётся схлестнуться с блатными, то отдать свою жизнь подороже. Чтоб не оплошать в судную минуту, ночами вспоминал приёмчики и захваты, которым его обучали ребята из полковой разведгруппы.
Как-то вечером, после отбоя, когда Сашка мысленно раскидывал подручных Крюка в жестокой драке, суетной десятник подошёл к нему:
– Пошли.
В огороженной каптёрке тепло и даже светло: две колымки* висят по углам. Самого Крюка нет. Михась в торце стола, слева Жмых, Хмара; Лукьян полулежал на нарах, в руках книга, вроде как и не в этих краях находится – читает. Улыбка блаженного гуляет на губах. В глубине каптёрки развалился Циклоп.
Жмых спросил сразу, придушив собственный голос до звенящей хрипоты:
– Мы вот что! В толк никак не можем разуметь. То ли у тебя с Крюком свои тёрки, то ли и вправду бакланить решил до конца. Всё никак угомониться не можешь. Вы что вчера на деляне устроили?!
Огородников не торопился с ответом. Вчера Крюк и его подручный отказались брать топоры и рубить сучья. Работу им определили – не бей лежачего, так они даже её отказались выполнять. Бригадир, понятное дело, отмолчался. Себе дороже: ночью перережут горло, и всё. А бригада в результате осталась в штрафниках: без дополнительной пайки хлеба. Сашка-пулемётчик не лез в эти дела долго, пока просто не прорвало. Что сейчас говорить? Оправдываться? Перед кем? Очевидно, воры уловили настроение заключённого, не торопились с решением. Откровенного сочувствия не проявляли, а вот понимание всей сложности возникшей ситуации назревало. Так показалось Огородникову. А может, просто показалось? Может, просто раскидывают свою мазу*? Кто их разберёт?!
– Присаживайся, – тёплым отеческим голосом приглашает Михась. -Торопиться нам некуда. Чайку пей, – спокойно предложил Михась.
Сашка-пулемётчик дважды приглашения не ждёт: присел на краешек скамейки. Чай оказался на редкость душистым: откуда ему было знать, что обещанный бригадиром чай ещё в обед уплыл на стол уркаганов.
– Бригадир никак не может договориться с нормировщиком, – заговорил Огородников, чуть не задохнувшись от давно забытого аромата. – Отсюда и проблем много.
– Но мы же не будем решать ваши проблемы, – заметил Жмых, неприязненно поглядывая на Огородникова.
– У нас же как? Бригадир должен всё решать с нормировщиками, чтоб план приписывали, а для этого подмазать чем-нибудь надо, теми же харчами с воли задобрить. А где их взять – харчи? Небось, знамо, по нашим-то статьям никаких посылок нельзя!
– А почему бы тебе не стать бригадиром? В прошлый раз с одним придурком непонятка вышла, бывает. Вот щас можно всё обговорить, – неожиданно сказал Михась, с прищуром рассматривая Огородникова, словно приценивался. В блёкло-синих глазах Михася отражается лампадный отблеск.
«Тут что-то не то, – быстро соображал Сашка. – Что им от смены бригадирства? Попа на дьяка не меняют. В прошлый раз не получилось, так опять за своё. Что же им нужно? Наверняка, подвох какой-то!»
Сашка-пулемётчик состроил задумчивую гримасу, почувствовав на себе пристальные взгляды воров. Сердце учащённо забилось: такое с ним всегда случалось в минуты сильной опасности.
– Что молчишь-то? Тяжела ноша или не по тебе? – наседал Михась, не сводя с него взгляда.
– Надо сначала в бригаде всё обсудить. У нас так принято, – с трудом сохраняя спокойствие, сказал Сашка-пулемётчик.
– Вот членоплёты, – криво усмехнулся Циклоп, расплетая в тонких синих от наколок пальцах колоду карт. – Всё у них не как у людей. Сперва говно нюхают, а потом обосравшегося ищут. Коммуняки они и есть коммуняки.
– Да и какой из меня бригадир, – спокойно рассудил Сашка-пулемётчик, не обращая внимания на реплику Циклопа. – Шесть классов по коридорам. Авторитета – кот нассал, да и опять, чем придурню греть. Забирать у мужиков посылки, как в первом бараке, – не буду. Это не по нашей части.
– Да ты никак идейный, – ёрничая спросил Хмара, до того сидевший в самом углу со скучающим видом.
– Идеи тут ни при чём! Есть же правило: в отказники на разводе, а если вышел с бригадой будь добр, как все. Правила-то общие, как мне помнится. И с вами обговорённые.
Зеки переглянулись. В опустившейся тишине только слышен гул в печи. Дышится умиротворённостью: не в лагере словно коротают вечер, а на какой-нибудь охотничьей заимке, после тяжёлого отстрела волков. Кстати, о волках… Верно говорят: с волками жить…
– Ты что ли эти правила писал? – негромко спросил Михась, недобро ощерившись. – Сельсоветом попахивает наш разговор. Много ненужных слов говоришь. Люди ведь устать могут от правды твоей, – под «людьми» вор, очевидно, понимал только тех, кто сидел рядом с ним.
Огородников почувствовал: самое время уходить, поднялся.
– Ладно: решайте. Завтра к вечеру скажете, что там набалаболили, -Михась уже думал о чём-то своём.
Неожиданно Лукьян оторвался от книги, посмотрел мягкими карими глазами на заключённого:
– Давай так, пулемётчик, – «пулемётчик» выделил особенно. – Фронтовые подвиги здесь не канают. Мы не на войне, и здесь тебе не фронт. Запомни одно: без бригадирства больше за тебя мазу на сходке перед Крюком тянуть никто не будет. Время обмозговать наше предложение ммм… до… завтра… Если – да, шепнёшь кому надо.
Слова эти, произнесённые негромко, но отчётливо, прозвучали, как приговор.
Глава 7
От бригадирства на зоне проблем больше, чем привилегий. Любому арестанту это известно. А уж сколько недюжинной выдержки нужно иметь, змеиной вёрткости да ума, чтоб выжить бригадиром, одному богу известно! То ли дело быть в обслуге лагерной, «придурком» иначе говоря. Огородников понимал: в обслугу не возьмут никогда, и дело не в том негласном распоряжении, что по пятьдесят восьмой на лагерные должности категорически не берут – чушь всё это, а в том, что сам он никогда не согласится на роль административного «помазанника», это не в его характере. Понимал и то, что откажи он ворам сегодня, уже вечером с ним люди Крюка разделаются. Отказаться от предложения воров – подписать себе приговор. Перед утренним разводом Сашка отыскал Николишина, рассказал всё, утаивать ничего не стал, заострил внимание на угрозах расправы. Николишин, нервно дёргая всем лицом, слушал не перебивая.
– А сам что думаешь? К чему им такой переплёт? – спросил бригадир. Сашка-пулемётчик пожал плечами.
– Думаю, когда поводок укоротится, тогда и узнаю.
– Тогда и поздно будет.
– А выходит, торопиться сейчас мне только в одну сторону, – и Огородников кивнул на высокий забор, за которым пряталось местное кладбище.
В лагерях покойников хоронили без подобающих такому случаю церемоний, как правило, в тот же день, после заключения местного врача, просто закапывали в землю с биркой на левой ноге. Никаких крестов, оградок, холмиков; ровная земля, одичавшая от полыни.
На следующий день, после развода, всё выглядело так. Дежурный старшина Стаднюк выкрикнул тринадцать фамилий, Огородников – среди них: определили бригаду на восьмой участок, где деляна в трёх километрах от лагеря. Пятнадцать минут ходу. Вроде повезло. Стаднюк взглядом упёрся в Сашку:
– С-512 – за бригадира!! Обед подвезут по расписанию. Вопросы есть?
Повисла пауза. Номер «512» принадлежал Огородникову. Затянувшимся молчанием Огородников расчерчивал на две половины свою судьбу: одну он уже прожил, вторая только начиналась.
– Вопросов нет! Вот и ладненько. На пре-е-во!
Поворачиваясь, Огородников вскользь зацепил взгляд Циклопа: каким-то неуловимым движением бровей дал понять блатному – видишь, я в бригадирах.
Вышли за территорию зоны без привычной слуху молитвы, что уже показалось Огородникову странным. Гуськом, в два ряда побрели по центральной дороге: три конвойных краснопогонника, вооружённые автоматами, один с овчаркой. Начкар – лейтенант, лицо знакомое, молодой совсем, в лагере только-только появился, к нему ещё не привыкли. Видно, как робеет в неожиданных ситуациях, посматривает на старшего конвоира, как бы спрашивая совета. За спиной Огородникова паровозом дышит Жмых: голову склонил по-бычьи, по лицу видно, о чём-то беспокойно размышляет. Рядом вышагивает тоже блатной, имя которого Сашка-пулемётчик не помнил. Кажется, его кличут Циклоп!
Вскоре вышли к деляне. Их нагнал на подводе нормировщик – Бычков-ский, из вольнонаёмных, с инструментом. Кряжистый степенный мужик, года два назад отмотавший срок, поражённый в правах, оттого решивший не возвращаться на материк и доживать свой век на поселении.
– Кто бригадир? Идём, всё обскажу. Чуть поднялись в гору.
– Валите только сосну, вот по этой гряде. Комлями в энту сторону, в аккурат будут ложиться под штабели к подводе. И смотрите не откатывайте в низовье. Кобылу мою видел!? Шобы легше ей было – не валите вниз. Иначе горбом будете вытаскивать к централу. Швырки будете складывать здесь. На энтом месте, они мешать трелёвке не будут. Сюда всё скатывайте. Лично проверять буду, – вяло грозился нормировщик: кобылу пожалел, человека не обязательно. Он немного покружил по деляне, всё подсказывая осипшим голосом, как удобнее и ловчее валить лес. Потом засуетился обратно. – Обед подвезу к трём часам. И смотри мне, голова с ушами, без присядки шоб работалось.
Огородников осмотрелся. Зеки к тому времени сами разбились попарно, урки также определили себе фронт работы: утаптывали снег у корней деревьев. Что ж, подумалось новоявленному бригадиру, все при работе. Сговорчивость урок пока особенно не настораживала Огородникова.
Его больше занимали мысли об отчётности работы и заполнение табелей в ППЧ*. Новая должность требовала новых знаний. Их у Сашки-пулемётчика не было. Это пока пугало больше всего.
С этого вечера Крюк больше не напоминал о себе. Воры своё слово сдержали. Надолго ли?
В один из дней, только закончилась вечерняя поверка – в барак впихнули с полтора десятка зеков. Среди них Мальцев. Огородников, как его увидел, – обомлел. Просто не верилось. Дальше разговаривали и вели себя, как старые приятели.
– Нас, во втором бараке, всего четверо, – Мальцев имел в виду фронтовиков. – Они, если по совести, Саня, живут там каждый сам по себе. У одного, Лом его погоняло, есть авторитет, у остальных пшик. Они даже в бригадиры не лезут. Вообще, там стаями держатся, но верховодят всем блатные. Здесь у вас, слышал, они спокойные, по-людски с вами обходятся, у нас же и прирезать могут любого, кто заартачится.
– Вас-то с какого перепугу сюда перекинули?
– Сказали, мест для нового этапа не хватает. В десяти километрах ещё один лагпункт ставится. Пока не достроят, у нас, видимо, какая-то часть перекантуется.
Мальцев между тем постоянно вертел головой, словно искал кого-то. Огородников заметил это, но не придал значения.
– У вас тут спокойно, – разомлевшим тоном сказал Мальцев. – Меня, по-моему, в третью бригаду закинули.
– К Николишину? Свой мужик. Кстати, капитаном в окружение попал в начале войны. Сам понимаешь – четвертной припаяли, как изменнику.
Они направились к нарам, где располагалась бригада Николишина. В бараке полумрак, приходится приглядываться. Большинство уже заняли нары. Гомон постепенно утихал. Николишин, похоже, чувствовал себя неважно. Как-то вяло выслушал историю заключённого, которую сбивчиво поведал Огородников, и, никак не выдавая своего отношения, посоветовал дождаться утра. Как говорится, утро вечера мудренее.
– Мне, вообще, без разницы. В мою бригаду определят – так в мою. Главное, чтоб на довольствие с утра поставили.
Равнодушие Николишина ничуть не покоробило Огородникова. Понятное дело, если б не знал Мальцева, точно так же никакого участия в судьбе лагерника не принимал бы. Но они были уже не чужими друг
другу.
Мальцеву нашли место на нижних нарах, почти у входа. Там всегда было немного свободнее, из-за близости сеней, откуда постоянно тянуло холодом. Оба были уверены, что в ближайшие дни найдут место комфортнее.
Усталость брала своё. Тело ныло от перенапряжения. Тем более Ого-родникова начали беспокоить набиравшие сырость валенки. Надо скорее найти лазейку у печи, поставить их сушиться и быстро заснуть. Пока ещё печка, что в нескольких метрах от его лежанки, протапливается дежурным и отдаёт тепло. От самой мысли о том, что печка топится, уже становилось теплее на душе.
Когда улеглись, Огородников задумался о превратностях судьбы. Вспомнился рассказ Мальцева о его мытарствах в конце войны. Где-то в Восточной Пруссии. Его пехотная часть прорвала немецкую оборону и углубилась к ним в тыл. В результате попали в окружение, почти на двое суток, но выдюжили. Свои части достаточно быстро освободили. Три месяца потом держали под арестом и судили, как перебежчика. Слушая сбивчивый рассказ Мальцева, Сашка удивился: как в конце войны в Польше умудрились затаиться крупные группировки немецких войск? Впрочем, в ту пору такая неразбериха в войсках творилась, всякое могло случиться.
Сашка наконец уснул.
Глава 8
Январские морозы лютовали. Синее, бесконечно прозрачное небо тонуло в морозной дымке. Кирпичного цвета солнце плавало в этом безжизненном мареве, расползалось кровавыми разводами по всему горизонту, распекалось до полного истощения и умирало с наступлением сумерек. Сумерки, как и морозы, имели власть над здешними местами, безоговорочную и жестокую.
Светало около десяти часов, как-то вяло и нехотя. Именно с восходом солнца мороз становился особенно ядрёным.
Самые невыносимые тяжёлые часы в лагере – утренние, когда идёт развод. И обидно, что в утреннее время ни в конторе, ни в ППЧ особо не задержишься: всунули разнарядку, подпись поставил под табелями, и бегом на плац – к своей бригаде.
Совсем другое дело вечером: тесные кабинеты ППЧ заполнялись людьми – бригадиры, нормировщики, десятники, все вдруг начинают видеть важность только своей работы. Расконвоированных и вольнонаёмных принимали в первую очередь, чтоб вывести их за территорию лагеря как можно раньше. Поэтому начиналась давка. Не шумная, не навозная, больше напоминающая обстановку в хозяйственном отделе сельсовета. Здание протоплено, кругом порядок, чистота, в кабинетах окна, исписанные инистыми кружевами, занавески. Здесь текла жизнь совсем другая, не лагерная, и любому заключённому, кто сейчас парится на нарах в холодном бараке, никогда не представится, что вот так, в каких-то ста шагах от него, есть другая жизнь. Поэтому бригадиры шумели больше для видимости: все старались задержаться в тёплых кабинетах до столовой. Сашка тоже никуда не торопился. Со временем ему здесь начинало нравиться всё больше и больше. Сдав табеля счетоводу, присел в коридоре, почти у печки. Сделал скучающий вид и сразу стал походить на человека, покорно дожидающегося своей очереди: сидел и млел от покоя, от печного тепла. Появился Николишин, с мороза красный, продрогший.
– Что так поздно?
Николишин вяло отмахнулся. Ничего не сказав, сунулся было в дверь, но увидев, сколько там народу, вернулся, присел рядом. В последнее время им редко выпадала возможность спокойно пообщаться; хоть и жили в одном бараке, вроде как барахтались в одном океане, а выходило, что каждый барахтался в своём круговороте.
– У тебя как, спокойно в бригаде? – негромко спросил Николишин. Сашка-пулемётчик пожал плечами:
– Вроде спокойно.
А сам насторожился: если спрашивает, видать и впрямь, что-то серьёзное в его бригаде происходит. Сашка вопросительно посмотрел на товарища, как бы подсказывая – готов выслушать! Николишин склонил голову:
– Мне тут с нового этапа такие страсти про блатных рассказывают, что… Кстати, твой Мальцев иногда особенно старается. Между ворами такой разлад идёт: в общем, пока не изведут друг дружку, на зоне спокойной жизни не будет.
– Так это только их и касается, – недоверчиво отозвался Сашка. Николишин усмехнулся:
– Ну да, слышали мы про такое! Чтоб осколки летели и тебя не задели. Сашка не хотел углубляться в эту не совсем ещё понятную ему тему. Относительно себя тревоги он не чувствовал.
Николишин вновь спросил:
– Ты за Мальцевым ничего подозрительного не замечал? Недавно его опять по оперчасти вызывали. Сказал, якобы по старому делу, да что-то мне не очень верится. – Немного помолчав, с решительной определённостью добавил: – Сытый он. по глазам его и по повадкам вижу, что сытый, а откуда – понять не могу. Стараюсь проследить, да времени не всегда хватает.
– А ты спроси у него! Глядишь, и разъяснится всё.
Николишин осуждающе посмотрел на Сашку, дескать, нашёл время шутить. Помолчал немного:
– Придёт время, спросим, за всё спросим, и со всех!
Глава 9
Прошла неделя.
К бригадирству Огородников привыкал с трудом. Вроде бы ничего сложного: разнорядки заполняли десятники, нормировщики разносили сметы, многие цифры, что фиксировались в учётных записях, брались практически без его отчётов. Огородников вовремя сообразил: вписывать нужно то, что надиктовывают в ППЧ. Он и раньше догадывался, что цифры берутся «с потолка», все без зазрения гонят «туфту», но что в таких масштабах… Да и чёрт с ними: своя рука владыка. Лишь бы в его бригаде всё было спокойно и чинно. Сашка боялся оплошать, поэтому ко всем вопросам подходил обстоятельно, без нарочитой суеты и самонадеянности, часто советовался с солагерниками, особенно с теми, кто отсидел не менее десятка лет. Таких немного, но были. Они охотно подсказывали что да как, часто выручал Николишин, до остального додумывался сам. Осторожность и внимательность новоиспечённого бригадира импонировала многим. Он и не заметил, как стал привыкать к новому статусу. Чувство уверенности постепенно возвращало его в привычную колею, нервное состояние распряг до такой рыхлой беззаботности, которая ранее была присуща его весёлому беспечному нраву.
А потом Огородников вдруг услышал приближение весны. Молодой организм запросил воздуха, другого воздуха – свободного.
Заканчивался второй год заключения Сашки, и именно в уходящую зиму он всё реже задумывался о естественных мирских делах, всё реже вспоминал ту жизнь, что познал к тридцати годам. Он, словно колодец без воды, с каждым месяцем в неволе иссыхал. Вскоре та жизнь, за колючей проволокой, стала казаться несуществующей, нереальной. Наверное, такое случается с каждым, кто попадает на зону. И вдруг в нём проснулось ощущение жизни. Сразу вспомнилась весна сорок пятого года. Берлин, рваная тишина военной ночи. Товарищи в окопах, табачный дым, басистый говорок ротного, унылая канонада дальних батарей, и никому не интересно – свои колошматят или фрицы. Только и разговоров среди солдат: возьмут Рейхстаг к первому мая или припозднятся. В руках ППШ*: холодный металл приятно обжигает ладони. Огородников чертыхнулся, чувствуя, как перехватило дыхание и. проснулся.
Сразу расслышал кашель в глубине барака. Справа, на нижних нарах, мужики дымили жутко чадящими самокрутками. Они о чём-то вели неспешный разговор. Ладони Огородникова слегка свело от холода: во сне выпростал руки из-под бушлата, поэтому и замёрзли. Несколько секунд сон безоблачным видением витал над вспыхнувшим сознанием и постепенно, как уголёк в костре, затух.
Сашка, раздосадованный, перевернулся на другой бок, в надежде, что усталость своё возьмёт, и почти сразу провалится в новые грёзы. Мужики, что курили, вдруг стихли. Резко, словно по команде, залаяли собаки, донеслись окрики конвойных: такое бывает, когда к лагерю подводят новый этап. За неделю уже второй: не многовато ли для лагерного пункта, рассчитанного максимум на тысячу сидельцев?
Сегодня на вечерней поверке мужики из третьего барака сказывали: за их лагпунком, в двух километрах ниже, ещё две «хаты» наспех ставят. По утрам, когда идёшь на деляну, с возвышенных мест дороги, сквозь просеки в голубоватом мареве отчётливо видны очертания новых строений. Судя по внешним признакам, такие же могильники для заключённых. Уже несколько суток зона жила слухами: вот-вот отсюда начнут сколачивать этап. А куда? На Колыму? Может, в другие места по трассе БАМа! На Колыму попасть – означало живьём лечь в деревянный бушлат. Многие предпочитали на материке покалечиться, чем попасть на колымские этапы.
В застылом воздухе Сашка легко уловил движение, вскинул голову. Курящие – Сашка не мог разглядеть, кто это – поднялись бесшумно и растворились в темноте барака, как и самосадный дым после них. Из темноты выплыл силуэт. Двигался побратим воровской ночи бесшумно. Он не думал, что Огородников вычислил его приближение. Увидев, что Сашка вскинул голову, силуэт отпрянул назад.
– Тихо ты, – упреждая рывок, зашептал подкравшийся зек и одновременно вскинул руки вверх, жестом крича: – Спокойно!
Это был Жмых! Его голова замерла почти вровень с верхними нарами, в темноте, как у зверя, сверкали глаза.
– Тихо, не шуми. Давай за мной. Обкашлять одно дельце надо! Сашка-пулемётчик выказал необычайную холодную сдержанность,
чем невольно вызвал симпатию у вора. Подражая бесшумному движению Жмыха, он двинулся за ним.
В каптёрке находились Михась и Лукьян. Сумрачные лица обоих повязаны тяжёлыми думами. Свет одной колымки набрасывает тени, ломает, уродует и без того грубые очертания старых зеков, всё чудится, что они кривят рты в немыслимых гримасах.
– Чифирни, – предложил Жмых, а взглядом указал – присаживайся. Они спокойно наблюдали за тем, пока гость втянет пару дурманных глотков.
Огородников хлебнул, переборол разом нахлынувшую тошноту, вопросительно посмотрел на воров. Спросил Лукьян:
– Слышал, новый этап пришёл? Через пару дней ещё один. А к чему такой расклад, не знаешь? Вот и мы не знаем.
Лукьян говорил ему таким вкрадчиво-доверительным тоном, будто подбивал на какое-то лихое дело, будто видел в нём, простом сидельце, напарника.
– Уже точно известно, на неделе начнут многих отсюда этапировать на Колыму.
Огородникова это известие не оглушило. О чём-то подобном шептались многие и причём давненько. Вообще-то, Сашка-пулемётчик обратил внимание: всё, о чём предупреждали или намекали воры, спустя время сбывалось. В случайные совпадения, разумеется, не верил. Конечно, подозревал, откуда стекалась в уши законников нужная им информация. Но удивляла скорость и точность, с какой лагерные придурки сливали всё, что происходило в кабинетах администрации. Несколько дней назад дошло до смешного: Сашку предупредили воры – завтра на развод выйдут с нового этапа суки, предложат начальству за усиленную пайку хлеба выдать план по заготовке древесины выше обычного. Только дайте сколотить самим ударную бригаду. Хмара так и сказал им, Николишину и Огородникову: «Не вздумайте впутаться в блудняк с суками. И своим намекните, чтоб не рвали глотки».
На разводе всё так и произошло: бригаду набрали быстро, из западных украинцев, прибалтов да двух харбинских, что под грозные выкрики ускоглазых земляков откололись от своей стаи. Расчёт лагерного начальства был прост: вечером того же дня ударная бригада, возглавляемая суками, на зависть другим зекам ела двойные порции чёрного хлеба да баланду, судя по давно забытому запаху, что стоял ещё некоторое время в столовой, приправленную каким-никаким мясом. Между заключёнными пошёл раздрай. Тихая умиротворённая жизнь в лагере, к которой попривыкли обитатели, вдруг оскалилась холодными заточками да ножами. Многие понимали: в лагере тишина кажущаяся, скоро ей придёт конец. Ссученных останавливало то, что их было меньше: без значительного перевеса они не осмелятся устанавливать свои правила. Табунились ссученные в первом бараке, пока вели себя тихо: частенько к ним стал заглядывать начальник режима Недбайлюк. Воры уже знали – их там не больше двух десятков. Разумней, конечно, устроить кипиш, ворваться в барак, перерезать всех, пока есть возможность. Буза, конечно, поднимется серьёзная, поскольку ссученные находились в бараке, расположенном прямо под вышкой – втихаря не подобраться. Кровопролития не избежать. Все понимали: с каждым новым этапом власть на зоне может перевернуться. Напряжение только росло, и никто не загадывал, каким будет завтрашнее утро. И вообще, будет ли оно? Не потому ли тихим голосом плёл паутину вокруг Огородников старый вор, нашёптывая, как заклинание, веру в дружбу и соучастие к судьбам сидельцев. Глядя в непроницаемые лица блатарей, в бесцветные глаза Лукьяна, давно расплескавшие васильковую свежесть, Сашка-пулемётчик невольно задавался вопросом: а к чему это Лукьян озаботился судьбами солагерников? Ведь что-то же стоит за этими, казалось бы, пустыми, ничего не значащими разговорами.
В эти неспокойные дни чутьё Сашки обострилось донельзя. Он это не осознавал, он это чувствовал в себе.
– А что нам, двум смертям не бывать. А такую жизнь и врагу не пожелаешь, – сказал Сашка, делая вид, что не особо расстроен. – На Колыму, так на Колыму. Слышал, там тоже люди живут.
Лукьян как-то по-домашнему, словно находился у себя дома, на кухне, уселся напротив Сашки: достал шмат сала, расщепил тонким ножиком на несколько кусочков. В руке неожиданно заиграла золотистым цветом луковица. Самая обыкновенная луковица: Сашка растерялся. Запах ударил в ноздри.
– Присоединяйся, – по-свойски пригласил вор. – Значит, завтра, как ты уже понял, у тебя пополнение. Выйдет на работу Михась, уважаемый тобою человек. Впрочем, не только тобою.
«Вот старый хрен. Дипломат шелкопрядный! Поймал и даже глазом не моргнул», – подумал с набитым ртом Сашка-пулемётчик, но вслух сказал:
– За сало, конечно, особое спасибо, только как это вы себе представляете: законник и у меня в строю! Да и дежурный по лагерю заподозрит неладное.
До этого старый вор Михась отсиживался в помощниках банщика, причём редко выходя из банной каптёрки во двор.
– Давай так договоримся, херой с уцелевшей башкой! Мы ничего не рассказываем, ты ничего не спрашиваешь. Что до Михася – так что не видно? заблажил старик! Новую жизнь решил начать. Осознал, так сказать, своё тлетворное существование, время пришло встать на путь праведный.
Все посмотрели на Михася. С его лика, в эту минуту такого пронзительно-печального и проникновенного, и впрямь можно икону писать! Послышался тяжёлый вздох. Вздыхал не Михась, кто-то в глубине огороженной каптёрки. Каждому удалось прочувствовать меру собственных грехов.
Сашка от неожиданно вкусной еды захмелел. Думать ни о чём не мог. Нестерпимо потянуло в сон. Поэтому лень было хоть как-то реагировать на известие, что завтра Михась вместе со всеми после развода выйдет на деляну. Неслыханное, конечно, дело. Насчёт перевоспитания, это они пусть воронам рассказывают.
Лукьян всегда своеобразно манерничал в разговоре: и многие попадались на степенную учтивость и стариковскую вежливость законника, иной раз совсем забывая, кто перед ними сидит. Именно этого ждал вор: ждал, когда распахнёт уставшую надрывную душу каторжанин в надежде, что вот сейчас будет услышан и понят авторитетными людьми и какое-то его деяние останется безнаказанным. Одного не понимал каторжанин: его судьба мало волновала законника, понятие справедливости для любого вора – понятие относительное. Это в баснях да в присказках, какими богат уголовный мир, всё у воров овеяно благородством и совестью. У вора одна задача – выжить. Причём выжить с наибольшей выгодой. Чем больше выгоды, тем выше авторитет. Не каждому дано видеть и зреть сложные ориентиры в воровской сентенции. Даже матёрым уголовникам. Не все из них оставляют памятливый след в воровском мире. Сашка почти угодил в такую ловушку.
– А как вы завтра выставите пахана в строй, если надзиратель выводит бригаду строго по спискам?
– За это не переживай! Не твоя забота, херой. Твоя забота снабдить работёнкой под стать его положению. На посошок, бригадир, один вопро
сик! Откуда знаешь морячка. Мальцев его фамилия?
Сашка насторожился: что-то часто стали им интересоваться в последнее время.
– На этапе познакомились. в корешах не ходим, но руки при встрече жмём. кричит, что воевал, не знаю.
Сашка и впрямь, после недавней встречи с Мальцевым, почувствовал к нему недоверие; вспомнились слова Николишина, мол, какой-то сытый ходит Мальцев и чересчур уверенный в завтрашнем дне. Николишин не врал: облик Мальцева, помимо уверенности, расточал что-то ещё неопределённо ускользающее, а что именно, при беглой встрече не поддавалось определению.
– Ну ладно, херой! Утро вечера мудренее!
Огородников выходил из каптёрки нетвёрдой походкой. Во рту ещё хранился привкус лука, сытый желудок торопил к нарам. Однако, растянувшись на жёстких досках и смежив глаза, Сашка забыл о сне: тревожное чувство накрепко заарканило душу. Он пытался разгадать неведомое и непонятное ему: что же задумали воры. Кажется, смутная догадка осенила его. Хотя, нет. Старые воры не бегут из лагеря. На то они и старые, чтобы пользоваться положением, на которое горбатились всю жизнь.
Чувство тревоги не оставляло его даже во сне.
***
Оставшихся в каптёрке Лукьян обвёл многозначительным взглядом:
– Жмых, найди завтра всех, кто из Азова и кто знает мореманские замашки.
– Угу, найдём, – размышляя ответил Жмых.
Огородников провёл с ворами, может, около часа. В спящем бараке то там, то здесь раздавались сонные вскрики, где-то начинался храп, который тут же прерывался окриком пробудившегося соседа, изредка можно было услышать сонливое бормотание. И не понять – во сне человек разговаривает или наяву. Ночь, наверное, единственное время суток, когда зек мог хоть на короткое время забыть о жестокой реальности, окружающей его.
Как только Огородников со Жмыхом исчезли за ширмой, приподнялся Мальцев. Он несколько минут прислушивался, всматриваясь в темноту, очевидно, размышлял: что предпринять дальше – следовать за ними или оставаться на нарах. Выбрал последнее. И то верно: могли и подловить, а там не отбрехаться, как в прошлый раз. Как-то воры – Жмых и Череп стояли у дровяника и что-то тихо обсуждали, у обоих лица напряжённые, задумчивые, верно, какое-то серьёзное дело обсуждали. Проходящий недалеко Мальцев сделал равнодушный вид, прошагал спокойно за угол бани, а сам тут же, мышью, хотел подкрасться к углу дровяника и подслушать. И почти когда манёвр удался, послышались приближающиеся шаги. Мальцев сделал вид, что пристроился по малой нужде. Вышедшие зеки, Жмых и Череп, удивлённо посмотрели на Мальцева, ещё более удивлённо переглянулись, но ничего не сказали. Правда, вечером Жмых его прищучил у столовки, спросил, пронизывая тёмными глазами, что он делал у бани? Подслушивал?
Мальцев побелел лицом, но нашёлся что сказать:
– Ты что, Жмых?! Нужду справлял! Сам же видел!
Блатной угрожающе посмотрел в побелевшее лицо морячка, сплюнул и отпустил. Повезло тогда Мальцеву, сейчас же такого фарта могло и не быть. Мальцев лежал на нарах и прислушивался.
Дожидаться появления Сашки-пулемётчика вот так, на нарах, было невыносимо. Постоянно тянуло в сон. Вскоре это перетекло в мучения. Барак спал. Мальцев подумывал было встать да сходить до параши, но побоялся, что тепло, которое с таким трудом удалось нагнать под прохудившимся одеялом, потом до побудки не вернуть. Так и лежал, вслушиваясь в тишину. Незаметно уснул, будучи уверенный, что за ним никто не наблюдает. Он ошибался: из противоположного угла всё это время с него не сводили глаз. Когда Мальцев зашевелился, холодная сталь заточки обожгла ладонь притворно уснувшего вора. Если б Мальцев встал, его бы зарезали.
В углу вор так и не сомкнул глаз, ни на секунду не отвлекаясь от спящего Мальцева. У вора была возможность выспаться днём. И он – Хма-ра – с нетерпением ждал наступления утра.
Глава 10
На зоне вчерашнее утро ничем не отличается от сегодняшнего: все они одинаковы, как две дождевые капли. Как и дни – безлико и уныло тянущиеся серым истоптанным сатином. И ничто не должно нарушать установившийся порядок.
Короткий, но такой всепоглощающий звон металлической трубы о рельс пронзительно врывается в спящее сознание. Заключённый, как бы ни был глубок его сон, от этого звона просыпается мгновенно. Все остальные звуки, что рождаются вокруг него во время сна, остаются полыми.
Только проснулся, открыл глаза – и всё! Жуткие признаки бытия мгновенно вонзаются в пробудившееся сознание, а в ушах плывёт и замирает подрагивающий перезвон металла. Шесть часов утра. В бараке холодно… Бескровный свет исходит от одной лампочки; в углах подслеповатая темень, ничего не разглядеть, одни силуэты.
Первые минуты после пробуждения в бараке особенно тяжелы: нужно бороться не только с остатками сна, но ещё и с холодом, с голодом, с непрекращающимися телесными неудобствами, с приглушёнными ворчаниями, охами, вздохами, руганью соседей. Их голоса в это утро кажутся особенно невыносимыми. А потом ещё очередь в тамбуре к параше и к вёдрам с водой. К вёдрам очередь меньше – многие предпочитают мыться после завтрака или перед самым построением на работу.
Огородников считал для себя обязательным ополаскиваться до построения в столовую. Он внушил себе, что если отступится от этой привычки – наступит конец его жизни. Рухнет весь его внутренний мир, рухнут все его надежды оказаться на свободе. Он успел окунуть ладони в холодную воду, ополоснуть лицо: тягучие капли обожгли кожу. От зябкости перехватило дыхание. За этой процедурой его и застал придавленный вскрик дежурного. Барак переполошился разом. Все потянулись к лежанкам третьей бригады.
Сашка среди них. На бегу он вспомнил первые минуты после пробуждения; внутри осело чувство – день будет тяжёлым, неприятности где-то рядом. Притаились и только ждут своего часа. Он знал, где располагается лежанка Мальцева. Спины, создающие толкучку, мешали разглядеть, что происходит там. Сашка-пулемётчик в нетерпении растолкал нескольких зеков. Лицо Мальцева он увидел сразу; тусклый свет одной лампы едва пробивался в эту часть барака, но простынная бледность лица, неестественность застывшей гримасы, невидящие распахнутые глаза.
– Хоть бы веки опустили, – сказал кто-то сбоку вполголоса. Сказал и осёкся.
Над Мальцевым первым склонился Николишин. Подоспевший Сашка слегка тряхнул успевшее одеревенеть тело, тряхнул несознательно, сам не понимая, на что надеялся. Николишин сухой ладонью мягко провёл по векам Мальцева.
Сашка разглядел на шее покойника отчётливый красный рубец, успевший за несколько часов взяться фиолетово-синим цветом, оттенившим следы удушения.
Николишин упредил дёрнувшегося Сашку, и так, чтобы никто, кроме Сашки, не понял смысла его взгляда, посмотрел в сторону каптёрки, где укрывались блатные.
– Не лезь, Санёк… Морячок этот и впрямь был с душком… и мне кажется, филонил насчёт войны!…
Огородников не стал спорить. Он не сводил глаз с багрового пятна возле левого уха покойника. Такой след остаётся от тонкой длинной заточки. И такую заточку он видел буквально вчера в руках Черепа.
***
Вечером этого же дня его позвали в каптёрку. Смерть Мальцева для него уже отошла на второй план, как бы затянулась хмарью дневных забот. Ещё до обеда всплывало в памяти перекошенное смертельными спазмами лицо, но постепенно видение всё мутнело и мутнело, пока совсем не утратило остроту. Как-то приглушённо, с глупой двусмысленностью, вспоминался последний разговор: он был коротким, во время ужина, в столовой. Мальцев справился со своей баландой раньше многих, держа тарелку перед собой, подсел к Огородникову. Подвижное, по-разбойничьи красивое лицо тронула ветряная улыбка. Однако в глазах стояла стужа:
– Привет, бригадир! – в слове «бригадир» таилась двусмысленность. -Смотрю, неплохо справляешься с новыми обязанностями.
– Приходится! – угрюмо парировал Сашка, бережно пережёвывая кусок хлеба. И сразу обратил внимание на его миску; на дне ещё плескалась баланда, даже различил ошмётки варева; вмиг вспомнились слова Николи-шина про необъяснимую сытость Мальцева.
– А ещё вижу с блатными закорешился… К чему, думаю, военному дядечке такой расклад.
– С волками жить да по-волчьи не взвьыть… – в Сашке вдруг проснулось чувство неловкости и неудобства, будто голым оказался перед Мальцевым, будто обокрал кого- то…
На этот раз в каптёрке народу больше обычного. Огородников не стал присматриваться, уверенный, что каждый обнаружит себя в разговоре сам. Лукьян окучивал Огородникова недружелюбным тяжёлым взглядом. Заговорил сразу:
– Мы тут собрались по поводу знакомца твоего, чтоб потом претензий никаких не было. Мы – народ правильный, в правильном горе и посочувствовать можем, но здесь, парень, вышла осечка с твоим корешем. Сту
качом он оказался архиссученным. и мало того, человеком конченым.
– Мне он говорил, что воевал…
– Ну да! Несколько недель. потом дезертировал, почти год прятал
ся в азовских степях. там же и душегубствовал. В руки ментов сдался сам и людишек своих сдал с потрохами, в обмен на жизнь свою криво
коленную.
– Сотрудничать согласился по воле сердца и души, так сказать, – обронил словно нехотя Череп.
Он сидел под самой колымкой, и видно его было хорошо. В правой руке кружка, из неё чадит кольчатый парок. На лице печать усталой осмысленности бытия. Правая ладонь перемотана. На серой тряпке такое же пятно, что и на матрасе под головой Мальцева. Огородников не сомневается, откуда ранение у Черепа, но делает вид, что ничего не замечает. Огородников сохраняет спокойствие, как ни странно – это удаётся ему легко. Мальцев стукач?! Скорее всего, так и есть: Мальцев стукач и наседка. Многое в его поведении после такого открытия нашло объяснение.
Через полчаса, после кружки пахучего чая, странным образом обманувшей голод, Сашка уже не вспоминал о Мальцеве. Ещё один тяжёлый день укатил в вереницу лагерной летописи.
Глава 11
За короткое время бригадирства Огородников приметил: если до развода плохими новостями никто не огорошит – день пройдёт спокойно.
Почти сразу же после завтрака заключённых вывели на развод. Михась, как и было обговорено ночью, влился в общий строй Сашкиной бригады. Разводящий старшина, глядя на общую массу каторжан, даже бровью не повёл.
«Чудно скроили», – удивился Огородников, избегая встретиться глазами с вором.
Когда подходили колонной к воротам, пробегавший, явно по своим делам, мимо надзиратель Пельмень случайно увидел Михася среди заключённых. Удивление отразилось на его лице, чем-то действительно напоминавшем расквашенный пельмень:
– О-о, ничто не перепутали? Кто бы сказал, не поверил. Поравнявшийся с ним Михайлов коротко, словно пёс с цепи, гаркнул
именно с таким напором, чтоб звуки долетели только до Пельменя и рядом проходящих зеков:
– Пельмень! Хавальник захлопни! И неси службу молча! Если суету поднимешь, не взыщи, – добавил Михась уже в нескольких шагах от зека.
Пельмень, разумеется, мгновенно забыл, кого видел. У вахты привычно выстроились по трое. Сашка всё ожидал, а вдруг кто-то из надзирателей заметит Михася, начнутся вопросы, бригаду отодвинут от выхода до выяснения обстоятельств. Но всё проходило обычным чередом. Вахтенные охранники вслух пересчитали людей Саш-киной бригады, занесли в списки количество и время и, ничего не заметив подозрительного, открыли ворота. Через несколько минут Михась, как и остальные, топтал почерневший снег на вольной стороне. Тот, кого назвали Пельменем, уже потерялся за спинами других заключённых, что подходили к воротам.
– В колонну по два становись! – скомандовал начкар, как только вышли из предзонника. Конвойные – всё те же трое да знакомый безусый лейтенант Краснопольский – теперь фамилию его в бригаде знали. Солдаты безликие, мрачные, в разговоры не вступают – не положено, даже между собой не переговариваются: по одному с боков, третий с собакой, старой охристой овчаркой, в голове колонны, начкар – замыкающий сзади.
Шли привычным строем, знакомой дорогой. На подъёме обогнал ЗИС: будка, исписанная крупной надписью – «продукты», чёрным парусом маячила впереди, пока не скрылась за перевалом. Ряды шеренги вынужденно сломались, пропуская машину: Краснопольский следил, чтоб никто дальше дозволенных шагов в сторону леса не сделал, и следил молча, всем видом показывая готовность стрелять без предупреждения – рука у расстёгнутой кобуры. Взгляд застывший.
Эх! На глазах матерел парниша, ещё немного и, глядишь, прикипит к охранному делу – понравится.
«Собраться в колонну!» – тяжёлый автомобильный выхлоп придушил команду. Понятливые зеки быстро выстроились. Зашагали дальше. Дорога круто брала вверх. Те, кто постарше – Михась, Шипицын, Водянни-ков – разменявшие шестой десяток, чуть ли не ползком преодолевали последние метры. Чтоб этому подъёму ни дна, ни покрышки! Наконец поднялись, отдышались. Дорога до деляны уже раскатана: идти стало значительно легче. Совсем рассвело. Воздух постепенно наполнялся весенней теплотой и чем-то острым и солоновато-пряным. На расчищенной поляне, также основательно вытоптанной, все сгрудились вокруг костровища: кто-то наблюдал за конвоирами, те устанавливали по периметру предупредительные вешки, оказаться за которыми означало – смерть. Жмых и ещё двое, по указке начальника конвоя, быстро развели огонь. Михась одобрительно посмотрел на Жмыха, усмехнулся:
– Ты, смотрю, наловчился с дровами-то обращаться. Это правильно. Не пропадёшь, значит!
Жмых ощерился в довольной улыбке, потянулся за папиросами. Ми-хась тоже вытащил из внутреннего кармана телогрейки махорочный кисет. В руках Циклопа появилась якобы случайно заныканная в полы поношенного пиджака бумага, в самый раз для самокрутки, такую бумагу днём с огнём на зоне не сыщешь. Все заключённые сгрудились вокруг воров.
– Махорка ядрёная, с кипяточком, – наговаривал благодушным тоном законник, расширяя тугое горлышко кисета и жмурясь, словно кот, объевшийся сметаны.
Огородников стоял чуть в стороне, наблюдал за всем этим спокойно, но вдруг вспыхнувшая догадка острее бритвы полоснула по сердцу. Побег! Они затеяли побег!
Михась ведь не курил, он даже табачный дым вынести не мог! А кисет преподнёс, как заправский курильщик! У настоящего законника ничего случайным не бывает! Огородников, поражённый собственной догадкой, беспомощно огляделся, словно испугался силы своих предположений. Со стороны всё выглядело чин чинарём. Он невероятным усилием подавил нахлынувшую ярость, смешанную с растерянностью. Топорище ласково легло в ладонь, зато неласково и многообещающе зыркнул на него Михась, который, похоже, уловил что-то в настроении бригадира.
– Ну что присели, каторжане? До обеда ещё далеко, каждый знает своё дело. Подымили и будя. Хорош трепаться, – Огородников кивнул на нач-кара, упреждая ненужную болтовню между солагерниками. Вдобавок ко всему начкар начинал проявлять беспокойство оттого, что мужики дольше положенного засиделись у костра, за пилы не торопятся браться, балагурят. По ягоды что ли вышли?!
Среди вохровцев не было такого указа – лезть в работу рубщиков: у них один указ – охранять территорию по вешкам и, если кто выйдет за означенную зону, стрелять без промедления. Поэтому стояли в нескольких шагах, молча и терпеливо косились на зеков в ожидании, когда те разбредутся по деляне.
– Сегодня заштабелевать требуется на две повозки. Иначе норму не вытянем, – сказал Огородников, переваливаясь через поваленные ранее сосны.
Зекам не надо напоминать, что значит остаться без нормы. Почитай, несколько трудодней – псу под хвост. Разговоры враз прекратились: сработавшимися парами разбрелись по поляне. Жмых и Михась, тут же забытые солагерниками, отошли к дальней черте деляны: принялись топтать снег вокруг мачтовой сосны, верхушкой подпиравший, кажется, само небо. Огородников наблюдал: работает в основном Жмых, старый вор больше создаёт видимость, впрочем, вряд ли при его нескладной фигуре получился бы из него знатный топтун. Пока ногу закинет, пока переставит, словно цапля, пока развернётся: без улыбки и сожаления смотреть невозможно.
Сашка-пулемётчик вскоре забыл о присутствии в бригаде законника: принялся сам «ломать» снег вокруг широкой лиственницы. Вытоптав сугроб почти по пояс, взялся за топор; просмолённое толстенное тело ствола звенело, разрываемое топором; всё дерево мелко вздрагивало, постанывало, чувствуя скорую гибель. Дерево, как и человека, загубить -ума много не надо! Росло столетиями, а чтоб с корня срезать и часа не ушло. Сашка взопрел, избавляясь от жара в теле, расстегнул ворот телогрейки, из-под шапки валил пар. Он больше почувствовал, не увидел – за спиной кто-то стоит. Резко обернулся. Так и есть: Михась. Сашка присел на подломанные ветви, всем видом показывая, что готов слушать объяснения вора.
Между ними разница в годах была немалая: Сашке только тридцатый шёл, Михась давно разменял шестой десяток, и главное – ни что их не роднило, ни взгляды на жизнь, ни отношение к людям, роднило их только небо над лагерем да сам лагерь, со своими тюремными законами. В Сашке ещё таилась обида за тюремный срок и загубленные годы, хотя, что говорить, сам виноват! И ещё кипело под сердцем чувство к родине! А у старого вора подобные чувства давно высохли в душе, словно вода в пустыне.
Михась присел рядом, огляделся. Он придал лицу умиротворённое выражение, но чувствовалось, как всё в нём напряжено.
– Ты вот что, – не сразу заговорил вор. – У тебя, вижу, много вопросов ко мне накопилось. Выкладывай, если получится – отвечу.
– Есть у меня подозрения, Гаврила Матвеевич, что удумали что-то нехорошее. Наверняка, побег?! – Сашка сказал и застыл: аж самому стало страшно от собственной дерзости. А вдруг ошибся? Вдруг недопустимое подумал о Михасе и его дружках?! Как-то тесно и неуютно стало в телогрейке. Ему даже показалось, что за ними наблюдают. Скорее всего, подельники.
Лицо вора мгновенно окаменело, в глазах пыхнуло замешательство. Он умышленно тянул с ответом, чтобы укоротить, не выдать подступивший к горлу гнев. Что его больше душило: смятение или злоба, трудно понять.
– Вот как определяют у речки какой правый берег, а какой левый? Правильно! По течению! Это потому, что видишь, куда река бежит! А если не видишь? Вот и ты сейчас многого не видишь, пулемётчик! Поэтому скрипишь зубами. Охолонись на пару дней! Это не угроза! Стар я уже фортели выкидывать. Потерпи! Пару дней потерпи! Про закладку не говорю, не дурак, вижу!
«Всё-таки побег», – подумал Огородников, тоскливо озираясь по сторонам: его не покидало ощущение, что кто-то прячется за ветками густого ельника, расписанными белёсым куржаком. Маятником качнулась боль в груди, вытаскивая наружу испуг, самый обыкновенный животный испуг. Внизу послышался топот конной подводы. В пролесках живее задвигались заключённые, быстрее застучали топоры.
– Выходит, выхода у меня никакого, Гаврила Матвеевич?
– Но почему же? Или ты думаешь откатать здесь свою четвертную и в добром здравии откинуться?
Такое откровение звучало больше, чем намёк, это был зов старого матёрого волка следовать за ним. Следовать по следу!
Сашка, подавленный напористостью Михася, потупил взгляд. Вступать в перебранку было бессмысленно. Теперь понятно, отчего Михась так нервничает. Поди, воры ни одни сутки промаялись в рассуждениях и спорах – довериться ему, Сашке Огородникову, почитай, человеку с фронтовым прошлым, или лучше обойти его. А если сдаст? Но всё же доверились! Почему?! Не было иного, более подходящего решения?
Михась будто услышал его мысли. Заговорил быстро, сглатывая слова, коротко и резко поглядывая то в одну сторону, то в другую – боялся, что увидят охранники, заподозрят недоброе. Не время нынче давать лишний повод для подозрений.
– У нас всё готово, пулемётчик. Уйдём на рывке. И дай бог, всё образуется! Неправильно толкуешь. Не резни боимся ссученными! Нам мазаться с ними, так, пустая трата времени и сил. Да и резня лагерная не по нашим понятиям. Сгуртуют нас вскорости всех, как особо тяжких, и на Колыму^ Точно тебе говорю. Вижу по глазам – кипиш переморгнуть надеешься. Не выйдет, паря. Тебя тоже в список внесут. За базар отвечаю.
Сашка дёрнулся: синие глаза подделись дурной поволокой. Михась будто ничего не заметил, продолжал своё:
– Почему тебя в тему ввели? Чё, думаешь, не видим, что учуял что-то недоброе, приглядываешься к нам, как лис… Кто тебя знает. Вдруг решишься стукануть хозяину, всякое бытает… А побег мы задумали верный, пулемётчик. Всё на десять рядов просчитали, и время подходящее выбрали. Весна!
Бойкий перестук топоров раскачивал тишину. Где-то за боярышником, обнесённым снежным хрупким намётом, раздался скрип снега. Михась тут же вскочил, в полусогнутой руке – топор; едва успел откатиться вниз и скрыться за сугробами, показался Краснопольский. Сашка сделал вид, что не заметил лейтенанта. Занёс топор над головой и с надрывным кхе-каньем рубанул по стволу сосны. Весь вид его говорил: смотрите, любуйтесь, как умеет работать каторжанин. Краснопольский покрутил головой и, не найдя ничего подозрительного, пошёл по следу Михася. Там застучал топор.
Сашка, обессиленный, присел в сугроб. Задумался. Надо ли говорить о том, что разговор с вором должен умереть в нём.
Побег. Сашка думал об этом и боялся думать. Какой заключённый не думает о побеге!? Всякий думает! С той лишь разницей, что одни постоянно, и днём и ночью, сытят себя иллюзиями неожиданного беглого счастья, а другие – временами!
С этой минуты мысли о побеге неотвязно стали преследовать его. Даже во сне лишили покоя омутно-весеннего настроения. Сашке-пулемётчику невдомёк было в те минуты, что за ними, надёжно укрывшись за раскидистым кедрачом, кто-то наблюдает.
Побег
Глава 1
Весна в тот сорок девятый год наладилась ранняя. Солнце непривычно быстро выпутывалось из предрассветных дымок, пробегало как-то весело над грядой сопок и зависало, опять же непривычно надолго, в самом зените. Воздух терял стылую упругость, густел; снега вытаивали; дороги раскисали, отрезая районный центр от близлежащих деревень и поселений.
Николай Мансура запряг Лорда и с первыми всполохами зорьки выехал в Братск. Дорога, как ни крути, займёт день. Вернуться домой, в Уварово, он планировал на третьи сутки…
Николаю шёл тридцать шестой год. В недавнем прошлом он в чине майора числился в рядах спецотдела МГБ, но в сорок седьмом был комиссован из-за тяжёлого ранения в грудь. Несколько месяцев назад устроился инспектором лесоохраны в местный леспромхоз. И соответствующий документ, маленькая книжечка в зелёном переплёте, всегда был при нём: в левом нагрудном кармане служебного кителя. Признаться, первый месяц в новой должности для Николая прошёл в нервном напряжении. Шутка ли, ведь как работать на гражданке, ему до сей поры было неведомо. Но Николай все новшества воспринимал с суровым спокойствием. Пришло время отвыкать от военной службы, хотя иногда воспоминания, помимо его воли, одолевали до помутнения в голове.
Осень сорок четвёртого года для Николая осталась, пожалуй, самой памятной. Той осенью его угораздило влюбиться. И хоть произошло это с ним не впервой – влюбляться доводилось и раньше, когда краткосрочные знакомства, бывало, перерастали в краткосрочные романы. Но на сей раз с ним случилось происшествие, которое изменило его жизнь навсегда. Он метался по уже освобождённому городу в поисках лазарета, откуда раненых вот-вот могли отправить в тыл. А среди них был старшина его разведгруппы Поливан, не попрощаться с которым Мансура не имел права: слишком многое они пережили за два года фронтовой разведки.
Жизнь в городе медленно, словно с оглядкой, восстанавливалась: на базарной площади чуть ли не каждый день устраивалась толчея; уже вторую неделю, как шли восстановительные работы железнодорожного вокзала; улицы запрудило гражданское население. Мансура зашёл на местный телеграф. Что его туда занесло, и сам не понял, может, собирался спросить, где находится лазарет? Он только переступил порог полутёмного с низким потолком помещения, как сразу увидел её лицо: бледное, почти с прозрачной кожей, с красивыми заострившимися скулами и глаза, словно мерцающий омут, тёмные, диковинно раскосые, оттенённые чёрными густыми ресницами. Таких глаз он никогда до этой минуты не встречал, а затем услышал её голос. И тут его словно оглушило. Он настолько растерялся, что, простояв несколько минут истуканом у стойки, так и не найдя в себе силы обратиться к ней, вышел из здания. Он вышел, а перед глазами остался её образ с пронзительно-глубоким взглядом. И всё время, пока он искал и нашёл-таки лазарет, который находился сразу за телеграфом, и пока разговаривал со старшиной, его неотступно преследовал образ красивой девушки.
Потом капитан Мансура в течение нескольких дней заходил в здание телеграфа, делая вид, что по какой-то надобности, пока девушка не спросила о чём-то: сам бы он не осмелился заговорить с ней первым. Он наивно полагал, что его посещения остаются незамеченными. Так он познакомился с Алёной. И потерял голову. Эх, если б не война!
В эти дни он даже умудрился забыть о войне, а между тем советские войска, после затяжного передыха, вновь готовились к наступлению. Что касается Николая, то за несколько суток до начала военных действий его группа приступила к сложной контрразведывательной операции. Работа шла денно и нощно: группа Мансуры разыскивала немецких диверсантов. Диверсанты каким-то образом прочувствовали, что близки к провалу, и попытались скрыться в горах. Контрразведчики имели данные, что диверсантами руководил всесторонне подготовленный к подрывной деятельности офицер русского происхождения. На него-то в основном и велась охота «смершевцами». Обстоятельства сложились так, что Мансура в одиночку преследовал их пять суток. Пять суток жизнь и смерть хороводила в дикой жестокой пляске.
Разведгруппе удалось уничтожить всех диверсантов, а немецкого офицера взять в плен. Те сведения, что плененный офицер поведал отделу контрразведки, и те документы, что оказались в его папке, имели важное значение для наступательных действий 1-го Украинского фронта по всему западному направлению. Мансура имел навыки выживания в лесу при любой погоде, умел ориентироваться в лесной и гористой местности, умел преследовать врага в труднопроходимых местах. Эти умения и спасли ему жизнь. Да ещё удачно складывающиеся обстоятельства. Хотя… Удача – вообще, хоть и капризная дама, но в рискованных делах не просто желанный попутчик, а обязательный. Подполковник Гудилин, непосредственный начальник Мансуры, верно заметил:
– Как ни крути, а удача в нашем деле играет не последнюю роль. Но за неё мы выпьем позже.
Правда, Мансура мог и погибнуть тогда в смертельной схватке с диверсантами. Тяжёлое ранение – две пули в грудь – для солдата в годы войны, чувствовавшего дыхание смерти чаще, чем дыхание девушки, скорее, благополучный исход. Могло ведь всё закончиться гораздо трагичнее. После долгого лечения Мансуру списали со строевой службы.
– В рубашке родился, – подытожил полковой хирург Белецкий, можно сказать, вернувший с того света Николая. Но это он скажет спустя почти месяц, а первые часы после операции Белецкий не торопился с обнадёживающими выводами.
Мансура трое суток не приходил в сознание. После того, как пришёл в себя, ещё продолжал плавать в сумеречном тумане, не совсем понимая, что с ним происходит и где находится. Звуки доходили, словно сквозь густую вату, фразы слышались обрывчатыми лоскутками, и, если посетители начинали говорить разом, всё перемешивалось в гулкий нарастающий шум, а все попытки заговорить самому отзывались неуютной болью в голове. Шли дни, недели. Постепенно мысли обретали связные формы, вскоре он мог следить за движениями посетителей, не испытывая головокружения и пульсирующих толчков в висках.
И так три месяца…
Он всё слышал, всё понимал, но говорить не мог, поэтому жестами выспрашивал врача – когда вернётся к нему речь. Врач обнадёживал: всё будет хорошо!
Спустя время, врач уже не скрывал симпатий к пациенту и не скрывал прямого участия, пусть в не столь быстром, как хотелось бы, но всё-таки возвращении тяжелораненого к жизни, который каких-то месяца три назад казался безнадёжным.
– Не переживай, Николай! Речевые функции скоро вернутся. Сейчас сердце восстанавливать надо. Это тебе, брат, не шутка, две пули над ним, -говорил Белецкий, явно довольный результатами проведённой операции.
Алёна, на тот момент будучи уже невестой Николая, внимательно слушала рекомендации Белецкого, при необходимости делала записи. Вне работы она проводила всё время в палате Мансуры. Белецкий только приветствовал присутствие красивой сиделки у изголовья больного, который тяжело шёл на поправку.
– Вы ему сейчас очень нужны. Вы для него сейчас прямо как фея. Ему забота, внимание, и он восстановится. Вот увидите.
Врач хоть и ненамного старше Мансуры – лет на пять, не больше, – но смотрит он на молодых родительскими добрыми глазами, смотрит с таким проникновенным участием и внимательностью, что не возникает сомнений.
Белецкий навидался на своём веку многого. Уверенность врача передалась пациенту. Зима уже сломалась к тому времени: солнце настырнее и увереннее пробивалось сквозь тяжёлые занавески.
Ночи словно истлевали от предчувствия скорых перемен, уже не так пугали снежным безмолвием и мрачной неподвижностью. В одну из таких ночей Николай заговорил. Алёна, услышав его голос, слабый и немощный, вздрогнула, не сразу поняв, откуда поступает звук.
Она дежурила всё это время у его постели и в ту ночь пристроилась удобнее у стола под высоким окном. Николай, увидев её встревоженное лицо над собой, при свете яркого месяца различил серебристые слезинки на её щеках. Она его поцеловала. Слезинки с её ресниц перекатились на его ресницы. Сердце наполнилось небывалой гулкой нежностью, и он чуть слышно простонал. Она испугалась, но тут же поняла: стон исходил, оказывается, не от боли, стон родился благодаря чувствам, наполнившим Николая. Алёна только и смогла что прижаться очень мягко, очень нежно к его ещё перебинтованной груди.
Со временем, идя на поправку, для Николая стало любимым занятием сидеть подле окна и наблюдать проступающие признаки весны. Признаться, во взрослой жизни – детские годы не в счёт – ему никогда не хватало времени заняться обычным делом: наблюдать, как после зимней спячки пробуждается земля. Как рождается в тусклом предрассветном мареве заливистая трель птиц, которых не видно, но их пение…
Своего спасителя, доктора Белецкого, Мансура запомнил на всю жизнь. После выписки из лазарета врачи вынесли вердикт – к строевой службе не годен. Да только Николай особо и не сопротивлялся, посчитав, что достаточно отслужил в контрразведке, где не раз приходилось рисковать жизнью, видеть смерть близких людей. Одним словом, навидался всякого. Спроси его: сколько раз бывал на мушке врагов и сколько раз целился сам во врагов – не ответит.
За несколько суток до выписки он вдруг отчётливо осознал непоколебимую решимость – забрать Алёну в жёны и стать семейным человеком. А может, это был зов предков, тот зов, который незримо, но неотступно преследует каждого человека и затевает в нём внутреннюю борьбу, закручивая все помыслы и чувства в инстинкты. Возможно, пришла зрелость, а вслед за ней и успокоенность. Николай задумался о будущем. Задумался по-настоящему. Благо, времени было предостаточно.
Осенью сорок пятого года, когда ещё не до конца отгремели победные салюты в Москве, свершилось главное событие в его жизни – они скромно расписались с Алёной. Это умножило его стремление вернуться к мирной профессии и посвятить себя тихому семейному счастью.
Ведь не зря же много лет назад, пытался поступить в лесной техникум. Впрочем, переквалифицироваться в столь короткие сроки, без мучительных и бюрократических проволочек, военному человеку не так-то просто. Тут, как-то очень некстати, вспомнил о нём генерал-майор Гладилин, срочно вызвал в Москву, в министерство: предложил работу, связанную с подготовкой диверсионных групп, умеющих ориентироваться в сложных таёжных условиях.
– С таким-то опытом и навыками, молодых учить надо, а ты на покой собрался. Всё-таки не торопись, Николай Васильевич, подумай несколько месяцев, подлечись, я сам позвоню, авось передумаешь, – боевой командир не скрывал горького сожаления по поводу решения капитана. Он и звонил пару раз, а во время недолгих разговоров, хоть и не очень настойчиво, а скорее, наоборот, с деловитой родительской теплотой старался Николаю объяснить поспешность его решения, отговорить. Однако Николай остался верен тому желанию, что так охватило его сразу после того, когда к нему вернулась речь. К тому же не по душе была Николаю кабинетная работа.
– Всю жизнь по тайге брожу, а теперь пыль что ли в кабинетах на старости лет глотать буду! – отговаривался Николай.
Наконец, поздней осенью сорок седьмого года его демобилизовали. А ещё через три месяца Николай и Алёна тряслись в набитом до отказа вагоне. Конечная остановка молодой семьи – Иркутск. Мансура был счастлив от всего, что происходило в его судьбе. Уговаривать Алёну не пришлось: достаточно было посмотреть в её глаза, чтобы понять – она за ним хоть на край света. Отрадное семейное счастье, о котором украдкой мечталось обоим, купельной песней растворялось в их сердцах.
Малая родина встретила блудного сына величавой необъятностью. Только сейчас, глядя на бесконечные заснеженные просторы, которые не только завораживали, но и пугали – Мансура понял, как скучал все эти годы по родным местам. Никогда ещё Николай от душевной успокоенности не погружался в такое блаженство. Неземное светлое чувство, наполненное сложными переливами, разраставшееся в нём, передалось и Алёне. В таком благостном расположении духа они подъезжали к деревне Уварово. Стоило только увидеть издали отчий дом – водитель громыхающей и почти разваливающейся полуторки подобрал их больше от скуки, чем из душевного участия, и болтал всю дорогу без умолку -Николай почувствовал под сердцем щемящую боль.
В последний раз отца Николай видел в тридцать восьмом году. Тогда он с трудом вырвался в отпуск, думал, на пару недель, но уже через несколько суток срочно вызвали в Иркутское управление НКВД и откомандировали в Бодайбо налаживать работу заградительных отрядов. На отца в те минуты было жалко смотреть. Контрабандный отток золота из Восточной Сибири не прекращался – на это указывали все сведения засекреченных источников. По большей части источники – это местные жители, поддерживавшие советскую власть. Там Мансуру и застала война. Потом, в сентябре сорок первого, когда стало понятно, что война закончится не скоро, его направили в Москву. Всё, что успел сообщить о себе Николай в коротком письме домой: «Не волнуйся, еду на фронт бить фрицев, жив, здоров, береги себя. Сын».
Василию Георгиевичу что на это, первое, письмо, что на последующие и отвечать-то было некуда: все письма приходили без обратного адреса. Так прокатились военные годы, которые Мансура вспоминать не любил. Слишком много крови, людских потерь. Слишком много незаживающих ран ещё бередилось в памяти. Куда больше его занимали долгожданные трудовые будни. Когда Мансуре, обрисовав всю картину происходящего без прикрас, предложили новое назначение с переводом в родные края, он согласился даже не раздумывая. Можно было получить назначение с перспективой руководителя – лесхозы и леспромхозы росли как на дрожжах, – но вот здесь Николай проявил характер: отказался от всяких должностей… «Начну с лесничего! Там видно будет!» – ведь всё, о чём мечталось Николаю с Алёной в те дни – об уединении и тишине.
Аргументы его показались более чем убедительными. У начальства не вызывало сомнений, что Мансура справится: орденоносец, в звании майора, здешние края знает, как свои пять пальцев. Его, вообще, можно смело причислять к династии охотоведов: когда-то дед, потом отец практически всю жизнь промышляли охотой. Николая сызмальства за собой в тайгу таскали. Оттого тайга для Николая – дом родной. Но были и голодные времена, Николай это помнил отчётливо, когда пушнину сбывать было некому и некуда, когда все медовые пасеки пришли в запустение, когда даже кедровый орех перестал пользоваться у горожан и коммерсантов спросом. Выход виделся в одном – перебираться в город.
Василий Георгиевич не имел рабочей профессии, писал и читал с трудом, в город поехал, веруя в удачу, природное упрямство и опять же природное трудолюбие. А ещё надеялся сразу прибиться к заводским или к ремесленным артелям.
– Шоб ручками больше было работы, чем головой, – не раз говаривал отец, подначивая жену, мать Николая, к переменам.
Однако вышло не по-отцовскому: жену в городе схоронил, сына оставил одного – заканчивать семилетку.
– Бейся, Колька, сам. Бейся всеми правдами и кривдами, а грамоту одолей, – напутствовал сына Василий Георгиевич.
Отец пуще всего хотел, чтобы Колька обучился грамоте. Через неё все радости в нелёгкой жизни можно увидеть. Уезжая в деревню, отец сильно сомневался, что Колька справится. Однако под присмотром знакомых селян он выдюжил в городе один, приладился к суетливому городскому быту.
А потом так и повелось: зиму учился в городе, а на лето с попутными обозами добирался до деревни. И первым делом, приехав к отцу на каникулы, сразу в тайгу. Здешние места он знал хорошо: мог дня три-четыре пропадать в лесной глуши. Без опаски уходил до самой Падунской пади, почти вёрст семьдесят от родного крова.
Василий Георгиевич свыкся с таёжными походами сына не сразу, на третий год ворчание улеглось вовсе. А улеглось после известного случая: Николай притащил в дом свежевыделанную шкуру медведя. Василий Георгиевич в тот вечер хлопотал во дворе, темнело; и вдруг увидел, как в открытую калитку втискивается что-то чёрное, мохнатое. А это Колька на плечах волок шкуру. «Ну и напугал, Николка, думал, леший во двор лезет», – только и успел упрекнуть сына отец.
Смотреть на семнадцатилетнего героя и на шкуру царя тайги сбежалась вся деревня. Проезжающие из соседних деревень по случаю тоже заглядывали посмотреть к ним во двор – Василия Георгиевича знали многие. К тому же слухи да сплетни – единственное богатство русской деревни: принял бесплатно и отдал за просто так. За сына он тогда сильно счастлив был, – «Вот матушка жалко не дожила. Сейчас не нарадовалась бы»
Колька – пока ещё Колька – украдкой, поглядывая на отца, видел, как тот едва сдерживает распирающую гордость за сына. Особенно отец гордился тем, что Колька исправно прошёл все классы ликбеза, и нынче забирают его, как очень одарённого, на ещё какие-то ликбезы. Колька, пряча улыбку с лица, уходил от людских расспросов. Как ни пытался он втолковать отцу о нововведениях в тех «ликбезах», что создавала советская власть, и что теперь они не «ликбезы» вовсе, а просто школы, отец всё равно ничего не понимал: проще выходило ничего не разъяснять. Теперь директор школы уговаривал Кольку доучиться и получить полное среднее образование. Скорее, не уговаривал, а настаивал. И ведь доучился, только уже в стенах другого заведения. Как всё это сейчас Николаю радостно и весело было вспоминать, пересекая верхом широкое заснеженное поле, залитое полуденным солнцем.
Николай, вообще, в свои тридцать шесть лет считал себя вполне счастливым человеком. Правда, иногда, чаще всего в минуты ночной бессонницы, он бередил себя вопросами, пытаясь докопаться до истины и понять: что же такое счастье? Здесь вроде бы для него всё было предельно ясно, как белый снег в нехоженой тайге. Как-то Колька спросил у родителей:
– Что же такое счастье?
Он не помнил точно, с чего вдруг задался этаким вопросом, но случилось это уже по приезду в город. И кажется, был канун Нового года. Мать растерялась, не зная, что ответить. Отец отложил тоненькую потрёпанную книгу, один из первых учебников школяра Николая: отец в ту пору самостоятельно силился постичь грамоту.
– Счастье, сынок, когда дома всё хорошо, все живы-здоровы, и у тебя есть будущее.
– А как счастье выглядит и есть ли у счастья дом? – не унимался Колька. Похоже, отец тут смутился не на шутку:
– Про дом и как выглядит, ничего не скажу. Не знаю. А может, наш дом когда-нибудь станет для нас счастьем, – здесь Василий Георгиевич замолчал.
Кольке на всю жизнь запомнился тогдашний задумчивый взгляд отца.
Съёмная комнатушка, узкое окно напротив двери, печь, слева от неё перегородка, за которой кровать Николая, – это сырое и полутёмное помещение явно никак не соответствовало представлениям о счастье. Тот дом, который они оставили в Уварово, больше подходил для счастливой жизни. Вот тогда Колька запомнил главное – счастье, это когда всё дома хорошо и все живы. И эта успокоенная обыденность, пускай немного блёклая и не столь праздничная, и есть счастье, о котором мечталось особенно в последние годы Николаю. А ещё счастье испытывал от того, что наконец-то после многолетних мытарств вернулся в родные края. Неужели все трудности позади?
А сколько пережито всего?! И погони по глухим таёжным дебрям за лихими отрядами, что переправляли контрабандное золото через Маньчжурию в Китай. И фронтовая разведка в годы войны. И схватка в Закарпатье с диверсантами, – противостояние с одним из них для Николая закончилось чуть ли не гибелью. С тех пор Мансуру часто преследовал один и тот же сон: что-то отдалённо напоминающее человеческое существо коршуном несётся к нему и кричит, кричит, не то угрожая, не то перекрикивая другой отдалённый шум. И в этой сонной кутерьме Николай чувствует, что в него целятся и целятся именно в грудь. Откуда такое ощущение приходило, и сам объяснить потом не мог, но это ощущение опасности настолько было огромно, что Николай, ещё находясь в плену сна, начинал теряться: сон ли это? Может, всё происходящее явь? И чтобы проверить себя, свои сомнения, он начинал кричать, дёргать руками, ведь надо успеть опередить выстрел хотя бы на секунду, всего на одну секунду! И крик жутким мычанием вырывался из горла… Николай всегда так и просыпался: в ушах стоял грохот раздавшегося выстрела. Именно после таких сновидений Николай весь день ходил, как чумной, вызывая сочувственные взгляды жены.
С погодой Мансура подгадал. В равнинной местности снежный покров весь в проплешинах: снег уже подделся коростой, почернел. Кое-где намечались ранние ручьи, на взгорках земля совсем оголилась и прела. Там, где образовались бесформенные проталины, земля от влаги превратилась в тяжёлую липкую грязь. В таких случаях Николай отпускал вожжи, не мешая Лорду перетаптываясь нащупать твёрдую почву под копытами.
Весеннее тепло радовало уставшую от зимы живность. От кедрачей отлипал пряный устойчивый запах, ветви царского дерева, освободившись от снежного покрова, распушились, налились свежей зеленью. Редкие берёзки, бесконечно скучные в зимнюю пору, загадочно притаились, какими-то незаметными бликами выдавая заневестившееся напряжение в стволах и ветвях. В воздухе уже плыла весенняя хмель, перемежаясь с теми ароматами, острыми, неуловимыми, непонятными, которые бывают только от прихода весны.
Лорд выбрался на долгожданный тракт. Мансура спешился, давая коню передохнуть. Отсюда до райцентра вёрст семь осталось. Пешком идти в тулупе и тяжело, и жарко: скинул, так в форме без знаков отличия и шёл, придерживая коня под уздцы.
От основного тракта разбегались торённые санями дороги: поселений в здешних краях за последние десятилетия поприбавилось. Раскисший тракт пугал осевой чернотой посередине, но странное дело, все грузовики, проносящиеся мимо, не вязли в жидкой бахроме. Вдалеке Мансура разглядел возницу: путь держали уже из райцентра, и чем ближе к райцентру добирался, тем больше таких возниц он примечал на дорогах.
Через полчаса подъехали к зданию леспромхоза. На удачу Николай заглянул к директору лесхоза – повезло. Прохор Игоревич Будников, тоже из местных, с Вихоревки, высокий, ширококостный, немного нескладный. Стоя у стола, просматривал последние сводки. Высокий лоб сморщен (похоже, не в духе!), богатая шевелюра убелена сединами, глаза серые размытые, немного выпуклые, отчего всегда казались грустными.
– Нас опять ограничивают к доступу на лесорубочные деляны, вдоль железнодорожной трассы, – пожаловался после быстрого приветствия Будников.
– Так понятно почему! Там же лес валят заключённые. А контакты с местным населением должны быть ограничены, – утвердительно предположил Мансура.
– Вот поэтому и ломаю голову, как сделать так, чтобы ускорить процесс вывоза леса. С такими графиками отгрузки мы этот план за пятилетку не выполним. И вторая загвоздка: могут скинуть директивы на новые подборы делян, подальше от узкоколейки. А это, сам понимаешь, может сказаться на сроках.
Здесь уж глаза начальника леспромхоза, вообще, наполнились непередаваемой грустью, и он вовсе стал похож на расстроенного ребёнка. Помолчали.
– Эх-х! Как говорят: бог не выдаст, свинья не съест. Ладно, зайти к нормировщикам, там все сводные по новым участкам на твоём периметре. Обязательно в бухгалтерию заскочи. Там тебе подскажут, куда за доппайком обращаться. А что? Всё как положено! Беги, беги! А то время уже поджимает! Рабочий день заканчивается!
Мансура со многими в администрации леспромхоза перезнакомился ранее, при трудоустройстве. Иначе он и не объяснил бы, почему всё так удачно сладилось: нормировщик, едва увидев его, выдал документацию; в бухгалтерии все соответствующие справки и деньги в кассе получил без лишних вопросов; а за доппайком требовалось пройти в соседнее здание, за контору – склады находились там. На складах тоже обошлось в считанные минуты.
Вечер приближался стремительно. Недалеко от конторы его окликнули. От неожиданности Мансура вздрогнул.
В сдвинувшихся сумерках не сразу удалось разглядеть, кто его позвал. Мансура настороженно всматривался, замедлив шаг; наконец разглядел: к нему, широко улыбаясь, шагал – Стёпка. Господи, Стёпка! Друг детства! В тяжёлую годину семья Стёпки приехала на лето в Уварово. Вот тогда они и познакомились. А потом – не разлей вода! Пока жизнь не вытолкнула их из-под родительского крова. Только вот с той поры встречи их можно пересчитать по пальцам. Много лет не знали ничего друг о друге. Но однажды, волею случая, встретились под Москвой. Шёл октябрь сорок первого года. Лоскутников – сотрудник УНКВД, милицейского подразделения, в звании лейтенанта. Мансура тоже лейтенант, только при форме НКВД. Лоскутников, когда увидел на нём форму энкавэдэшника, не смог скрыть некоторого замешательства.
Николай, испытующе глядя в глаза земляку, вполголоса заметил:
– Не так подумал. Там много структур, я из контрразведывательного отдела и к общей системе не имею отношения.
– Да я и не подумал ничего, – парировал Лоскутников.
И тут же Николай, чтоб сгладить неловкость, заговорщически подмигнул приятелю, переходя на шутливый тон:
– Ну, давай колись, как дела на личном фронте. Небось и невеста уже есть?
– Какая невеста, Коль, война кругом, – вполне серьёзно отозвался Лоскутников, ненароком охлаждая игривость Мансуры. – Мать писала, что в соседних деревнях мобилизовали всех до сорока лет. Дядю Иннокентия Павлова, с короткой ногой, зашибленного и то повесткой вызвали. Все думали – ошиблись. Да нет! Помнишь дядю Иннокентия? Ты ещё за его дочерью младшей, Ольгой, ухлёстывал, когда на лето последний раз приезжал? Как, переписываетесь?
Николай, разумеется, Ольгу помнил. Но когда это было? Столько всего пережито с тех пор. И оба вдруг замолчали, каждый думая о своём. Воспоминания о родном крае, о родителях невольно всколыхнули что-то сокровенное в душе каждого. Неведение завтрашнего дня их вовсе не страшило, их не страшило даже то, что любой из них мог погибнуть в молохе войны, а могли погибнуть и оба. Но об этом как раз не думалось.
– Действительно, какие невесты, когда вокруг столько горя, – устыдился Мансура, глядя куда-то вдаль.
Серое небо плыло над ними в тот день, пронося острые холодные капли дождя. Погода стояла под стать настроению. Вчерашние мальчишки в одночасье превратились в молодых, уверенных в своих силах мужчин. Лоскутников – полная противоположность Мансуры: на полголовы выше, плотнее, волосы светлые, прямые, гладко зачёсаны. Лицо слеплено аккуратно, без броских, запоминающихся линий; и глаза, несмотря на светлые волосы и кожу, глаза тёмно-карие, в них всегда искрилось озорство, мальчишеская задиристость. Мансура обратил внимание, что в тот день озорство в глазах Степана заметно угасло. Хотел сказать об этом, подбодрить, да прозвучал звонок в здании – это был сигнал сбора. Прозвучал настолько неожиданно, что оба ещё больше растерялись. О возможном сигнале тревоги оповещали сотрудников милиции не раз, предупреждали: «Будьте наготове!» И на тебе! Лоскутников побледнел, заулыбался неловко, как бы извиняясь за происходящее. Они обнялись, понимая оба, что эта первая после школьных лет встреча может оказаться последней. Расстались без слёз, без неуместных шуток, со скупыми фразами. Расстались, как подобает взрослым мужчинам.
Судьба их пощадила. В следующий раз встретились уже после войны, когда Мансура вернулся в родные края с молодой женой. Вот тогда со Степаном встречу отметили как следует, по-родственному. Уже семьями. Лоскутников тоже был женат к тому времени. Степан не скрывал радости, когда узнал, что Николай решил приехать в родные места не просто погостить, а навсегда. Сразу предложил пойти в милицию, но Мансура заартачился: дескать, хватит, набегался, хочу пожить немного нормальной спокойной жизнью.
Лесников в леспромхозе не хватало! Да что там, в леспромхозе; в те годы мужчин не хватало везде, в деревнях особенно. А директор леспромхоза Будников, узнав о том, что Николай из местных, к тому же офицер с фронтовым прошлым, так места не мог найти от радости. Соответственно определил участки Мансуре поближе к его деревне.
И надо же, не успел сегодня Мансура приехать в райцентр, как его нашёл Лоскутников.
– А я смотрю, идёт счастливый, никого не видит. Как кот бежит к сметане, так и ты на доклад к начальству, – шумно заговорил Лоскутников. Они обнялись: – Никого не видит и не слышит.
– Да я всё по рабочим вопросам забегался. Тебя как сюда занесло? Неужели кто-то сказал?
– Николай, обижаешь! «Кто-то сказал». Я где работаю? В милиции! Чай, не последний человек в посёлке! Моя обязанность – знать всё и про всех.
Позже Степан раскололся – про приезд узнал от директора леспромхоза: накануне созвонились по телефону. А уж время подгадать для майора милиции – не проблема!
– Сегодня ночуешь у меня! Никакие возражения не принимаются, -Николай собственно не возражал. Лоскутников настолько оживился от встречи, что первые минут десять, вообще, слова не давал вставить Николаю. – Считай, сколько не виделись, – Степан остановился, изображая насмешливую задумчивость. – Аж с Нового года. Вот время летит!
– Ну, это ерунда, если вспомнить, сколько не виделись до этого лет, подхватил весёлое настроение друга Мансура. Так они балагуря зашли в контору леспромхоза. Немного спустя, когда все вопросы на работе Николай утряс, решили так: Николай едет до конной базы, оставляет Лорда у местного деда Мазая и не мешкая – к Степану домой, его уже ждут.
– Елена с обеда от печки не отходит. Пельмени вчера настряпали, так что давай быстрей гужуй коня, и ко мне. Я к себе в отделение, и сразу до дому. Лады?
– Лады!
Глава 2
За ночь конвой сменился, начальником караула заступил старшина Тыжняк. Циклоп, как только увидел красную разъевшуюся рожу начкара, со злорадством изрёк: «На ловца и зверь бежит». Жмых тоже многозначительно ухмыльнулся.
Шагая привычным строем в гору, Огородников сквозь хриплый кашель Жмыха услышал несколько запоздалую реплику: «В масть легла карта, поквитаюсь заодно за Кузю».
Болтали про Тыжняка худое, будто самолично в тридцатых годах расстреливал арестованных: а правда то или неправда, кто его разберёт.
Но те, кто сталкивались с Тыжняком ближе – верили в подобные слухи о нём. На зоне начкар также славился особой жестокостью по отношению к заключённым. Очевидно, и Циклоп, и Жмых имели возможность лично в этом убедиться, иначе, чего ради носить столько времени личную неприязнь к седеющему, сохранившему молодцеватую подтянутость мужику. Ещё болтали, что Тыжняк прошлым летом принимал участие в поимке нескольких беглецов: так вот, из шестерых – два зека были на его счету. Скорее всего, среди тех и был Кузя, кто знает?
В последних числах марта ночь растворяется непривычно рано, и морозы отпускают: термометр показывает чуть ниже минус одиннадцати.
– Вот были бы такие зимы, – мечтательно сказал Веня Поллитра, закатывая глаза, бормоча что-то под нос и шумно, с присвистом дыша. Впрочем, все тяжело дышат. Для заключённого ГУЛАГа протопать две-три версты -задача не из лёгких. Конечно, многие и больше выхаживали в этапах, но каждый этап в какую-то минуту начинал казаться последним в жизни.
В эту ночь Огородникову снились кошмары: удивительным было то, что он давно не видел снов, не связанных с едой. Заключённый днём думает о еде много, но не постоянно: дневные хлопоты частично вытравливают животное желание закинуть в желудок что-нибудь съестное. Ночью человек во власти голода, он уже ни о чём другом думать не может, он постоянно думает только о еде. Слабость и отчаяние становятся неотъемлемыми попутчиками зека. В таком состоянии редкий зек принадлежит себе: его воля, его дух, его мысли принадлежат «хозяину» лагеря.
Последнюю неделю, вечерами Огородников не досыта так, но весьма ощутимо харчевался в кругу блатных. Оттого и желудок заработал по-другому. Сегодня в столовой, прокручивая в памяти обрывки непонятных, тревожных сновидений, хлебая баланду, разведённую из кислой почерневшей капусты, нашёл объяснение снам: похоже на то, что его в эти дни не просто так подкармливали с воровского стола. Кормёжкой его, похоже, подкупали: чтоб держался веры авторитетов, не побежал «стучать» за обещанную в таких случаях пайку хлеба да и в нужный момент нашёл силы на самый отчаянный рывок в своей жизни. Нельзя сказать, что неожиданно посетившее прозрение всколыхнуло как-то Сашку или покоробило, или заставило по-особому посмотреть на всё происходящее вокруг. Лагерная жизнь, очевидно, вносит свои коррективы в характер человека. Мысли о том, что его, Сашку Огродникова, просто используют в своих интересах воры, родившись, почти тут же утонули в водовороте других, более насущных и важных проблем. Ему ничего не оставалось, как ждать. В этом ожидании таилась и надежда: а вдруг и впрямь всё выгорит, и он тоже с ними уйдёт в бега?
Показался поворот на деляну. Сашка-пулемётчик обернулся: рассчитывал увидеть Михася, заодно прощупать его настроение. Бдительный Тыж-няк опередил:
– Не задерживать наряд. Быстрее, быстрее. Не оглядываться, в разговоры не вступать, – последние слова захлебнулись от быстрого шага.
Пологий склон выровнялся. Знакомая трелёвочная дорога уводила в густой сосновый лес. Лесозаготовительный участок, который оставили вчера, встретил спокойной тишиной. Недели две назад инструмент по негласному разрешению начкара стали прятать в глубине расчищенной площадки. Раньше Бычковский успевал вовремя подвозить на вознице необходимый инвентарь, работа начиналась без задержек; нынче и количество мелких бригад увеличилось, и расстояние между делянами вдоль будущей железной дороги выросло. Вольнонаёмный едва поспевал за работой лагерников. Огородников и ещё двое зеков в сопровождении конвоира с собакой притащили инвентарь. Костёр для охраны уже разожгли. Тыжняк проверял крепость кольев с вешками. Вернулся с таким лицом, будто животом мается.
– А ну, шагайте к сосёнкам. За работу надоть! – подавив зевок, скомандовал он.
– Гражданин начальник, это лиственницы, – подсказал неугомонный Веня Поллитра – Один кубометр равен трёмстам литрам чистейшего.
– Поговори у меня ещё… Членоплёт… Чистейшего! Лучше о чистоте души думай.
Заключённые разбрелись по участку. Сегодня на работу их вышло тринадцать. Один, повторник, не смог подняться с нар: утащили в лагерную больничку ещё до завтрака. Думали: притворяется, выяснилось – аппендицит. Напарник бригадира Шипицын, сорокалетний неразговорчивый мужик, в прошлом корреспондент областной газеты, за работу взялся рьяно. Видимо, таким образом глушил подкатившие воспоминания о доме, о родных. Такое и с Огородниковым случалось частенько, особенно в первый год мытарств по зонам. Со временем он приноровился не будоражить в себе гнетущие воспоминания и не давать им растравливать и без того уставшую душу.
Огородников сидел на раскорчёванном пне, наблюдал, как вяло машет топором Шипицын, старался ни о чём не думать. Так бы и сидел до вечера, однако впереди замаячила широкая тень Тыжняка.
– А ну встать. Я шо сюды ноги выламывал, шоб вами любоваться?
Тыжняк единственный на памяти Сашки, кто так рьяно стерёг общегосударственные интересы, не спуская всевидящего ока с заключённых. Свою должность он, наверняка, воспринимал не иначе как божий дар, ниспосланный высшими силами. Ведь не выламывал комедию старшина, когда в тридцатиградусный мороз неожиданно останавливал заключённых после бани, заставлял прямо на улице вновь раздеваться до исподнего, которое не у всех арестантов имелось, и проводил с надзирателями шмон. Прямо на снегу, во дворе, между бараками. Сашка дважды попадал на такие экзекуции. Думал, окочурится, но нет – промахивалась костлявая. В который уже раз. Значит, не пришло его время.
Стук топоров ломал тишину. Слева, ближе к низине, заработали пилой – Веня Поллитра да молодой украинец Критько. Огородников подменил выдохшегося Шипицына. Топор в руках, словно налитый свинцом: в плечах ломота, зов к работе, иногда захватывающий натуру, напрочь отсутствовал. Неотвязные мысли о побеге наводили тревогу и смятение. «Без меня меня женили», – в который раз со злостью подумалось Ого-родникову.
Пользуясь правами бригадирства, он обошёл площадку. Все на месте, все в работе. Конвойный с собакой крутится неподалёку. Сашка-пулемётчик украдкой пригляделся к нему. Молодой парень с монгольским лицом, глаз почти не видно.
– Слышь? Курить есть? – окликнул он конвойного. Солдат насторожился, натянул поводок, овчарка мгновенно учуяла нерв хозяина, взбрехнула отрывисто, словно нехотя.
Вместо солдата ответил непонятно откуда появившийся старшина:
– Я те щас закурю. Говно вражеское. Давай шпиль к своему месту. И оттуда только с моего спросу ступай. Усёк?
Старшина очень любил порядок. И, конечно же, собственную жизнь. Достаточно рослый, он с поразительной лёгкостью перемещался по деляне, ничего из вида не упуская и подмечая несущественные детали. Увидев утром в колонне Михася, удивился всерьёз, всем видом скрывая затаившиеся подозрения. То, что он пойдёт вечером в оперчасть делиться закравшимися подозрениями, не вызывало сомнений. Появление в бригаде урки такого уровня не останется без внимания лагерного начальства. Догадавшись об этом, Огородников сник. Вот отчего он сейчас не мог думать ни о чём, кроме как о возможном побеге. Проходя мимо Циклопа, поймал его призывный взгляд. Сам Циклоп делал вид, что срубает ветки со сваленной древесины. Сашка видя, что за ним наблюдает старшина, нарочито громко начал давать указания незадачливому лесорубу. Якобы не выдержал, потерял терпение, выхватил у того топор:
– Сколько раз показывал вот так надо, вот так!
У Сашки выходило ловко. Сучья от сильных ударов топором отлетали с хрустальным звоном.
– Понял?
В глазах Циклопа бесноватые искры – лицо неподвижно от напряжения.
– Понял, – говорит нарочито громко, а сквозь сжатые челюсти, шипит: – На обратном пути, у дальних штабелей, задержись. За брёвнами Жмых. Ему нужна спина старшины.
Огородников глазами дал понять, что понял, о чём просит Циклоп. В голове гулко задвигались лихорадочные мысли, нервным током пронизывая всё тело.
«Кажется, всё. Обратной дороги нет», – растерянно, как о чём-то далёком, подумалось ему. За те несколько суток, что прошли с момента, когда он узнал про побег, именно узнал, а не догадался, он неоднократно представлял себе всё до мельчайших подробностей. Фронтовой опыт и богатое воображение не единожды рисовали картину побега. Детали представлялись в подробностях и размывчатыми одновременно. Потом Сашка осознал: если б побег висел на его плечах и зависел бы хоть в чём-то от него, он бы миссию провалил. Осознание пришло неуютным гадким чувством, как открытие. Как изнанка, как невидимая сторона его сущности, скрывавшаяся для него самого до этой минуты.
Он поравнялся с древесиной, уложенной штабелями, остановился. Замер, выглядывая, как нашкодивший школяр. Минута текла медленно. Может, Тыжняк забыл про него? Ушёл на другой край деляны? Нервы были напряжены до предела. Старшина появился, когда у Огородникова лопнуло терпение, и он вышел из укрытия. Старшина скорым шагом приблизился к нему.
– Шо, пятьсот двенадцатый!? Ты шо, думаешь, я так и буду ходить за тобой по лесу и выбивать охоту до работы^ – он не договорил.
Его что-то вдруг насторожило. Таилось в напряжённом взгляде Ого-родникова что-то недоброе. Тут Тыжняк услышал шорох за спиной. Он даже не успел развернуться, как почувствовал обжигающую боль в спине. Жмых дёрнул рукой второй раз, третий. Лица убийцы и Тыжняка почти соприкоснулись, ресницы поддёрнули друг дружку.
– Получай, сука, – негромко выдохнул Жмых в самое лицо начкара. Когда старшина стал заваливаться, повернувшись к Огородникову спиной, весь белоснежный тулуп сзади уже обагрился кровью. Старшина, вдруг упав на колени, схватил крепко за ноги Жмыха и повалил его в снег. На выдохе он, набрав воздух, громко заорал. Тут же с другой стороны деляны донёсся встревоженный лай овчарки. Непонятно, как учуяла опасность! Но ещё стучали топоры. Сашка-пулемётчик наконец-то сбросил оцепенение. Подскочил, обхватил руками голову Тыжняка и резко, как учили на войне разведчики, дёрнул вверх и в сторону. Раздался еле слышимый хруст, канонадой ворвавшийся в сознание Огородникова.
Зрачки Тыжняка мгновенно помутнели. Он ещё грузнее повалился на Жмыха, окончательно прижав того к земле. Жмых тяжело задышал, задёргался:
– Вот боров! Чуть жиром не придушил, – наконец выбрался из-под туши начкара. Вдруг свирепея, наливаясь яростью, схватил сук и со всего маху всадил в глаз Тыжняку. Это единственное, чем мог расквитаться зек за свои суровые тюремные будни с ненавистным служакой. Оказывается, Тыжняк ещё был жив: он судорожно дёрнулся несколько раз, засучил ногами. Огородников в эту минуту отчётливо уловил сухие хлопки выстрелов:
– Что это? Никак выстрелы двустволки?
Мгновенно сработала фронтовая выучка: вытащил из кобуры старшины пистолет и бросился к поляне. В лесу раздавалась автоматная очередь. Только выскочил на поляну, чуть было не попал под прицельный огонь конвоира. Собака сорвалась с поводка, лаяла где-то в стороне. Конвоир, тот самый молодой парнишка-монгол, как окрестил его про себя Сашка, стоял во весь рост и решетил воздух. На снегу виднелись трупы зеков. Сашка прицелился и выстрелил. Автоматные очереди смолкли.
Воцарившаяся тишина оглушила больше, чем работа оружия. Огородников вскочил и побежал в сторону, где захлёбывалась рычанием овчарка. Шагах в сорока – пятидесяти вниз по склону зверь и человек катались, сцепившись единым клубком, по снегу. Подпрыгнув ближе, Сашка дважды выстрелил в крупный бок собаки. Пёс забыл о добыче, взвыл жутко, забился в агонии. Зек скинул с себя пса. Это был Циклоп. Поддерживая окровавленную правую руку, он встал, тяжело дыша. Огородников точным выстрелом в голову добил невыносимо скулящего пса и бросился наверх.
Показались Жмых, затем Хмара, поднялся наверх постанывая Циклоп. Михась, подволакивая ушибленную ногу, подошёл с оставшимися в живых зеками. При этом безотрывно и как-то странно всё посматривал на Сашку, словно видел его впервые. Во взгляде плохо скрываемое беспокойство и уважительное восхищение.
Один из зеков, сначала показавшийся убитым, неожиданно зашевелился и, сплёвывая кровяные сгустки из провалившегося рта, попытался встать хотя бы на колени. Чёрный бушлат на нём пузырился внизу живота, и оттуда обильно стекала в снег кровь. Все в оцепенении наблюдали за ним. Хмара, поймав многозначительный взгляд законника, подскочил к несчастному и точным натренированным движением руки вырвал из груди раненого последний вздох.
– Не жилец всё равно. Только мучается, – как бы оправдывая свой поступок, сказал Хмара.
Все глянули в сторону костровища, там лежали убитые конвоиры. Пламя костра облизывало хозяйскую кучу хвороста: два стрелка лежали бездыханные, неуклюже распластав руки в стороны, словно каждый готовился сделать отчаянный прыжок в бездну. Огородников растерялся: он не мог взять в толк, как блатарям удалось именно этих двоих убить без потерь и без шума. Подошёл поближе, перевернул одного. Так и есть! Под левой лопаткой огнестрельная рана, запитанная свежей, ещё тёплой кровью.
Но кто мог стрелять?
Сомнений, что он слышал выстрелы нарезного оружия, не осталось. Осталось только прояснить, кому принадлежат столь меткие выстрелы, и увидят ли они этого человека. Огородников под недоумённые взгляды солагерников посмотрел на Михася, ожидая объяснений.
Глава 3
Шагая неторопливо центральным проспектом, Мансура вновь удивился тому, как разросся за последние годы райцентр. Вдоль улиц стояли не только деревянные дома: много кирпичных зданий – и высоких, и одноэтажных – красовалось повсюду. В низовье виднелись очертания грандиозного строительного комплекса: из нескольких труб, чёрными мачтами подпирающих небо, валил густой белый дым. Это шло строительство нового завода. Мансура знал, что там много японских военнопленных.
К вечеру заметно похолодало. Подходя к дому Лоскутникова, глянул в небо. Тучи волокло с севера. Верхушки сопок затянуло мглистой пеленой, ветер подтянулся, окреп. Мансура чертыхнулся, понимая, что метель завтра может его задержать в райцентре. Первые признаки весны исчезли с порывами промозглого ветра.
Степан помогал жене Елене накрывать на стол, когда объявился Ман-сура. Трёхгодовалый сынишка – Антип крутился у стола, детским умом смекая, что родители не просто так хлопочут на кухне. Антип на первый взгляд из-за копны тёмно-русых волос больше напоминал обликом мать. Степан Ефимович, по этому поводу как бы балагуря, упорствовал, призывая видеть в сыне черты только его породы. Елене хватало разумности такие разговоры обращать в шутку. В доме Степана царило радостное оживление.
– У нас по такому поводу пельмени и утка. С вашей охоты, когда вместе по осени ходили, – улыбалась Елена, нарезая ломтями душистый пахучий хлеб.
Лоскутников прошедшей осенью ездил в гости к другу: осенняя охота в сибирских лесах памятливая, всегда трофейная, впечатляющая. Мужчины переглянулись, вспомнив те вечера на берегу огромного залива, укутанные в сиреневые мягкие сумерки; затухающее сентябрьское небо, кое-где забрызганное ранними янтарными звёздами, неспешные разговоры за бутылочкой добротного самогона. До Николая тут же добрался усталый беспрерывный шум прибоя, навеивающий прохладу. Тогда рыбалка и охота выдались удачными.
Первые полчаса застолье, как и полагается, протекало в степенных расспросах о домочадцах, о важных событиях в семье, о делах на работе. Степан видя, сколь быстро устаёт от расспросов гость, намекнул жене нести жаркое, мол, гость от дороги не очухался, а его уже донимают разговорами. Выпили за встречу.
– Когда ждёте пополнение? – спросила Елена, подкладывая Николаю картошку.
– По срокам в июле-августе. Надеюсь, всё будет хорошо.
– Дай-то бог! Да ты не кручинься так заранее! Жена у тебя молодая, самое время рожать! – заговорил Степан, разливая самогон в рюмки.
Елена поддержала:
– И то верно. Мы, русские бабы, неприхотливые, стойкие. Сколько уж бед нас за эти годы обхаживало, ай, ничего! устояли ведь!
Стол у хозяев хлебосольный, пировать можно хоть до утра. Николай заметил это, едва прошёл на кухню. Хозяйка зарделась, довольная похвалой гостя.
Лоскутников женился в начале сорок шестого года: невесту привёл в дом из соседней деревни. Свадьбу сыграли скромную: больше для порядка, чем для веселья. В ту пору в районе голодно было. Второе лето подряд неурожай: до середины августа вёдро, земля трескалась от засухи, а к сентябрю упали ранние, но жгучие заморозки. Многие, не выдержав, с проклятиями уезжали из деревни. По этой причине один из родственников Степана перебрался в город. А чтоб добру не пропасть, ссудил за невысокую цену хозяйский пятистенок племяннику. Пятистенок был добротный, без хозяйского пригляда простоял недолго. Предложение от родственника пришлось тогда кстати – Степан только-только получил, можно сказать, неожиданное назначение в родные края замом начальника районного Управления оперчасти.
Жили скромно, но главное в любви и согласии. Елена по характеру -спокойная, неторопливая, всегда соглашалась с мнением мужа, полностью доверяя ему и не переча, и никогда не устраивая скандалы. По внешности Елена сибирячка, к гадалке не ходи. Статная, после родов немного округлившаяся, круглолицая, белокожая, лицо ровное, улыбчивое, кажется, вот-вот запоёт, настолько светлые глаза излучают жизнерадостность и открытость. Степан и Елена чем-то мимолётно схожи, как два родниковых живых ручейка, пробившихся к солнечному свету через земляные пласты. И говорила Елена бойко и быстро, словно вода журчит по камешкам.
Елена быстро рассказала, какие произошли новшества в их поселковой жизни за прошедшую зиму: больницу отстроили в два этажа, и светлую, и просторную, рожай – не нарадуйся. Садик и школу в Падуне для новых приезжающих грозились за лето достроить, и достроят, все видят, как работы ведутся: и днём, и ночью. Нижнюю набережную на радость жителям стали облагораживать.
– Глядишь, когда шуга пройдёт на Ангаре, всем посёлком гулять будем прямо в парке, вдоль берега. А ещё говорят: клуб большой начнут вот-вот строить. Прямо как в Иркутске, а может, и того больше, современнее.
Николай слушал внимательно, искренне удивляясь тому, как быстро всё меняется в их, казалось бы, размеренной, неторопливой жизни. Ему действительно интересно было всё, о чём ведали словоохотливые хозяева. Иногда недопонимая, о чём именно рассказывают, переспрашивал, уточнял: Степан, удивляясь неосведомлённости, отсталости друга похохатывал, не забывая наполнять пузатые рюмки перцовкой. За столом царило душевное оживление. После нескольких рюмок Степан захмелел. Степан, вообще, всегда быстро хмелел, чем не раз вызывал у сослуживцев насмешки. Захмелев, Степан стал чаще выходить курить, зазывал Николая. Вдвоём-то веселей. В глазах хозяина заискрились бусинки, волосы спутались соломенной копной: Степан мигом стал походить на того мальчишку, с каким много лет назад познакомился Мансура.
Белое крошево беспрерывно кружилось в снопе фонарных лучей. Ветер практически не смолкал.
– Вроде и весна на дворе. А холодно! – с грустью сказал Лоскутников. -Одно слово – Сибирь! Климат у нас здесь капризный. Пошли в дом!
«Что ж, – размышлял Николай, сидя за столом, – придётся переждать метель у товарища».
Улеглись за полночь. За окном протяжно завывал ветер. Метель разыгралась нешуточная, словно захмелевшая баба.
Глава 4
Всю ночь метель хороводила с неугомонным отчаяньем; окна то и дело вздрагивали, пропуская заунывный свист ветра. Мансура пробудился первым и, только открыл глаза, сразу почувствовал в себе непорядок: вроде и спал крепко, но сон был хмельной, а значит, неправильный, не приносящий телесной радости. Он, растравливая чугунное состояние, всё-таки выбрался из-под одеяла, посидел несколько минут в тиши, прислушиваясь к дому. Тихо. Прошёл в горницу. Лоскутников проснулся немного позже и, по всему видно, чувствовал себя ничуть не лучше.
– Неплохо всё-таки посидели, – подытожил вчерашнее веселье слегка осипшим голосом Лоскутников, припадая к ковшику, в котором плескалась прохладная водица. Сделал несколько шумных глотков. Отдышался: – Вот тока голова что-то в последнее время гудеть стала по утрам. Раньше не хворал с пол-литра.
И потом, глянув в окно, ругнулся:
– Эх, Сибирь-матушка! Нынче неймётся ветрам. Свищет и свищет! Скорей бы уж отпустило.
В висевшем на кухонном шкафу зеркальце Лоскутников критически осмотрел собственное отражение, оно ему явно не понравилось: помятый, взлохмаченный, проступившая щетина придавала потрёпанный вид. Он взял с печки ещё тёплый чайник, полотенце:
– Пойду в баню, бриться.
По его выступившим напряжённым скулам заметно, как перекатывается внутри похмелье, но внешне крепится, не подаёт вида. Вернулся он минут через двадцать, оживший и посвежевший. Завтракал, правда, немного суетливо, вскидывая взгляд на настенные круглые часы, – не опаздывает ли на работу?
Собрался быстро – сразу видно, человек военный, с дисциплиной в ладах.
– Отсыпайся, – вроде как с завистью сказал Степан другу, накидывая полушубок. – К обеду жди.
Оставшись один на гостевой половине дома Мансура, как договорились, затопил печь. Дом выстудился не сильно, и поэтому вполне хватит двух-трёх охапок. Лоскутников вчера шибко нахваливал то печь, выложенную ещё по ранней осени, то седобородого печника и всё сокрушался, что печник был не из местных. Вроде как с Украины, из вольнонаёмных. А сокрушался Степан потому, что среди местных таких мастеров днём с огнём не сыщешь. Дескать, захирел русский мужик в глубинке. Скоро печи выкладывать некому будет. И это в Сибири! Где изба и русская печь -основа благополучия и процветания любой сибирской семьи.
Елена с сыном ещё спали. Чтобы хоть как-то занять себя, достал из вещмешка аккуратно сложенные документы: ему ещё вчера хотелось ознакомиться с месторасположением новых участков делян, да подходящего момента не выдалось. В выписанных документах разобрался быстро. Как и предполагал Николай, границы участков под вырубку лесных массивов обозначались далеко от населённых пунктов.
На карте замелькали знакомые названия деревень, окрестностей, вот река, берущая начало недалеко от Иркутска. В большинстве участки опутывали ветку железной дороги. Николай мысленно перенёс себя в те далёкие непроходимые дали, как бы увидев (с высоты птичьего полёта) бесконечное, переливающееся изумрудно-зелёное море листвы, затянутое дымкой. Это сколько же предстоит пройти по тайге, чтобы разметить указанные участки! Масштабы грядущей работы невольно завораживали. Сложив все бумаги обратно, Мансура неожиданно затосковал. Ворохнулись переживания за Алёну, что осталась дома одна. Настроение сразу затуманилось. Но вскоре в детской раздались голоса. В горницу вышла выспавшаяся, улыбчивая хозяйка, держа на руках сонного сына. Мансура сумел отвлечься от грустных мыслей, взяв Антипа на руки.
От печи уже плыло ощутимое ласковое тепло. За неторопливым разговором Елена приготовила завтрак. Николай с удовольствием плотно поел, чувствуя, как освобождается организм от тяжёлого похмелья…
К обеду Лоскутников не появился. Тогда Мансура решил развеять себя прогулкой до конного двора – проведать и заодно покормить Лорда. А на обратном пути заскочить в продуктовую лавку: не злоупотреблять же радушием товарища?
Ветер мелко семенил по подворотням и закоулкам посёлка, осыпая землю молочной крошкой. Тучи стояли низко, неподвижно, словно не знали, куда им плыть. Однако молочно-серая мглистость в небе понемногу становилась прозрачней, невесомей: явный признак скорой перемены погоды.
Когда-то здесь, на окраине села, где раскинулось рядом с рекой конное подворье, кипела жизнь. Нынче пустынно: небольшая территория прямоугольной формы, огороженная изгородью. На дальней стороне -сколотый из досок высокий сарай: строение, потемневшее от времени, с прохудившимися стенками. Тот век, когда лошадь была основой крестьянского хозяйства, уходил неотвратимо в прошлое. Мансура откинул одну из жердей, направился к сараю. Дубовая дверь оказалась незапертой. Лорд почуял хозяина издали. Выпрямил длинную мощную шею на звук шагов, рыжая холка, кажется, заиграла цветом ярче, хотя под крышей стояла полутемень. Возле коня – ворох свежего сена: дед Мазай свою работу знал и любил. В дальнем углу тихо всхрапнула кобылица, которую Мансура из-за слабого света, едва пробивавшегося сквозь щели, сразу не заметил.
– О-о, да ты тут, оказывается, не один, – заговорил Мансура, трепля Лорда за холку. Кобылица настороженно смотрела из темноты большими чёрными умными глазами, внимательно следя за действиями человека. Тут слева блеснула полоска электрического света. Из каптёрки выглянула седая, густо обросшая голова деда Мазая. Почему его так звали, вряд ли кто в поселковом центре сейчас мог рассказать. Он и сам, наверное, забыл то время, когда к нему обращались по имени-отчеству. Слишком давно это было. Накидывая на ходу овечью безрукавку, дед Мазай покинул уютное тепло каптёрки. Низенького росточка, кривоногий, дед не шёл, а словно катился по земле, как калач, напоминая сказочного персонажа из детских книжек. Белое румяное лицо выражало добродушие. Дед Мазай моргал часто глазами, стараясь быстрее привыкнуть к темноте. Наконец разглядел Николая.
– Доброго дня! – учтиво поздоровался он. – Я уж подумал, не посторонний ли кто проник на конюшню. А потом думаю, может, внук прибежал. Он со школы любитель стал убегать да сюды ко мне. Ругаю его, да что толку.
Чувствовалось, деду осточертело коротать время в одиночестве, вот живая душа объявилась, так хоть наговориться вдоволь. Николай обратил внимание на кобылицу:
– К утру с Вихровки приехали. Тоже в непогоду попали, будь она неладна. Здесь решили переждать, у знакомых. К вечеру, однако, ещё много народу прибудет, вот жду. А твой скакун спокойный, поначалу думал, ноздрями запрудит, почуяв охлобыстую. На удивление выдержанный, соображает.
Поговорив с дедом Мазаем ещё полчаса, уже успев заметно устать от нескончаемой болтовни сторожа, пошёл в посёлок обратно. Райцентр всё больше обретал черты города. Старые, почерневшие за столетнюю службу избы встречались только на окраинах, ближе к центру стояли деревянные дома в два этажа, облагороженные тёсом.
Несмотря на пустынные улицы, в магазине очередь из нескольких человек. Похоже, для сельчан магазин являлся чуть ли не единственным местом, где можно было узнать все последние новости. Осветлённая под блондинку продавщица и голосом, и манерностью старалась всячески походить на городскую паву. Обслуживала она неторопливо, часто вступала в необязательные разговоры с покупателями. Видимо, в очереди все знали друг друга. Мансура уловил впереди разговор двух мужиков. По их одежде нетрудно было догадаться: лесорубы, только выехали из деляны, закупаются.
– Вчера из Анзёбы пол-лагеря разбежалось. Слыхал?
- ???
– Многих, говорят, постреляли сразу, но многие, говорят, ушли в леса.
– Вот насочиняют! У нас тут что? Как в крымских степях что ли? Думаешь, можно по лесам шастать, и уши не обморозить! Вон даже сегодня выйди и постой-ка с полчасика на крыльце!
Мансура догадался: мужики-лесозаготовители работают на делянах -там подобные слухи распространяются со скоростью ветра. Какая-то необъяснимая тревога чёрным клубком шевельнулась внутри.
Ещё Мансура подумал о том, что стоило бы расспросить у них о подробностях. Впрочем, откуда они могут знать подробности? Вот кто наверняка уже осведомлён про побег из лагеря, так это Лоскутников. Может, поэтому и не пришёл на обед? Вечером вернётся с работы и всё расскажет!
Лесозаготовители разделились на две группы: та, что моложе сгрудились у окна и продолжали громко обсуждать последнюю новость, двое, что значительно старше, закупали продукты и водку.
Парень из молодых, заметно выпивший, обозлившись на какой-то негромкий смешок одного из товарищей, вдруг вспылил, крепко выругался, продавщица прикрикнула на него:
– Фёдор, опять нализался с утра пораньше. Сейчас милицию вызову. Вот что за народ!? Только из лесу выйдут, как сразу нажираются. Степаныч, забирайте охламонов своих, и с глаз долой. Ей-богу, милицию вызову!
Решительность хозяйки магазина вызвала насмешки и у Фёдора, и у его товарищей, кроме тех, что уже практически уложили купленные продукты в мешки. Среди них, как оказалось, и был Степаныч. Фёдор угрожающе посмотрел на продавщицу. Напугать её страшно округлившимися в немой злобе глазами не получилось. Девка оказалась бойкой. Намечался скандал. Серьёзный. Мансура дотронулся до локтя мужика, которого продавец назвала Степанычем.
– Действительно, попросите вашего… знакомого прекратить материться на весь магазин. Люди кругом.
Степаныч сначала глянул на Мансуру, потом на своего распоясавшегося знакомого. Когда посмотрел на Фёдора, тот мгновенно смолк, голова утонула в воротнике бушлата, плечи потеряли размах. Бригада лесорубов в надвинувшейся тишине покинула магазин. Последним выходил Сте-паныч. Тёмно-русая борода делала его лицо добродушным, улыбчивым, хотя через бороду не разглядеть – улыбается человек или хмурится.
– Извините, – громко сказал он, цепко вглядываясь каждому в лицо. Ершистый, на внешность, он, однако, выказывал серыми мягкими глазами внутреннее душевное спокойствие. С видом полного достоинства вышел.
– Хорошо, что хоть Савелия Степаныча уважают, – вздохнула женщина, всё время молча наблюдавшая за происходящим.
Кто-то за спиной сказал беззлобно, как о пережитом:
– Ну да, если ещё таких, как Степаныч, перестанут бояться, нам вообще тогда кранты будут.
Спустя минуту все уже забыли про бригаду лесорубов. Будто не было их в природе. Подошла очередь Мансуры. Вблизи продавщица оказалась не такой уж привлекательной и молодой. И взгляд у неё – дерзкий, блудливый. Мансура купил вино, папиросы, конфеты сынишке друга, хлеб: в последние разы по приезду в посёлок Николай всегда покупал хлеб из местной пекарни – уж больно вкусный: пышный, ноздреватый, с прожаренной корочкой. В деревне такого у них не пекут. Продавщица опять окатила его волооким изучающим взглядом. Рассчитавшись, Мансура вышел из магазина. Сразу обдало резвым морозцем. Мансура вспомнил бригадира лесорубов: наверняка, из бывших заключённых, остался здесь на спецпоселении. Таких нынче здесь много.
Об истинных масштабах лагерных зон, или, как принято говорить в его окружении, исправительно-трудовых колоний, а вернее, их численности, Мансура узнал только на совещании министерства в области. Когда всех молодых инспекторов лесоохраны собрали в Иркутске для прохождения аттестации. И то, как потом выяснилось, ни преподаватели с научными степенями, ни сотрудники органов безопасности – никто цифрами не оперировал, любые сведения округлялись, статистические данные больше наводили тумана, чем давали конкретику. На строительстве железной дороги было много трудностей. Одна из них – нехватка рабочих рук. Отчего, судя по разговорам, и строительство шло с бесконечными нарушениями графиков. Увеличивавшееся количество лагпунктов и лагерей должно было разрешить эту непростую задачу. Обо всём этом на бесконечных совещаниях, разумеется, открыто не говорилось. Даже намёков боялись: очень свежи ещё были в памяти предвоенные чистки партийных рядов.
Идя к Лоскутникову, Николай размышлял: можно ли говорить на такие темы со Степаном. Лагеря, заключённые, охрана заключённых, побеги, преследования – это же его епархия.
Мансура давно заметил: Лоскутников о своей работе не распространялся. Очевидно, имелись причины.
Метель утихала. Подступавший вечер давил унылостью и тишиной. Воздух наливался холодом.
«Наверняка, последние морозные ночи в эту зиму», – устало подумал Мансура, наблюдая, как уличные фонари вспыхивают матовыми шарами, раздвигая непрошеные сумерки.
Глава 5
Михась, избегая вопросительно-недоумённого взгляда Огородникова, отвернулся в сторону леса. Почти тут же из густого обнесённого снежным инеем ельника вышел мужчина среднего роста. Одет он был ещё по-зимнему: серые подвёрнутые на голенище валенки, ватные штаны, тёмный полушубок на овечьем меху, добротная собачья треуха – так одеваются в этих местах либо местные жители, либо вольнонаёмные. В руках видавшие виды ижевка*. При беглом взгляде можно было мужчину принять за охотника, но что-то Огородникову подсказывало, что это не так. Между тем Михась и охотник обнялись. Остальные блатари поочерёдно подходили к нему, учтиво здоровались, только Циклоп, очевидно, зная человека лучше остальных, обнялся с ним крепче.
– У нас полчаса на сборы. Собрать шмотьё, оружие, ждём возницу с обедом, – тёмно-русая густая борода скрывала черты лица вольнонаёмного охотника, одни глаза только и видно – пронзительно синего цвета. Судя по голосу, сочному и властному, лет тридцати пяти – сорока, не старше, да и держался он молодцевато, уверенно, выдавал команды с интонацией умудрённого жизнью человека. Огородников, наблюдая за поведением авторитетов, старался подмечать любые детали, которые могли пролить свет на его дальнейшую участь. Два года, проведённые на зоне, научили одному незыблемому правилу: никому не верить! Ворам тем более. Может, поэтому до сих пор и живой. Также настораживал тот факт, что Сашка не знал, как себя поведут воры вне колючей проволоки. «Обещания в лагере – сквозняк на воле», – кто-то же не зря сказал… Одним словом, он ждал в любую секунду от них подвоха. И наблюдал за ними.
Вот бывают же перипетии судьбы: каких-то полчаса назад Сашка-пулемётчик проклинал всё вынюхивающего старшину Тыжняка, а теперь сам сподобился ему, с той лишь разницей, что на его плечах отсутствовали ранжирные погоны и среди его «попутчиков» должностей никто не имел. Кроме одной на всех – заключённый. Сашка понимал: для него сейчас наступают самые важные минуты в жизни. Для него и ещё четырёх сидельцев, которые, выходит, стали не по своей воле соучастниками нападения на конвой и заложниками происходящего. Они стояли чуть в стороне, напоминая согнанных в отару баранов.
Вольнонаёмный и Хмара пошли вниз стеречь возницу. Шли они размеренной, даже усталой походкой в весёлом расположении духа, громко обсуждая расправу над стрелками. Ну прямо как два мужика с сенокоса. Жмых принялся обшаривать трупы конвойных. Михась присел у костро-вища, достал кисет, махнул мужикам, подзывая к себе.
– Лепить горбатого не буду! Пустая трата времени! Забери, пацан, себе махру! Стар я для такой гадости! Сами понимаете, наши дорожки отсюда вразбег! Если хотите, вас ещё гуртом выведу до железки, а там каждый своей тропой.
Шипицын зло посмотрел сначала на бригадира, потом на законника:
– А предупредить нельзя было?
– Ша, говорю! Предупредить. Ты же первый и побежал бы стучать. Предупреждённый.
Веня Поллитра, понимая, на что намекает законник, с откровенной презрительностью посмотрел на Щипицына, который многозначительно хмыкнул. Лишь Завьялов оставался безучастным.
Вернулся повеселевший Жмых, уже напяливший на себя армейский полушубок и шапку, с папиросой в зубах.
– Трофейные, – загоготал он неприятным низким голосом. – Что такие унылые, граждане уголовнички? Радоваться надо! Свобода, мать её за ногу! Сколько дней сидел, мечтал о ней, ненаглядной! – за дурашливой болтовнёй скрывалось состояние, которое испытывает человек после нервного перенапряжения. Неестественная расхлябанность Жмыха слишком бросалась в глаза, чтоб её не заметить. Михась, глянув в его замутнённые зрачки, поморщился. Мужики топтались на месте, подавленные, испуганные. Огородников понял, что некоторые ждут его реакции.
– Дайте нам поговорить. Толпой всё равно ничего не решим.
Гаврила Матвеевич, здесь либо пан, либо пропал, – начал без предисловий Сашка-пулемётчик, как только остались они вдвоём. – После такой бузы мне с мужиками в одну упряжку никак не влезть. Тыжняк-то на мне и. этот, – оба коротко глянули на распластанного в нескольких шагах вохровца-монгола.
Михась шумно дышал, сосредоточенно думая о своём.
– Дойду с вами до железки или до города, там, ясен пень, разбежимся каждый в свою сторону, – говорил он спокойно, без напускной уверенности, но и не заглядывал заискивающе в глаза вору, не елозил лапками, понимая, что Михася этим дешёвым номером не проймёшь. В то же время всем своим существом давал понять законнику, что он созрел в конце концов к побегу. Но к побегу решительному и настоящему, и никак не в одиночку, и тем более не с политическими.
– Видишь, как быстро всё решил. А мне вот так думается! Вас с собой брать надобности никакой. Но и запрещать идти в бега не имею права. Не по нашим законам получается как-то. Вот так в лесу, понятно, тоже оставить не можем. Побегут в лагерь, настучат. А нам время нынче нужно, чтобы в дамки попасть. Нынче доброта может дорого обойтись!
– Что предлагаешь? Не убивать же людей только за то, что оказались случайно на деляне?
– Остепенись, фраер. Не за тех мазу держишь. Вот насчёт тебя можно ещё порешать, а за остальных впрягаться никто не будет.
Огородников действительно растерялся: на мгновение показалось, что Михась шутит, что вот-вот рассмеётся, скажет: мол, никто никого убивать не собирается. И разойдутся все спокойно в разные стороны. Однако от Сашки не ускользнуло и то, как всё задумчивее становился Михась. Сашке даже показалось, что в потемневших зрачках законника прочитал созревшее решение – избавиться от ненужных свидетелей.
Вот здесь Огородников уступать не собирался. Это как дважды два: сначала уберут фраеров, а потом воспользуются случаем и прикончат его.
– Дай подумать! – Михась и впрямь не знал, как поступить.
Недалеко переминался Циклоп, левой, здоровой рукой, держался за искусанную руку. Правый рукав телогрейки, разорванный в клочья, на глазах темнел в цвет перезрелой рябины. На бледном лице застыло выражение боли. На него никто не обращал внимания. Все погружены в собственные переживания. Сашка словчил: сделал вид, что проявил сочувствие к раненому. Разорвал на убитом вохровце белую исподнюю рубаху и перебинтовал вору руку. Укусы оказались глубокими, и вряд ли организм справится без медицинской помощи. Вслух Сашка ничего не сказал. Ему показалось, – и ворохнувшаяся темень в глазах урки тому подтверждение -Циклоп о себе подумал также. Однако блатной вынужден был храбриться: выбор-то невелик. У воров законы волчьи.
С дороги послышался скрип возницы. Спустя пару минут показалась телега. В ней сидел с самым беспечным видом Хмара, поигрывал большим ножом, рядом широко шагал вольнонаёмный. О судьбе нормировщика спрашивать было глупо. Блатари сгрудились, что-то обсуждали вполголоса.
За это время Сашка успел переговорить с взъерепенившимися заключёнными, которые не знали, как поступать с навалившейся неожиданно, и совсем некстати, свободой. Ярились больше всех Щипицын и молодой парень Андрей Завьялов. Шипицын – понятное дело, по натуре трусоват, с гнильцой, слова дельного не услышишь от него, из «интилихентов». Двадцать пять мотает по политической. С Завьяловым сложнее: бытовик, срок – десятка, по меркам лагерников «счастливчик», пять уже отсидел. Ему этот побег, что кость в горле. Ещё были Веня Поллитра и парень татарской внешности по кличке Белеш. Эти двое отмалчивались, прекрасно понимая, чем может всё закончиться для них, если будут столь откровенно и рьяно высказывать недовольство…
Со стороны могло показаться, что блатные в разговоре совсем потеряли интерес к мужикам, но Огородников знал, что это не так, и поэтому, предполагая от них пакость, вновь схитрил: встал за Белешем и Завьяловым, автомат держал наизготовку. Пару раз ловил беглый настороженный взгляд Михася.
Шипицын принялся высказывать претензии бригадиру, называя всё не иначе как «беззаконием» и «самосудом». Его слушали без особого внимания: все мысли крутились вокруг того, как сложится всё дальше. Ситуация выглядела более чем сложной. Не все, похоже, понимали щепетильность момента; вот чего точно не стоило сейчас ворошить – искать виноватых и лезть на рожон. Огородников уже прикидывал, хватит ли у него сил, считай, в одиночку, молниеносно расправиться с блатными? Шансы, хоть и мизерные, но есть, а там, будь что будет…
Между тем Михась перекинулся несколькими фразами с вольнонаёмным и, словно укрепившись в своём решении, шагнул к фраерам. Шипи-цын, увидев приближающегося вора, трусливо замолк и отвернулся, поджав вздрагивающие тонкие губы.
Михась был короток:
– Повезло вам сегодня, фраера. Очень повезло! Насилу никого тащить не будем, но и оставлять здесь тоже никого не оставим. Решайте сами! -Михась тяжёлым взглядом обвёл солагерников. Несмотря на то, что Веня Поллитра был близок к блатному миру, Михась не удосужился выделить его из заключённых. – Через десять минут уходим. Берите кому что надо. В телеге хавчик, перекусите. Только быстро.
– А завтра можно будет уйти одному? – робко спросил Завьялов.
– До завтра ещё дожить надо. Напоминаю, времени мало.
Все, кроме Сашки, пошли к вознице. Никто вслух больше не высказал недовольства. Неожиданно Михась попридержал Завьялова:
– И слышь, молодой! Бурки перекинь. В телеге найдёшь! – вдогонку просипел ему вор, приметив растрёпанные валенки на ногах зека.
– Что со мной решили? – сразу спросил Сашка-пулемётчик, пока Ми-хась стоял рядом.
– А что решили? Пока идём, там видно будет. Рука Циклопа как?.. Плохо?.. Ну, значит, пулемётчик, под богом ходишь. Везунчик!
Огородников, может, впервые в жизни перекрестился. Правда, тайком. Не хотелось, чтоб кто-то увидел. Везунчиком он себя и сам считал. Но боялся сглазить, поэтому сплюнул, а подумав, перекрестился. Спускаясь к дороге, увидели убитого нормировщика. Его тело урки даже не удосужились скинуть в снег, на обочину дороги.
Глава 6
По лесу передвигались гуськом. Проскочили трассу именно в том месте, где следы с дороги практически не различались, и сразу углубились в заснеженную тайгу. Предводительствовал вольнонаёмный, который брёл первым. По его степенной уверенности, хозяйской раздумчивости сомнений не оставалось: здешние места знает, выведет. Вот только всех ли?
Огородникова поставили замыкающим. Так решили на коротком тол-ковище в густоте соснового пролеска, вернее, решил Михась, и воры его поддержали. Настрой некоторых зеков не ускользнул от внимания законника. Да и Сашка тоже испытывал противоречивые чувства по отношению к Шипицыну и Завьялову, до конца не понимая, что с ними делать дальше. Поэтому блатные поставили его последним. Хмара и Жмых настаивали на расправе. Сашка, не выпускавший автомат из рук, сказал: нет. Воры вспомнили, как он действовал на деляне. Быстро представили возможные последствия, если будут дальше настаивать на ликвидации «случайных» беглецов.
– Разбирайся с фраерами сам, – подытожил тяжёлый разговор Михась, давая понять: случись что – крайним останешься ты. На удивление, первое время шли резво.
Где-то через час сноровистого хода и Щипицын, и Завьялов сменили молчаливое сопротивление и теперь неслись по сугробам не хуже остальных. И вот уже им начинало казаться, что отрываются они от предполагаемой погони невероятно быстро.
Определённо, и удача на их стороне, и проводник имеется, и погода подходящая, и время года – весна, а весна, как известно, время отчаянных побегов. Воздух тайги кружил, наполняя немощный дух пьянящей свободой, а ослабленное тело драгоценной силой. Но Сашку-пулемётчика до сей минуты не покидало ощущение неотвратимости трагического конца. Как он ни увиливал внутри себя от серьёзного разговора с самим собой, какими бы оправданиями ни пользовался, чтоб отгородить себя от разъедающих нутро мыслей, он понимал – всё, происходящее с ними, просто судьба. Тут хоть голову пеплом посыпай, хоть изведись в истошном крике, а ничего не изменишь. Он, в отличие от других арестантов, словно ополоумевших от таёжного весеннего запаха и от осознания свободы, не разделял их радость. Его не покидало чувство, что эта свобода не его, она как бы украденная, а значит, чужая. Точно такие же мысли грызли его и в лагере, особенно в утренние часы.
Эх, если бы не весна! Эта она, проклятущая, взыграла-вскипела в крови, она замутила рассудок, она позвала-заманила на волю. Что говорить: время для побега выбрано самое удачное. Как пить дать, прежде чем решились на побег – всё просчитали скрупулёзно, с обстоятельной основательностью. Весна! А весна, как известно, наполняет воздух пьянещей свободой и необузданной силой.
До вечера их не кинутся искать. В ночь, конечно, не полезут в тайгу, побоятся. Да и что в темноте найдёшь? Будут ждать утра. А там уж как карта ляжет!
Во многих местах, где они шли, снега было мало. Может, оттого, что места выходили открытые, выветриваемые, а может, благодаря проводнику, который ориентировался в окрестностях, как лоцман в коварных заливах. Они взошли на первую сопку и обомлели. Здесь и небо казалось ближе, и воздух гуще, насыщеннее, и солнце ярче. Снег искрился и слепил до рези в глазах. И что особенно радовало: наконец-то косточки почувствовали долгожданное весеннее тепло. Сашка впервые понял выражение: видно как на ладони. Он загляделся на разверзнутые просторы под сопкой. Разлохмаченные изумрудно-зелёные долины с редкими проплешинами-полянами лоснились до самого горизонта. На вершине сопки обессиленные, распаренные от тяжёлой ходьбы, они все попадали в снег и довольно долго молчали. На разговоры сил не осталось.
Поднимался ветер со стороны сопок, запелёнатых в серебристо-мерцающий панцирь. Сначала ветер стелился низко и при ходьбе не казался таким пронизывающим. Отчасти спасали деревья. Потом ветер ушёл ввер-ха: макушки пихтовых сразу запузырились, застонали. Небо мгновенно стало темнеть: прозрачная хрустальная синь, будто устав дарить людям тепло и свет, сменилась в цвете – отяжелела серыми, грязными красками. Блатари, которые всё время шли немного впереди, как бы держась на расстоянии, нашли в себе силы подняться разом и двинуться всё также гуськом вниз по склону. Они безвозвратно приближались к выступающему лохматым чубом пролеску. Ещё немного, и зелень качающихся еловых верхушек поглотит человеческие фигуры, и, может, больше никогда Сашка не увидит нечаянных подельников побега. Похоже, это обстоятельство тревожило только его одного. Он резко встал: его подопечные даже не подавали признаков жизни.
Вот тут-то Сашка всё осознал окончательно. Он разом вспомнил взгляд проводника, озлобленную гримасу Хмары, полную презрения ухмылку Михася. Тогда он сказал, ни к кому не обращаясь и не упуская из вида маленькие фигурки растворяющихся вдали человечков:
– Если сейчас не встанем, передохнем здесь. Ещё немного надо пройти. Там еда и зимовье, – вдруг соврал Сашка, упомянув о еде и тепле, как единственной зацепке, способной хоть как-то растормошить отчаявшихся зеков.
Первым поднялся Веня Поллитра: худой, посеревший, открыл широко рот, показывая редкие сгнившие зубы:
– По мне, и здесь помирать блаженство. Всё одно не на нарах. Но вот чёй-то жить захотелось. Так что вставай, каторжане. У воров, правда, жратва имеется. Сам слышал.
– Вот они тебя ею и накормят от пуза. До беспамятства, – оскалился в беспомощной злобе Шипицын.
– Без базара, можешь оставаться тут, а других не подбивай, – не глядя на него, парировал Веня.
Взрослые, истрёпанные и жизнью, и лагерями мужики почему-то проснулись именно от слов Вени Поллитра, зашевелились, словно он каждому нашептал молитву, от которой в уставшее тело вливалась спасительная сила, а в истерзанную душу возвращалась надежда.
Ветер наседал. Они побрели след в след за исчезнувшими из вида блатными. Сашка думал: если кто не встанет, уговаривать не будет, уйдёт один или вон с Венькой Поллитра. Однако потянулись за ним все. Теперь он шёл впереди и старался переступать ногами как можно быстрее. Хотя, признаться, быстрее уже не получалось, и он просто шёл как шёл. Без мыслей, без оглядок, без рвения, лишь бы дойти вон до той валежины. От неё высматривал следующую валежину, пенёк или комель, вывернутый из земли, а потом ещё и ещё. В конце концов то остервенение, что подстёгивало его ещё несколько часов назад, тоже иссякло. Наступили минуты, когда он работал телом механически, потеряв все мысли и утратив все способности что-либо нормально воспринимать. Азарт побега растаял без следа, в отличие от следов, оставляемых на снегу.
В низине сумерки сдвинулись. Верхушки деревьев гудели, скидывая снежные охапки. Порой снег падал тяжело, с уханьем, который можно было принять за шевеления подраненного зверя. Заметно похолодало. Прошло немного времени, когда совсем измотанные беглецы догадались – начинается метель. Рассыпчатое крошево посыпалось сверху. Протяжный, усиливающийся то ли гул, то ли стон зашатался между вековыми деревьями. Осознание того, что они безнадёжно отстали от воровской группы, отняло последние силы. Тьма облепила их с такой плотностью, что даже лица рядом стоящих зеков угадывались лишь по очертаниям фигур. Все укрылись под кронами завалившейся невесть отчего сосны.
– Не надо было отлёживаться там, – прерывисто заговорил, сипло дыша и хватая всем ртом воздух, Веня Поллитра. – Здоровый раненного ждать не будет. Таков закон.
Привалившись спиной к стволу, Огородников не поддержал разговор. Он остро ощутил, как вытягивает остатки тепла промозглая сырость. Ноги, поясница, плечи наливались свинцовой тяжестью, живительного давления в жилах и сосудах явно не хватало, голова, отуманенная рассеяно-стью, будто уплывала, подхваченная свирепствующим ветром. Вспомнил с пронзительной горечью о хозяйском полушубке Тыжняка – снять тулуп с трупа побрезговал. И чего он своим чистоплюйством добился? Жмых не побрезговал, выходит, поумнее оказался. Вспомнился в полузабытьи и его прихлёбывающийся каркающий смех. Ещё сегодняшним утром он не предполагал вот такой конец своего земного пути. Рядом привалился Веня Поллитра. Мерцая зрачками, словно какой-то зверь, спросил про спички. К удивлению, спички были у многих – повытаскивали из карманов убитых конвоиров. Веня Поллитра полез за пазуху. Огородников вдруг уловил странный запах: так пахнет в скотнике от коровы, от лошади, ещё этот запах напоминал детство. Вспыхнула спичка, полыхнуло пламя: короткое, меньше чем на секунду. Силуэты каторжан вынырнули из темноты, и тут же слились с ней. Красные искры снежинками разлетелись по ветру. Веня Поллитра весь день за пазухой хранил клочок сухого сена, и каким умом догадался прихватить клочок из телеги несчастного нормировщика, пойди, догадайся!
– Для доброй лучины береста нужна, ветки сухие, – голос шёл из горла Вени Поллитра перекатами, словно каждый звук расталкивал плотины, чтоб вырваться наружу, достать до слуха собеседников.
– Точно-точно! Для верности сушняк нужен, тогда получится распалить, – отметился суждениями Белеш.
– Где в такой темени что найдёшь, – в отчаянии, преодолевая озноб, проговорил Завьялов. Огородников нарочито бодрым голосом – а иначе и самому не подняться – сказал, поймав в завываниях ветра передых:
– Отставить скулёж, братцы. Веня – башка, догадался же! Белеш, Шипи-цын, за мной, собираем ветки, остальные зарывайтесь как можно глубже, – он в темноте определил место, где надо закапываться. Сашка встал и, сгибаясь от пронизывающего ветра, отошёл на несколько метров в сторону, к высокорослому ельнику. Достав нож, снятый с пояса Тыжня-ка – даже лицо его, перекошенное от нестерпимой боли, на мгновение промелькнуло перед глазами, – принялся собирать кору с сосны. Наткнулся на поваленную берёзу: принялся ломать тонкие просохшие ветки с неё. С охапкой хвороста вернулся к привалу. Следом приполз Завьялов: охапка жидкая, но хоть что-то в отличие от Шипицына, который, похоже, даже с места не тронулся. Его отрешённость от всего происходящего вокруг говорила о многом, если не обо всём: человек сдался уже нутром, и, если такое состояние придушило в своих объятьях хозяина, человек – не жилец.
– Ещё надо, ещё, – бубнил, распаляя себя, Веня Поллитра, вовсе неразличимый в яме. Только слышна возня там, внизу, в яме и скрип выбрасываемого на поверхность снега. Бестелесное крошево крутится, подхваченное ветром, рассеивается над землёй. Белеш не выдержал:
– Да хватит уже, могилу что ли роешь?
Огородников подавал туда, в яму, хворост. Веня Поллитра сказал, чтоб пока не лезли к нему, мешать только будут, сам разберётся. Кто-то запричитал гнусаво, по-бабьи, что-то молитвенное. Кажется, Завьялов. Вот те на!
Мало того что по статье хулиганской сидит: то ли сожительницу, то ли школьную любовь из-за ревности зарезал, так ещё и попом оказался! Вот откуда молитвы знает!
Огородников невольно прислушался к словам парня. Но не разобрать, что бубнит: ветер то так свернёт звуки, то этак, но точно молится. И тут в яме засветилась лучина. Все обернулись на свет. Веня распахнул телогрейку, бережно огораживая, насколько хватило роста, слабенький огонёк от резких порывов ветра. Так, наверное, матушка держит младенца в первые минуты после его появления на свет божий: даже дыхание сдерживает, чтоб не отнять нечаянно глоток воздуха у дитя. Веня подкладывает кусок бересты, подкладывает ещё один, уже покрепче. Несколько тонких, тоньше мизинца, веточек медленно облизывают сизое пламя.
Узнаётся лицо заключённого: сосредоточенное, застывшее, измученное переживаниями. Веня Поллитра сгибается: огонь перетекает из его рук на землю, он медленными движениями оставляет огонь жить самостоятельной жизнью на снегу, ни на секунду не сводя взора и готовый сразу кинуться на помощь, уже издававшему первые вздохи – пострел суховея – костру. Он ещё колдует над огнём, словно старый шаман готовится к языческому обряду, но вот осмелевшие языки пламени зашевелились, набирая высоту, и человек сразу теряет интерес к нему. Не поднимаясь с корточек, Веня просит веток. Ему осторожно подают. Стены ямы высветились: получилось неровное углубление прямо под валежиной, на три-четыре человека. Теснота в данном случае – главное и необходимое условие для выживания. Огородников всматривается в каждого, пытаясь разобраться в своих мыслях. В неровном свете от костра лица каторжан мало узнаваемы. Мерцающие отблески причудливо отражаются в зрачках рядом притихшего Белеша, он погружён в себя настолько, что создаётся впечатление, что это не человек лежит, мумия. Между тем костёр окреп, и тогда Веня осмеливается его переложить поближе к выходу. Языки задёргались конвульсивно, грозя вот-вот потухнуть: ветер-хитрец шаловливо играет на краю ямы, хочет забрать последнюю надежду у людей. Предусмотрительный Веня подкидывает сухие хворостины в самый нужный момент. Всё, теперь костёр крепкий, настоящий, даже ветер-шатун не задует его. Хоть запляшись! Ему подают полешки потолще: один из зеков – Завьялов, проявляет нетерпение – сам подкидывает ветки в костёр. Темень отодвигается за спины, стонущий лес уже не кажется таким угрожающим и негостеприимным. Промозглая сырость, благодаря теплу от костра, утрачивает въедливую силу: искры от поленьев легко поднимаются вверх, исчезают в причудливых кружевах. Веня Поллитра подсказывает, что теперь нужны лесины серьёзнее, чтоб огонь не задуло. Шипицын, словно не слышит, о чём говорит Веня; вползает в яму, клубочком скручивается, неуклюже подобрав ноги под себя: слёз не видно – лицо прячет в воротнике телогрейки: всхлипывания, переходящие в скулёж, доносятся до остальных зеков. Белеш не выдержав пнул его ногой:
– Слышь, параша! Замолкни!
Белеш смотрит на беглецов и, не находя у них поддержки, запихивает руки подмышки и в сидячей позе сгибается так, что спина пузырится неестественным горбом. За дровами ушли опять Завьялов и Сашка-пулемётчик. Завьялову никто не приказывал, пошёл сам. Сашка пошёл потому, что ещё оставалось непреодолимое чувство ответственности за всё происходящее. Это чувство занозой сидело где-то в груди, принося тревожную обеспокоенность и тоску. Когда костёр разошёлся вовсю, все вдруг вспомнили про возможную погоню.
– Да кто полезет в такую свиристель… Сгинуть за три копейки что ли? – недоумевал Белеш.
– За пол-литра, – вдруг добавил Веня.
– Что?
– За пол-литра, говорю.
– А, ну да!
Получилось смешно. Огородников тоже рассмеялся, всячески стараясь избегать мыслей о еде. Все залезли в яму, прижались покрепче друг к дружке. Если не шевелиться, тепло некоторое время кажется явным. Однако вши не давали лежать в одной позе: тело молило о движении, ну хоть маленьком, незначительном. Вскоре спина у Огородникова заныла нестерпимо. Он немного выполз из ямы, подставив лицо ближе к костру. Зеки, каждый как мог, искали позу для сна удобнее. Время сочилось тяжёлыми каплями в снег. И ночь, и метель, и скользящее бесшумно с небес крошево стали казаться вечными. Вновь Огородников, сквозь дремотную пелену забытья, услышал молитву. Это Завьялов! Вот неугомонный, и откуда только силы находит молиться. Веня негромко задал вопрос, который, похоже, волновал всех:
– Слышь, Зюзя (так к нему обращались в лагере), а правду говорят, что жинку свою прирезал за то, что от бога отреклась?
– Отреклась, был такой грех на её душе! Но прирезал не за это… За словоблудия и призывы к сатанинской власти… Сатана овладел её помыслами. Без веры пыталась русского человека учить жить… А без веры русскому человеку никак нельзя!
Огородников обернулся:
– А что твоя вера шепчет наперёд? Дождёмся рассвета?
Он с удивлением в себе обнаружил, что мысли о побеге уже не властвуют над ним, что, скорее, он начинает жалеть о том, что не нашёл в себе сил отказаться раньше от этого необдуманного поступка. Первый звоночек прозвучал, когда воры их бросили. Уходили в тайгу, даже не оглядываясь. А ведь у них была еда. Второй – как только разожгли костёр. Если даже они и доживут до светового дня, откуда возьмут сил подняться и продолжать побег? Да и куда идти! Все эти вызревшие догадки набирали неподъёмный вес в душе. Невыносимая тоска, безысходность и отчаяние сковывали волю, словно выжигали нутро до пепельной немощи.
– Утро будет, но не для всех! А утром нас найдут! – сквозь завывания ветра проговорил Завьялов.
Он сказал так, словно проговорил заклинание. Ему никто не возразил. Ни оспаривать, ни доказывать что-либо, ни ввязываться в рассудительный разговор не было сил. Усталость неотступно волокла сознание в темноту. Сил думать о том, проснёшься ты завтра или нет, не осталось.
Спать, спать, спать… Сейчас безразлично, что будет завтра.
Сейчас спать, спать, спать…
Глава 7
Над ИТЛ-04 плыла тревожная тишина. Вечерняя поверка час как закончилась, всё протекало привычным руслом, кроме одного: на плацу отсутствовала четвёртая бригада.
Начальник лагеря – майор Федот Алексеевич Корякин сидел у себя в кабинете под властью нахлынувшей щемящей тоски. Кабинет, четыре на три, самый дальний по коридору: от окна буквой «Т» громоздился стол, в левом углу – сейф, на видном месте стены – портрет Сталина. Всё достаточно аскетично, как и должно быть в кабинете начальника гулаговского лагеря. Брюхатая тоска переваливалась в тревожное состояние. Из соседнего кабинета иногда доносились тяжёлые голоса – это начальник режима капитан Недбайлюк допрашивал дневальных шестого барака, где обитала четвёртая бригада. Стены комендатуры хлипки настолько, что стоит повысить голос, сразу слышно, о чём говорят. Но вот уже довольно давно Корякин утратил интерес к допросу. Он за какой-то надобностью, а за какой, уже и забыл, полез в сейф. Из старого ведомственного журнала выпала маленькая фотокарточка. Присмотрелся – надо же! Искал, конечно, другое, но нашёл её: подобное частенько с ним случалось. А всё потому, что с молодости не любил заполнять отчёты, считая это занятие пустым бумагомаранием. И даже за многолетнюю службу в НКВД не смог переломить свою натуру и раскорчевать в себе бережно-учтивое отношение к заполнению документов.
На фотокарточке он с женой, молодые совсем. Какой же это год? Кажется, перед самой войной, когда он учился в академии! Или позже? Они с Галиной прожили к тому моменту почти три года. Сколько надежд, сколько планов, сколько энергии и веры в себя, в своё будущее, в своё счастье. Как быстро пролетели годы. Многое сломала война, а многое сломалось без её участия. С Галиной Сергеевной – женой – жили первые годы дружно. После учёбы в Военной академии имени Фрунзе началась гарнизонная жизнь, в общем-то, картина привычная и обыденная для начинающего комсостава. Но Галина не выдержала: репутация декабристки не прельстила. Походные условия, разумеется, были тяжелы, быт неустроен, жизнь в воинской части вялотекущая и скучная. Через полгода собрала чемоданы и вернулась в Подмосковье, к родителям. Никакие упрёки, мольбы не остановили её. Гарнизон находился на территории Казахстана, в не совсем забытом богом, а скорее аллахом, ауле, заботливо укрытом тенью зелёно-рыжих сопок. Народу в ауле проживало немного, и можно было бы про него совсем забыть, да географически аул располагался для транспортного транзита лучше не придумаешь. Все караваны следовали через него. Откровенно сказать, Корякин несколько иначе представлял начало военной службы. Вся эта походно-полевая романтика оказалась ему не по душе. В чём-то он соглашался с женой, которая, как выяснилось несколько позже, оказалась не всегда уравновешенной, избалованной и склонной к скандалам. Если первые годы после свадьбы, проживая в Москве, всё у них ладилось, то последующие – напротив: Галина Сергеевна только и выискивала повод укатить домой. И если первые годы детей не торопился заводить Корякин, то потом уже не торопилась Галина, всё отмахивалась, считая, что успеют, что ещё есть время, так и дотянули до войны, когда уж совсем не до того стало. В тридцать седьмом году Корякин, предвидя, что ему придётся если не всю жизнь, то значительную её часть мотаться по гарнизонным общежитиям, перебрался на службу в НКВД. Здесь были явные преференции: начать хотя бы с того, что в Саратове ему сразу вручили ордер на двухкомнатную квартиру. Платили больше да ещё выдавали дополнительный паёк продуктами, который очень кстати пришёлся, поскольку в магазинах ничего путного не купишь. Это уж с сорокового года для выслуги лет перебрался в уголовно-исполнительную систему, ну, и финансовая сторона сыграла не последнюю роль при выкраивании дальнейшей карьеры. В НКВД тогда прошли большие чистки, требовались новые кадры. Корякин считал себя человеком прагматичным, умным и дальновидным. Больше всего он боялся войны, а также что в ней ему придётся принимать самое непосредственное участие. А то что война будет, он не сомневался. И хотя трубили газеты обратное, он им не верил. Он, вообще, к тому времени расстался со многими иллюзиями. Постепенно Корякин втянулся в работу. После уральских лагерей направили вот сюда, в Восточную Сибирь. Повезло, что не на Дальстрой или в Воркутлагерь. Туда жёнушка, точно, ни за какие деньги не поехала бы. А деньги она любила и немалые.
Корякин в последнее время всё чаще задавался вопросом: остались ли чувства к супруге? Всё переворошил в душе, а до истины так и не докопался. Очевидно, пролегла между ними межа недопонимания: руками дотянуться можно ещё, а телом и душой – никак. Дошло до того, что Галина приезжала лишь в летнюю пору на один и, в редких случаях, два месяца. Причём последние недели, как правило, изводила его пустыми скандалами, начиная ругаться по малейшему поводу. Последние девять лет так и жили: он здесь начальствует, в исправительных лагерях, что виноградной гроздью рассыпались по северной части Иркутского округа, а Галина там, в Подмосковье, на родине. Жила с матерью, отец скончался от сердечного приступа в сорок шестом. Наверняка, тестя вдвоём допекли. Тёща тоже была не подарок. Дочь-то в кого? Отчаянье прибавляло и то обстоятельство, что детей они не нажили. В сорок два года Корякин вдруг осознал всю ограниченность своего земного срока, и это понимание, показавшееся ему вначале не самым важным и стоящим, постепенно разрасталось в нём.
С годами он на многое стал смотреть по-другому, порой тоска так припирала, что без душевного разговора с кем-нибудь не обойтись. Хотелось поставить на стол бутылку водки, закуски какой-никакой. Выговориться вволю. Но вот с кем?
Он и не думал, что одиночество вскоре станет его постоянным спутником. Многие одиночества избегают, он же, напротив, одиночества стал искать. А вечерами, словно сторожа какую-то немощную неприкаянную тишину в доме, незаметно пристрастился к выпивке. Благо, никто не видит, и ругать некому.
Корякин положил в сейф папку, фотокарточку спрятал в нагрудный карман. И опять подивился тишине, как бы страдальчески пыжившейся за стенами комендатуры. Тревожное предчувствие нарастало.
Нервно посмотрел на часы: половина девятого. Конвой, сопровождавший двенадцать заключённых с лесозаготовительной деляны, обязан был вернуться к восьми вечера. Нарушение режима – редкое явление для лагерной системы. Прапорщик Тыжняк тем и славился, что ретиво оберегал порядки на зоне. Иной раз чересчур ретиво. На что иногда нет-нет да поступали жалобы от заключённых. Но это уже епархия начальника режима. Что-то притихли они там, за стенкой. Так, а что остальные бригады? Остальные бригады с промзоны вернулись в положенное время. В девять вечера все должны были побывать в столовой, а через час, согласно графику, – вечерняя поверка. Корякин подумал о том, что по возвращении «лесорубов» начальнику конвоя, прапорщику Тыжня-ку, обязательно задаст взбучку за нарушение режима. Ещё подумалось о том, что не забыть бы завтра написать рапорт в Управление насчёт усиления конвойного отряда – с приходом весны заключённые начинали искушать себя побегами.
В такой рассеянной задумчивости майор и услышал дневального -старшину Скоропатского, который преградил путь посыльному из столовой. Он выглянул в коридор. Выглянул из канцелярии и дежурный по лагерю – лейтенант Скрябин. Он жестом руки остановил залепетавшего что-то заключённого и двинулся к выходу, мол, следуй за мной. Догадаться несложно: согласно недавнему приказу начлагеря, после поверки все помещения, в том числе и бараки, в которых находились зеки, закрывали наглухо; вот и не знают, закрываться или не закрываться в столовой – ведь ещё не все поужинали. С этим вопросом и прибежал заключённый. Корякин вернулся в кабинет, накинул овчинный полушубок: вечерние морозы, несмотря на подступающую весну, в сибирских лесах да особенно в ночных сумерках таили коварство, и вышел из администрации. На крыльце закурил, наблюдая, как две вытянутые фигуры исчезают на проходной. Спустя несколько минут Скрябин вышел из вахтенной избушки, на зону согласно указу не пошёл. Завидев начлагеря, ускорил шаг. За день они виделись не единожды, тем не менее, подойдя, лейтенант поприветствовал его по-уставному. Майору, вообще, был симпатичен этот молодой, всегда подтянутый и всегда уравновешенный подчинённый.
– Что там?
– Приказал, чтоб закрылись, – отвечал Скрябин, доставая пачку папирос. Закурив добавил: – Четвёртой бригады до сих пор нет. Я на вахту, сейчас распоряжусь, пусть пошлют кого-нибудь до деляны.
Майор согласно кивнул и голосом, уже полным злобной желчи, добавил:
– Давно пора! Жопу в руки и быстрее. Через час доложите.
– Есть! – лейтенант коротко вскинул руку к шапке, спрятал папиросы в карман полушубка.
Корякин вернулся в кабинет, достал новую папиросу, матюгнулся крепко. Прикурил. Смахнув сизый дым от лица, присел за своё кресло. Прислушался! За стенкой – бу-бу-бу-бу! Это голос заключённого. Спустя минуту, коротко: бу-бу! Это уже Недбайлюк! Интересно – выведает что-нибудь у каторжных?!
Майор нервно заходил между стульями, выстраивая в уме различные предположения насчёт задержавшейся бригады. Если ещё полчаса назад Корякину удавалось спрятать недоброе предчувствие, то сейчас он едва владел собой: сомнений не оставалось – на деляне что-то произошло. На вахте забрехали овчарки, похоже, там поднялось лёгкое движение. Подполковник кинулся к окну, всматриваясь в темень: неужели обошлось? В свете лампочки, пружинисто болтающейся над крыльцом, различил: несколько конвойных курили у входа и что-то бурно обсуждали. За воротами лагеря – темнеющая пустота. И ни одной души. В коридоре быстрый топот сапог. В кабинете начальника режима движение. Видимо, одного заключённого увели, зато привели другого. Тишина в коридоре не успевала восстановиться: только стих топот одних, как раздался топот других посетителей. Привычная жизнь для лагеря возвращалась. Правда, немного не с того боку. Вошёл лейтенант Скрябин. Из его короткого доклада выходило, что на деляну отправлены трое вохровцев, результат вот-вот будет известен.
Скрябина не смутил грозный взгляд майора. Вероятно, он не совсем понимал, к каким последствиям может привести побег заключённых. «Надеется простым выговором отделаться! Зелёный ещё совсем, не знает, как наша система ломает таких вот офицеров с нежным сердцем, – с досадой подумал про себя майор, глядя в спокойное лицо Скрябина. – А может, зря паникую? Вдруг всё обойдётся!»
И мысли майора утратили болезненные переживания. Он подумал о том, что действительно, дай бог, всё обойдётся, а он потом собственное паникёрство вывернет не иначе как проверку готовности сотрудников к нештатным ситуациям. Служба есть служба! И денно и нощно! За многолетнюю службу в системе НКВД майор усвоил одно железное правило: перестраховка – не признак слабости, перестраховка – элемент предотвращения неблагоприятных ситуаций. Майор распорядился, чтобы усилили посты, пересмотрели на сегодня и завтра не просто меню в столовой, но и качество пищи. Баня! Навести порядок в бане! Навести порядок в казармах! Стоп! Не порядок! Шмон! Шмон! Шмон!
Выдавая указания, майор распалил себя до нервного тика. Упал взмокший и обессиленный в кресло. Сник.
– Разрешите идти? – Скрябин тянул подбородок так, словно подставлял шею для бритья искусному цирюльнику…
– Идите.
Оставшись один, майор ощутил сильную усталость. Что ни день, то сюрпризы. А пора с такими сюрпризами заканчивать! Только вот как? Не будешь же всех подряд расстреливать за малейшую провинность? А впрочем? Вон, на тридцать первом пункте, в изоляторе, почти двадцать зеков заморозили – и ничего!
С такими рассуждениями майор подошёл к сейфу, прислушался, вглядываясь всепроникающим взором в филёнчатую ненадёжную дверь: вроде бы никого. Со скоростью суетливого мошенника налил рюмку добротного армянского коньяка и выпил, запрокинув голову назад. Закусил коркой высохшего чёрного хлеба. В последнее время Корякин именно таким образом снимал стресс. Когда жена была рядом, во время приезда, сдерживался. Нынче же без нескольких рюмочек не мог прожить и вечера.
Да, с заключёнными церемониться никак нельзя. Они должны знать, кто здесь хозяин! Иначе.
Майор неожиданно вспомнил первый год своей службы в Ураллаге. И одну историю, которая иногда раскалённым железом обжигала его нутро, словно это произошло совсем недавно, а не много лет назад. Он тогда был всего лишь старшим лейтенантом, относился к службе рьяно, на ходу вникал во все тонкости непростой должности – начальника лагерного пункта. Корякину повезло: пункт оставался долгое время малочисленным. Заключённых шестьсот – семьсот душ, бесконечные этапы облегчали работу лагерной охраны. Побеги случались редко и в основном на этапе. Из зоны при Корякине ни одного побега. Хвалили. Одна из главных тонкостей в нелёгкой работе – отношение лагерной администрации к заключённым. Вот эту бесхитростную, на первый взгляд, а на самом деле, очень сложную, науку Корякин осваивал долго и трудно. И может быть, на испытательном сроке когда-нибудь допустил бы осечку, если б не случай.
В один из декабрьских дней, пополудни, вернувшись из центральной комендатуры в свои владения, Корякин увидел на вахте следующую картину: старшина и вахтёр избивали заключённого.
– В побег собирался, товарищ старший лейтенант, – доложил упитанный розовощёкий старшина Гопоненко.
– Из лагеря?
– Да не! Как можно из лагеря! Ушагал за зону оцепления, а силов убегать не осталось. Взяли крамольника сразу, хотя лучше бы застрелили при попытке.
– Он, кажется, без сознания. Сейчас помрёт.
– И пускай, вражина, – старшина Гопоненко сильно щурился, разглядывая посиневшее от подтёков лицо заключённого. Говорил он бесцветным, не имевшим никакой нервной модуляции голосом: – Опера посоветовали оставить на пару дней труп возле вахты, так сказать, в целях воспитательной профилактики.
Корякин наклонился, чтоб рассмотреть лицо заключённого, и наткнулся на ясный пронзительный взгляд карих выразительных глаз. Заключённый смотрел, чуть приоткрыв веки, на его посиневших губах застыла немая мольба о пощаде. Корякин резко выпрямился и отвернулся, стараясь поскорее забыть застывший в памяти, прожигающий взгляд зека.
– Уберите его отсюда. Хотя бы в изолятор. – И чтобы скрыть проявившееся замешательство, добавил: – Сейчас могут приехать с проверкой. Этого мне ещё не хватало, объясняться по пустякам.
– В кондей, так в кондей, – похоже, в голосе Гопоненко проявилось некоторое разочарование.
Потом Корякин некоторое время ещё ходил, как чумной, не в силах избавиться от душераздирающего взгляда заключённого.
На удивление, заключённый выжил. Его перевели в соседний лагпункт. И угодно же было судьбе им встретиться вновь, при несколько иных обстоятельствах.
Весна сорок первого года выдалась ранней и тревожной. Новости из Москвы поступали противоречивые, туманные. Участились вызовы в Главную комендатуру, что располагалась в двадцати километрах от лагпункта. Дороги кисли от непролазной распутицы. Вместо «эмки», иногда развозившей их до лагерной вахты в зимнее время, выделили подводу. Тащились по грязи весь день. Потекла сирень вечерних сумерек. В телеге он – старший лейтенант Корякин, капитан Белозерский, начальник самого дальнего лагпункта, и извозчик, седобородый дед из ближайшей деревни, нанятый специально для подобных целей. Ехали молчком под жалобно-тоскливые стоны несмазанных колёс и вороватую, тревожную тишину. Очевидно, Корякин задремал. Постороннее движение за обочиной уловил поздно. Чёрные тени выросли перед ними столь неожиданно, что предпринять ни он, ни капитан ничего не успели. Лишь дед охнул и втянул голову в плечи. Ему бы сразу гикнуть да хлестануть вожжами жеребца -глядишь, вынес бы от беды: но пока додумался, пока высмотрел чуть ли не в упор смертельную опасность, драгоценные секунды были потеряны. Возницу оглушили первым. Пока дед летел к земле, навалились в четыре руки на Белозерского.
Корякина придавили крепкие руки третьего заключённого. Никогда раньше не считавший себя ни трусом, ни физически слабым, здесь вдруг растерялся, обмяк и, похоже, смирился со своей участью. Он потом, спустя время, вспоминал и даже представлял себя со стороны, и понимал насколько был жалок и омерзителен. Всё, на что он оказался способен в те минуты, – вытянуть вперёд руки, как бы пытаясь огородить себя от близкого прикосновения с тенью, имя которой – смерть. Глаза их встретились. Они узнали друг друга. Лицо арестанта перекошено звериным оскалом, источает волю, напитанную жаждой мести. Уже от этого звероподобного рычания Корякина сковал страх, и он, в отчаянии вскрикнув, закрыл от беспомощности глаза.
Двое, что схватились с капитаном, всё никак не могли совладать с ним. И не совладали бы, не подскочи третий, тот, который бросил Корякина, не чуя в нём больше опасности. Капитан Белозерский что-то пытался вытолкнуть из себя: крик ли, ругань ли, выходило непонятное хрипение. Втроём капитана придушили быстро. Тишина обступила дорожную ветку через минуту-другую. Зеки сразу кинулись к подводе в поисках еды. Заворочался дед, его опять огрели по затылку. Всё это наблюдал старший лейтенант, боясь шелохнуться. Один из зеков кивнул на лежащего Корякина:
– Что не добил-то? Ух ты! – ему удалось с корточек разглядеть Корякина. Зек нервно хохотнул, испытывая необъяснимый внутренний подъём. Голос налился нехорошей ласковостью в предвкушении жестокой расправы. – Вот подфартило-то, Макар! Это же наш хлыст! Молоко на губах не обсохло, а туда же полез. Вша краснопёрая. Слышите, а душегубец-то краплёный? Обслюнявился весь. Точно хлыст. Щас мы тебя! Где пистолет?
Корякин даже не помышлял о сопротивлении, протянул табельное оружие зеку. Но пистолет очутился в руках другого, который мог бы всё решить раньше.
– Ша, Крапива! Мой трофей, моя корова. Сам с ей расправлюсь.
А дальше были минуты унижения, которые офицер НКВД старался не вспоминать. Он их вычеркнул из памяти. Заключённый, похоже, помнил об услуге, опрометчиво оказанной начальником лагпункта несколько месяцев назад. А с другого боку – не сохрани тогда ему жизнь чекист, кто бы сохранил ему жизнь здесь, сегодня, под покровом туманного вечера. В благодарность за это – заключённый не спешил расправиться с Корякиным. Всё тянул.
У судьбы свои адовы круги.
Наконец заключённый направил в лицо дуло пистолета. Всё те же пережжённые чернью глаза, бесноватый огонь в их глубине.
– Беги. Считаю до трёх.
Корякин, размазывая мокроту по лицу, встал и неуверенно, словно пьяный, побрёл по дороге. Он шёл, вздрагивая всем телом, давясь слезами и не смея остановиться хоть на мгновение. Через сотню метров догадался нырнуть в спасительную густоту ельника, совсем не понимая, что его уже давно потеряли из вида, что о его существовании беглецы забыли ровно тогда, когда он повернулся к ним сгорбленной спиной. До своего лагпункта старший лейтенант добрёл часа за три. Что тогда вело его в ночной непролазной тайге? Нет, не холод, а желание мстить за направленный в лицо пистолет. Это чувство душило, не давало покоя Корякину. А на вторые сутки беглецов поймали. И привезли в ближайший лагпункт, где «хозяйничал» Корякин.
– Фамилия? – спросил Корякин, уже ознакомившийся с делом Макарова Сергея Геннадьевича, всего-то на два года младше его и осуждённого по пятьдесят девятой статье за разбой. Судьба, допустив нелепость один раз, не стала испытывать себя вновь. Прежде чем табельный пистолет вернулся в родную кобуру, он выполнил свою работу: почти в упор, под сердце, всадил две пули в беглеца. Так, с пятнами крови на полушубке, брызнувшими из груди Макарова, он, после вечерней поверки, заставил три часа заключённых «держать» строй. После этого случая некоторые охранники, со скепсисом посматривавшие на «зелёного старлея», прикусили языки.
Тот давнишний урок начлагеря усвоил навсегда.
Глянул на часы. Стрелка безжалостно клонилась к десяти вечера.
– Дежурный! – крикнул майор, осенённый какой-то мыслью.
– Скрябина ко мне! – сказал он, едва завидев Скоропатского. В данную минуту не хотелось созерцать строевые выверты неуклюжего старшины. Лейтенант объявился минут через пять.
– Присаживайся! – нарочито свойским тоном обратился Корякин к лейтенанту, как только тот вошёл. Лейтенант присел. Майор несколько минут молчал, делая вид, что размышляет о чём-то сверхважном. Затем присел напротив на табурет и, глядя прямо в глаза Скрябину, спросил, не скрывая при этом раздражения и усталости:
– У меня к тебе один вопрос, как к офицеру, который по долгу службы обязан видеть и своевременно докладывать о малейших допущениях в службе… кого-нибудь из… из сослуживцев. Лейтенант, вы ничего странного в последнее время не замечали за начальником режима лагеря?
Скрябин молчал, но по глазам было видно, что быстро сообразил, к чему клонит майор.
– Почему мой приказ о том, чтоб по территории лагеря ходили только строем в несколько заключённых, часто нарушается?
– Никак нет, товарищ майор! Если кто-то и попадается, сразу в карцер определяем. Вчера двоих так посадили за нарушение внутреннего режима.
– Вчера посадили, а сегодня почему-то выпустили к обеду. Кстати, твоё дежурство было.
– Мне было приказано!
– Кем и какова причина освобождения этих двух заключённых?
–
майору Корякину было известно, что эти двое прибыли с последним этапом, принадлежали к числу ссученных, уже успели отметиться нарушением режима внутри лагеря. Однако к ним благоволил Недбайлюк, что очень не нравилось майору. Корякин хотел что-то ещё спросить, но не успел. Тяжёлый топот нескольких пар сапог набатом поплыл по коридору, гулким эхом докатываясь до стен кабинета начлагеря. Лейтенант Скрябин изменился в лице, вскочил с табурета, как ошпаренный. На лице майора отразилась досада; такой душевный разговор сорвался. Он всем корпусом обратился к двери.
– Разрешите доложить! – весь облик вошедшего капитана Недбайлюка: и лицо, и взгляд, и даже движения немного грузного тела, налитого упругой молодостью, выдавали недвусмысленно – случилось то, чего больше всего боялся начлагеря.
Из доклада выходило следующее: в четвёртой бригаде совершён массовый побег. Из двенадцати заключённых на деляне обнаружено только четыре трупа осуждённых, также четыре трупа конвойных, в их числе начальник конвоя прапорщик Тыжняк и один вольнонаёмный нормировщик – Бычковский, кстати, из бывших заключённых.
Майор тяжёлым взглядом уставился в окно. Непроглядная ночь властвовала над белоснежными далями.
– Поднимайте лагерь на поверку. А где лейтенант Сергеев? – майор имел в виду оперуполномоченного старшего лейтенанта Сергеева, замначальника по политчасти. Все знали, что упомянутый сотрудник всерьёз страдал алкогольной зависимостью: если его и найдут сейчас в рабочем посёлке, проку от него – что с козла молока.
– Сергеева вызвать, и всех из начсостава в особое распоряжение капитана Недбайлюка, – он неприязненно и остро посмотрел на Недбайлю-ка. – А мне докладывать по поступающей информации. Свободны.
Все вышли. Спустя минуту, взвыла сирена. Мгновение – и ночи не стало. Начлагеря выпил ещё одну рюмку, посидел некоторое время у стола, прислушиваясь к разноголосому шуму за окном. Телефон был под рукой, надо звонить с докладом о случившемся, но майор не торопился. Майор представил всю картину последующих событий: стало не по себе. Захлестнула болезненная злость.
Докладывавший капитан Недбайлюк не упомянул важную деталь: лицо прапорщика Тыжняка было особенно изуродовано.
Ночью поднялась метель.
Зеков продержали на плацу под пронзительно холодным ветром почти три часа. В бараки их вернули ближе к полуночи. Не все смогли уйти с места построения: двоих заключённых, потерявших сознание, унесли в фельдшерский пункт.
Глава 8
Ночь превратилась в вечность. Первое время за костром следил Огородников. Он, кажется, только для этого и выползал из полузабытья – чтобы нащупать несколько сухих веток и подкинуть их к коптящимся голо-вёшкам. Он и сам не знал, сколько так просидел: час, полтора, а может, всего-то минут десять. Потом провалился в сон, а скорее, это был обморок. Обморок, потому что и мозг, и тело потеряли связь с действительностью, и всё ему казалось не настоящим, не существующим. Если б не голоса, которые достигали его сознания с возрастающей назойливостью, разрывали ватную туманность над ним, вонзались иголками в тело, вонзались всё больнее и напористее. Наконец он смог размежевать веки. Его тормошили и говорили, тяжело дыша в самое лицо.
Тормошил его… Циклоп. Чуть поодаль сидел Жмых, удобно примостившись на пенёчке, уже очищенном от снега и сильно похожем на торчащий из земли зуб древнего ящера. Они не выглядели измученными и оголодавшими. Огородников начал приходить в себя. Отблески костра высветили сосредоточенное выражение лица Жмыха. Он словно сидел на берегу с удочкой и ждал клёва. Циклоп подкидывал поленья, посматривая пытливо на Сашку: одыбает, не одыбает?
Огородников полностью очнулся, инстинктивно пошарил рукой сбоку, ища автомат. Пальцы нащупали жалящий холодом металл круглого диска – патронника. Если пальцы чувствуют холод, значит, не всё так безнадёжно! Огородников привстал. Вот теперь он вынырнул из дурмана, снял рукавицу, обтёр лицо снегом, сильно пахнущим дымом. Рубец от шрама на левой щеке вздулся, побагровел, отчего лицо Огородникова вмиг изменилось: тяжёлые морщины-бороздочки иссекли лоб, скулы, подбородок.
Ветер как будто бы изменил движение невидимого хоровода: гудел по-прежнему упруго, с неменьшей напористостью, но где-то в стороне, за сопкой. Небо низкое, пугающе чёрное – и это их спасение. Если б вызвездило, мороз вцепился бы мёртвой хваткой во всё живое. Кружились лениво снежинки. Циклоп расшевелил костёр. Искры метнулись вверх, вытягиваясь дымчатым раструбом в ночь. Тут Сашка заметил, что Циклоп растапливает снег в котелке. Откуда котелок? Выходит, с собой принесли! К чему такой подарок?!
Сразу захотелось пить. Нестерпимое желание пульсировало по венам, учащённо заставляло биться сердце. Сашка потянулся к котелку.
– Погодь, фраер, – Циклоп подцепил палкой котелок, протянул солагернику, морщась от боли в правой руке.
Позже Огородников узнает: раны от укуса на руке Циклопа за сутки распухли до страшной синевы, ещё выяснится, что в плече застряла шальная пуля, скорее, направленная из автомата конвойного. Зек таял на глазах. Идти дальше он не мог, тащить никто не будет – это даже не обсуждалось – единственный выход: сдаться на радость краснопогонникам. Беглых обычно за доставленные хлопоты розыскники убивали на месте. Но шанс, что оставят в живых при определённом раскладе, был. А это означало, что отправят в лазарет, а там уж вор найдёт возможность выкарабкаться.
Охота за ними вот-вот начнётся. Остались считанные часы. Далеко уйти в таком состоянии Циклоп не сможет. Это стало ясно в первую же ночь побега. Михась долго приглядывался к исстрадавшемуся уркагану, прикидывал и так и этак, в конце концов не выдержал:
– Поутру вернёшься до фраеров, откормишь их. Жрачку дадим. Остальное Казань объяснит.
Казань – это Вовка Казанцев, который перебравшись в недалёкую от Тайшета деревню фасонил то под местного, то под вольнонаёмного, и у него это неплохо получалось: прожил почти три месяца, исхитрился не привлечь к себе внимания местных жителей, подготовить побег. А в здешних краях, стоит отметить, появиться незамеченным и исчезнуть также считалось практически невозможным. Неспроста, выходит, Казанцев смолоду любил театр. В воровской среде умение перевоплощаться и выкидывать фортели – важный атрибут для выживания. А Казань мог и причём любил изобразить потерянного монархиста, страдающего интеллигентными манерами, мог перевоплотиться в сурового представителя власти, очень любил представляться людьми научных профессий, благо, воспитание и начитанность позволяли. Родители Казанцева были учителями, дед профессор, жизнь загубил ради науки. Революция перемолотила их род. Владимир Казанцев к шестнадцати годам – исстрадавшийся самовлюблённый и очень ранимый юноша, не нашёл лучшего выбора для себя, как прибиться к воровской шайке. Ему почему-то думалось, что так он больше навредит тем людям и той системе, которая истребила его семью. Дед умер от голода и от нервного истощения в двадцать шестом году, отца вывезли за Волгу в тридцатом, как сочувствующего белогвардейскому движению и не принявшего советскую власть: больше его Владимир не увидит; мать умерла через год после всех этих событий. Володя узнал о смерти матери, будучи в следственном изоляторе; попался на первой краже. Ему тогда шёл семнадцатый год.
К двадцати восьми годам Владимир уже стал вором-рецидивистом, сколотил свою банду, потом встретился с Михасем, нашлись общие интересы. Стали подельниками. Столичные магазины с драгоценностями считались их профильным ремеслом. Но Казань, к удивлению многих из воровской среды, пошёл дальше; чтоб не расширять круг малочисленной банды, освоил нелёгкую «профэссию» шнифера*. Их долго не могли взять. Поймали в Ростове. В середине тридцатых. Михасю как главарю банды навесили статьи тяжёлые, разбойные, остальным дали сроки поменьше. Казанцев получил вольную раньше всех и, конечно, не забыл крестничка – лихие дела, как выяснилось, иной раз роднят сильнее кровных связей…
Казань обстоятельно разъяснил, в чём состоит роль на данный момент Циклопа. На самом деле воры сбили привал не так уж далеко от стоянки отставших беглецов. Ночью они наблюдали то разгорающийся, то затухающий костёр. Дождались утра. Циклопа – решили так сообща – сопроводит Жмых, потом вернётся к своим.
Вот и сидели в данную минуту уркаганы подле Огородникова, наблюдая безрадостную картину. Метель укатилась в ущелье, оставив лёгкую морозную круговерть. Близился рассвет. Однако Сашке-пулемётчику так не казалось. Он находился во временной прострации: что открыты глаза, что закрыты, без солнечного света часы сплющились в единый временной отрезок. Дышится, и ладно!
– Дай ему хлеб, – не сдержался Жмых, швырнув к ногам Циклопа тощую котомку. В котомке несколько кусков чёрного хлеба, немного подсыревшего, пропахшего костром, но не перебившего запах плесени, ещё в замусоленном мешочке, туго стянутом верёвочкой, прощупывалась какая-то крупа. И шмоток белого пахучего сала, бережно обёрнутого тряпицей – настоящее сокровище для зека. Циклоп отрезал тонкий пластик, наверное, так он резал сало дома, протянул с куском хлеба и отвернулся: Огородников выглядел и жалко, и безобразно. Отвернулся не из деликатности: качества подобного рода вряд ли имелись в характере вора. Просто ему, и наверняка Жмыху, было очень знакомо то невыносимое чувство голода, когда человеческая воля превращается в труху, когда животные инстинкты овладевают сознанием полностью, и оскотинившееся существо, ибо от человеческого уже ничего не остаётся в нём, продолжает двигаться, гонимое только одним желанием – раздобыть пищу.
Циклоп знал, что такое голод: первый раз он чуть не умер в пятнадцатилетнем возрасте: половину деревни, где он родился и рос, раскулачили и вывезли неизвестно куда; продразвёрстка многие семьи оставила без хлебных припасов. В Поволжье начался голод. Осень выдалась ранней и неожиданно холодной. Про отца он ничего не знал, а вот мать уехала на заработки в Пензу и пропала. Тогда умер, ещё не совсем старый, его дед: младший брат умер накануне нового, тысяча девятьсот тридцать третьего года, а он спасся случайно – ошалелые обозники, ехавшие с каким-то «партийным заданием» мимо их деревни, увезли его без сознания в городскую больницу. Тогда он ещё был Витькой Шамлыгой, курносым, светлолицым и светлоглазым парнишкой.
Несмышлёный был, многого не понимал, обиды прощать никак не умел, даже если ноготком почувствует обиду – пока не выжжет нудящую боль каким-нибудь мстительным поступком, не успокоится. Случись так, что в Пензе он узнал одного из молодых комиссаров, который нащупал мешок с зерном в их амбаре. Комиссаров хоть и много было, но этого он запомнил на всю жизнь. Не сказать, что Витька был отчаянным подростком, но в тот день ненависть замутила рассудок напрочь. Он подкрался к парню со спины и дважды со всей силы ударил того ножом. Не учёл Витька одного – не было на ту минуту в его мальчишеских руках ещё силёнок. Да и духом был ещё слабоват. Комиссар, наверняка, остался жив. Перепуганный Витька, боясь быть узнанным и пойманным, с подростковой ватагой принялся кочевать по области. Домой возвращаться боялся. Да и был ли на тот момент у него дом? Голод и ежеминутная близость к нелепой гибели надолго стали его попутчиками. Так и колесил целый год по крупным городам беспризорником; пока не поймали на одной из ростовских улиц. Советская власть обласкала детдомовским приютом, но Витька мечтал вернуться домой, в деревню. Всё чаще во сне стал видеть мать; ему представлялось, что она вернулась, живёт одна. И ждёт, когда объявится он, старший сын. Ей соседи, наверняка, рассказали, что он остался жив. Он всё делал поначалу для того, чтоб его выгнали из приюта; пропускал уроки, с однокашниками частенько дрался, в культурно-воспитательных мероприятиях не участвовал, с преподавателями огрызался. Учился Витька слабо да и не до учёбы было ему в ту пору, и проку от этого непонятного дела он никакого не видел. То ли беспризорная безрассудная жизнь заразила его помыслы, то ли и впрямь порода в нём сидела бесприютная, но его тянуло в подворотни, как тянет бездомную собаку к мусорной свалке. Шамлыге всё казалось, что в подворотне воздух насыщенней и злее. Витька стал бегать на рынок. Детдомовской кормёжки всё равно не хватало, и тогда, чтоб не умереть от голода, стал воровать. Первое что он украл… кусок чёрного, застывшего на морозе хлеба. По совести говоря, воровал-то один хлеб. Это потом уж… До дома он так и не добрался, да и черты матери с годами размылись.
И такой острой пронизывающей болью отозвалось всё в душе Циклопа, стоило только памяти воскресить те далёкие годы. Вот почему он отвернулся в сторону: он вспомнил себя. Жмых дёрнулся с места, подтянул за плечи телогрейки Огородникова, заставляя шевелиться. Огородников, пересиливая незнакомую тяжесть, поднялся. Воры принялись расталкивать остальных. Упоминания о еде, а тем более вид распотрошённой котомки всё-таки оживил беглецов. Чувство голода оказалось сильнее истощения и усталости. Не поднялся только один – Шипицын. Жмых, ничего не подозревая, толкнул того в плечо и в ту же секунду с приглушённым вскриком отстранился. Шипицын остался неподвижен, только ушанка слетела с головы, черты его лица словно провалились вовнутрь, утратив не просто живое обличье, утратив телесный цвет кожи – лицо словно накрыли белым саваном. Зюзя даже вскрикнул, перепугавшись.
– Отмучился, – сказал бесцветным голосом Веня Поллитра, нетвёрдо стоя на ногах. Огородников очухался раньше остальных. Уткнул очередной котелок в костёр. Жмых, боясь, что с провиантом беглецы переусердствуют, отобрал сидр у Вени Поллитра, вручил Циклопу. Он как бы невзначай обмолвился, что до деревни, к которой их поведёт теперь Циклоп, идти максимум сутки. Ну, край к завтрашнему обеду добредут до места. Беглецы закурили, недоверчиво посматривая то на Огородникова, то на воров, но больше на Жмыха, понимая, что в данной ситуации многое, если не всё, зависит от этого вора. А вор в их лагере славился жестокостью: нехорошо обходился иногда с трудовым элементом. Обижал многих понапрасну. Жмых уловил общее настроение заключённых. Ухмыльнулся, отчасти раздосадованный таким недоверием, подошёл к Циклопу.
– Шоб не портить всем настроения, я ухожу. Остаётся с вами всеми уважаемый Витя Циклоп. А мне пора, – воры несколько секунд смотрели друг другу в глаза, прощались без сантиментов. Жмых резко шагнул от костра в стронувшуюся темноту. Когда его силуэт уплывающий, как парусник в беспокойном море, очертился на фоне белого снега, тогда все заметили, что небесная чернь окислилась, увяла, переплавилась в цвет голубики. Циклоп угрюмым взглядом обвёл заключённых. Заросший, почерневший, глаза в красных прожилках от недосыпа и усталости, только мотнул головой, давая понять, что сейчас двинемся. Зюзя, поначалу робко, потом осмелев, видя, что никому до него дела нет, стянул с мёртвого Шипицына телогрейку, шапку, хотел стащить брюки, но окоченевший тяжёлый труп пришлось бы ворочать: одному не справиться, просить о помощи не решился. Белеш распорол по спине покойного накидку-безрукавку некогда коричневого цвета, напялил на себя, под телогрейку, и в странной напряжённой задумчивости – словно отрешился от мира – уставился на труп.
В худых скулах его затаилось хищническое выражение. Огородников взглянул в сосредоточенное лицо солагерника, взглянул второй раз, пристальнее. Что-то не понравилось ему во взгляде Белеша. Не мешкая, принялся забрасывать труп снегом.
– Нужно хоть так закидать, – сказал он тяжело дыша, не оставляя без внимания Белеша. Веня Поллитра помог, насколько хватило энергии.
– Зря, – не теряя задумчивости, проговорил Белеш. Он продолжал смотреть в яму, со скрипом двигая заострившимся, словно у хищника, кадыком. – Снег сойдёт, волки достанут. Сожрут всё равно!
– Эй, ты чё удумал-то, – округлил глаза Веня Поллитра, заглядывая в лицо Белешу, словно пытаясь прочитать его мысли.
– Действительно, каторжанин. Нехорошие мысли в голове крутишь. На роже твоей всё написано. О дороге думать надо! Нам пора выдвигаться, – сказал Циклоп и глянул на Сашку-пулемётчика, как бы ища поддержки. Потом добавил: – Жмых правду говорил. Если сейчас тронемся, к вечеру до деревни дойдём. Ориентир – вон те две сопки. Но идти надо шустрее. Чтобы за день управиться.
Глава 9
Низкие тучи крадучись ползли по небу. Уже различались верхушки деревьев. Падал редкий снег. Сначала шли по следу, оставленному Жмыхом. Почти сразу наткнулись на бивак, разбитый ворами. Костёр ещё дымился.
«Надо же, а посчитали, что убёгли далеко», – рассеянно подумал Огородников.
Не выходя из распадка, Циклоп повернул круто влево. Следы группы Михася уводили в противоположную сторону. Заснеженная равнина казалась бесконечной.
Огородников всё не мог собраться с мыслями; его не покидало ощущение, что они идут после развода на деляну, к месту последней работы. Нормировщик Бычковский, его лошадка, размеренно тянувшая без устали сани, начальник караула Тыжняк, конвоиры – все они скопом в любую секунду выйдут из леса навстречу. Они все заговорят разноголосо о чём-то и ни о чём. Жаль, что эти грёзы лишены главного – сладостного наваждения чего-то приятного. Калейдоскопом пролетают мгновения вчерашнего дня. Господи, неужели прошли сутки? Даже не сутки, меньше! А кажется, много-много дней! Действительность Огородников воспринимает с отрешённой усталостью. Он следует за Циклопом, в голове пустота. Крепких нужных мыслей нет. Думать о чём-то тяжело, и нужны силы. Циклоп шагает первым, оглядывается редко. Он прибавил бы шаг, да силёнки уже не те. Жар в теле постепенно нарастает, удушающе клокочет в горле, задерживает и без того сбивчивое дыхание. День вошёл в свои права полновластно. Небо застыло на какое-то время. Ветер гулял в низовье, и уже думалось, что вскоре тучи раздвинутся, небо прояснится, но нет – сверху как-то придавило серой облачностью. Весна в Сибири капризная; если заблажит погода, то, считай, надолго.
Циклоп повернул к крутому склону сопки. Редкие пролески перегораживали путь. У самого подножия, словно в немой кручине, стыли разлапистые кедрачи и сосны. Откуда-то докатился перестук дятла. Перебирались через хребет долго: терпения и силы остались только у Огородникова, Циклопа и, на удивление, у Белеша. Они первыми взошли наверх и тут же обессиленные попадали в снег. Оказалось, ветер наверху крутился сильнее, а редкие проплешины чистого синего неба затянуло совсем. Пошёл снег: ленивый, искрящийся, весёлый. Погода нашёптывала: скоро замете-лит. Доносился диковатый голос Вени: он где окриками, где руками подталкивал, заставляя переступать ногами, измученного подъёмом Зюзю. Циклоп, воспользовавшись стихийным привалом, присел рядом с Сашкой-пулемётчиком. Посматривая вниз, заговорил, как бы отстранённо, не мешая Сашке передумать всё услышанное:
– Слышь, пулемётчик?! Снег пойдёт скоро. Следы Казани, ну, нашего кореша… заметёт, не отыщутся. Я к тому, что если хочешь идти в побег по натуре, ну. как говорил там на зоне. Иди. По такому следу ты их нагонишь, дыхалка у тебя ещё есть. За нас не переживай. Мы в том распадке уляжемся. Переждём метель. Отседова так и будем идти по распадку часов пять… выйдем к деревне… там и оторвёмся по полной… ну и поглядим, почём жизни свои пропащие продать. Ты мне только автомат свой отдай, а мой ножик возьми. Возьми-возьми. Мы так договорились с Михасем. Зажми в ладони. Видишь, какой ладный… он мне от кореша достался, – Циклоп зажмурился: никак кореша вспомнил. По лицу его пробежала тень: видно, что перебарывает накатившие приступы боли в руке. Когда боль утихла, заговорил вновь, но Сашка его не слышал. Он полностью ушёл в себя: в висках лихорадочно пульсировала кровь; и крики Вени Поллитра, и неторопливый говор Циклопа, и завывание ветра, все эти звуки расслоились, разбухли и многоречивым потоком проносились в его голове, разрывая плоть. Как хотелось бы укрыться пеленой небытия, чтоб хоть на минуту забыть этот побег, лагерь, пересыльные пункты. Он никак не мог уразуметь, что всё происходящее не сон, не наваждение, которое можно стряхнуть обыкновенным пробуждением. Сашка именно в эти секунды осознал, что уже ничего назад не вернуть.
– Ты что? Спишь что ли? Ну ты даёшь, пулемётчик! – назойливо жужжал рядом голос Циклопа. – Смотри, если засидишься. след потеряешь.
Огородников встал, чувствуя какую-то внутреннюю взрывную волну в себе. То, что он испытывал в эти минуты, не было страхом за свою жизнь, не было испугом перед теми, кто шёл за ними по пятам, и тем более не было отчаянием или раскаянием за рывок на волю. Он вдруг настолько явственно увидел себя со стороны, увидел себя из той прежней, забытой жизни, что мгновенно пришло понимание, что просто так сдаваться нельзя. Это его жизнь. Пусть, как сказал вор, и пропащая, но это его жизнь, и отдавать он её на съедение гулаговским шакалам не намерен.
Огородников глянул на тропу. Следы слегка запорошило. Вор был прав, если идти, то идти сейчас, не мешкая. Циклоп спохватившись достал из котомки кусок хлеба и протянул ему. Опять протянул нож, глазами показывая на автомат. Огородников принял нож, сжал чувствительно: действительно, ладная работа. Посмотрел на солагерников. Хотел что-то сказать, но промолчал: а что скажешь?! Лишнее всё это! Тут он резко протянул автомат Циклопу, словно боялся, что передумает и сделал несколько быстрых шагов в сторону только что проторённой тропы. Он шёл обратно, по следу, на ходу поедая хлеб. Он ещё ожидал какое-то время окриков в спину, готовился обернуться. Но только тишина подталкивала его. У самой кромки леса не вытерпел, обернулся. Заключённые, все, кроме вора, смотрели ему вслед и молчали. Сашка боялся, что кто-нибудь из них вызовется пойти с ним. Найдёт ли он в себе силы отказать кому-то?! Но, на удивление, никто не пожелал составить ему компанию.
Огородников махнул неопределённо руками и повернулся спиной. Первые часа два шёл резво. Придало силы подступившее чувство одиночества. Отчасти – подстёгивал и страх. Он шёл не останавливаясь.
Ветер усиливался. Тучи, словно потерянные, покружив над головой, обваливались на землю мглистой молочно-хрупкой крошкой. Беглецам повезло в том, что стояло тепло: в Сибири такое частенько случается; со снегом воздух теплеет. Метель, почти сутки кружившая в районе, не отступала. И наверняка, затрудняла их поиски.
И вновь Сашка в который раз уважительно подумал о проводнике воров – время побега выбрано удачно. Обычно побеги, массовые, зачастую слабо подготовленные, начинаются ближе к лету. Сашка не раз был очевидцем страшной расправы над теми, кого вылавливали и возвращали за колючую проволоку. Возвращали, разумеется, не многих. Больше предпочитали убивать при задержании. Хлопот при конвоировании из непролазной тайги – не оберёшься. Если ловили рядом с населёнными пунктами, то шансы не быть убитыми на месте – оставались. Вот почему Циклоп выходил к деревне. И потянул за собой остальных беглецов. А Михась-то и его дружки всё просчитали! В побег рванули наверняка. Ничуть не сомневаясь в успехе. Группа, в которой остался поначалу Сашка-пулемётчик, по задумке Михася должна была отвлечь преследование. Сашка это понял сегодня. Циклопу просто не подфартило, поэтому пришлось покинуть банду. И видимо, непререкаемый авторитет законника сыграл решающую роль. Не повезло одному, зато повезло другому – Сашке-пулемётчику. И этот шанс он не упустит. Ни за что не упустит.
