Суд над колдуном
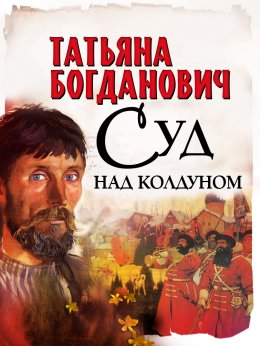
© ИП Воробьёв В. А.
© ООО ИД «СОЮЗ»
Забрали лекаря
Еле свет забрезжил. Все ворота в Москве заперты накрепко. Посмотреть на улицу – одни досчатые заборы тянутся. Домов не видно. Кто не знает, и не догадается, что во дворах на Тверской и в Белом городе – расписные боярские хоромы. Людей тоже никого не видно. Караульные и те не колотят в била. Под утро все позасыпа́ли. Не слышат, что по Тверской целая толпа топает.
Впереди два подъячих[1] в рыжих кафтанах, с чернильницами у кушаков, с гусиными перьями за ухом. У одного, что постарше, в руке свиток. За ними стрельцы, человек десять, с пищалями[2], заспанные, хмурые.
На перекрестках еще надолобы[3] не сняты. Надо караульных будить. Правда, как добудятся, скажут, что по государеву делу, караульные сразу отодвигают длинные козлы. Да и время. Утро наступает. Верно и городские ворота уж открыли.
Подошли. Нет, и ворота заперты. Караульный прикорнул на лавочке, спит.
Еле глаза продрал, как его стрелец за ворот стал трясти.
– Что за люди? – спросил было со сна. А как разглядел, что люди государевы, и разговаривать не стал, вытащил ключ из-за пояса, отомкнул тяжелый замок, налег на чугунный засов, отодвинул и отпер ворота. Заскрипели они на всю округу.
Пошли дальше по той же Тверской. По ней и по ту сторону ворот в Земляном городе не плохо. Хоть и осень, грязь, а поперек улицы бревна настланы – сапог не замараешь. Разве нога соскользнет или бревно гнилое подломится.
А вот как за Земляной вал вышли и взяли влево, к Канатной слободе, грязь пошла чуть не по колена, а настилов никаких. Благо еще не далеко слобода.
Шли они к попу Силантью, а где он жил, и сами не знали. Ну, да на слободе вставать уж начали, было кого спросить. Ворота скрипели, мальчишки выскакивали на улицу, бабы на базар с яйцами, с пирогами сбирались.
– Эй, баба! – окликнул подъячий торговку с лукошком яиц. – Где тут двор попа Силантья? Ведаешь?
– Как не ведать. Да вон за плетнем-то. Вон тесовый забор, новый. То и есть попа Силантья.
Сказала и сама за ними вслед пошла. Мальчишки тоже набежали целой стайкой.
Подошли к воротам, а тут как раз калитка отворилась. Навстречу им мужик выходит, борода лопатой, лицо широкое, красное. На голове бочонок, в руке жбан. Увидал подъячих – остановился.
– Это что ль попа Силантья двор? – спросил старший подъячий.
– Попа Силантья, как есть, – ответил мужик. – Вон и сам он на крыльцо вышел. Кликнуть что ль?
– Погоди. Нам попа не надобно. А ведаешь ты, живет тут, во дворе, лекарь, Ондрейка Федотов?
Мужик поставил на землю бочонок и жбан и радостно хлопнул себя по бедрам.
– Ондрейка! Да как мне не ведать? Другой год под им в подклети живу. А он, стало быть, в клети. И с жонкой, с Оленкой. Квас у меня завсегда покупывает. Лекарь он точно.
Поп тоже подошел поближе и с опаской поглядывал на подъячих. Бог их ведает, за каким делом. А вряд ли за добрым.
Подъячий повернулся к попу.
– У тебя что ль, поп, тот Ондрейка избу сымает?
– Летошний год после большого пожара снял. И поручная[4] у меня по ем есть. Без поручной я жильцов не пускаю. Може, принести?
– Не надобно.
– Аль ду́рно за им какое объявилось? Ране и не ведал его. С Китай-города торговый человек летошний год прислал мне его и с поручной со своей.
Квасник все на месте топтался, головой качал. Наконец не стерпел.
– Да ты меня спроси, – обратился он к подъячему. – Я про его все доподлинно ведаю. Что хошь расскажу.
Младший подъячий толкнул другого в бок и захохотал:
– Вишь, набивается! Что ж, Бориско, заберем и его. Коль ему такая охота припала.
– Куда заберешь? – осекся квасник.
– А в Приказ[5], в послухи[6]. Там про того Ондрейку и сказывать станешь, коль ты все его дела ведаешь. Как звать-то тебя?
– Пошто в Приказ? Я тебе тотчас все скажу. Прошкой меня-то звать. Охабкин по прозванью. Квасник я. Да меня вся слобода знает. Квас у меня ото всех отменный.
Ладно, – оборвал его подъячий. – Помалкивай покуда. В Приказе сказывать будешь. Эй, робята, обратился он к стрельцам. – Покараульте его. А ты, поп, веди нас к тому Ондрейке Федотову.
Два стрельца схватили за плечи квасника.
– Да ты, погодь, – говорил Прошка. – Послухай ты меня…
Но подъячие не слушали его больше. Поп вел их через двор к дальней избе.
– Вон и хозяйка его, Олена, – сказал поп, и показал высокую костистую женщину, сходившую с крыльца с ведром. – Олена! – крикнул он. – Ондрейка где? По ем тут вон пришли.
– Пошто по ем? – с испугом спросила она. – Спит Ондрейка. Не будила еще. А пошто?
– Велено его в Разбойный приказ привесть, – сказал подъячий.
– В Разбойной! – крикнула Олена. – Да ты с ума сбрел! Чай не вор он, не душегуб. Лекарь ведомый. Не дам я Ондрейку.
– То-то дура баба, – проговорил подъячий. – Спросили тебя? Сказано приводом привесть, стало быть, приведем.
– Ты, Олена, не того, не перечь лутче, – заговорил поп. – То приказные люди. По государеву указу они. А государева указа ослушаться – то грех. А, може, ду́рна-то никакого и не будет. Поспрошают лишь Ондрейку да домой и пустят. А по какому то делу, дозволь спытать?
– В Приказе сведаешь, – сказал старший подъячий. – Тебя тож велено забрать. В послухи.
Олена тем временем быстро взбежала по лестнице. Подъячие и поп шли за ней следом.
Войдя в горницу, Олена бросилась к лавке, где, накрывшись охабнем[7], спал Ондрейка.
– Ондреюшка! – крикнула она. – Вставай, по тебе пришли.
– От Одоевского князя что ль? – спросил лекарь, быстро садясь на лавке.
– Пошто от Одоевского. Чай помер княжич-то. Вишь, приказных нанесло.
Ондрей быстро спустил ноги с лавки и стал натягивать сапоги.
Старший подъячий, как вошел, оглянул горницу. Все как у людей. Бедно лишь. На лавке под окнами и полавочников[8] нет. Голые доски. Лампадка перед иконами теплится. А на поставпе в углу, где б горшкам да плошкам стоять, скляницы разные наставлены да белеет что-то, не то камни, не то кости – темновато еще, не разобрать.
– Ты что ль Ондрейка Федотов, лекарь? – спросил подъячий.
– Лекарь я. То так. Аль занедужил чем?
Второй подъячий снова захохотал:
– Занедужил! Сам, мотри, не занедужай! В Приказе-то чай все косточки переберут.
Ондрейка смотрел на подъячих, не вставая с лавки. Волосы на голове у него спутались, борода слежалась на сторону.
– Вставай ин скорея. Тотчас велено в приказ доставить, – сказал сердито старший подъячий.
– В приказ? – спросил Ондрейка. – Пошто? Може, посля? К соседке я посулил утром быть рано. Что не разбудила меня, Олена? – обратился он к жене. – Мальчонка шибко занедужил у ей, вовсе ножки отнялись.
– Сказано – в Разбойной приказ велено тебя привесть. Какой мальчонка? Дурень прямой! В толк не возьмешь! Эй, робята, – сказал подъячий стрельцам, топтавшимся в дверях. – Вяжите ему руки.
– Пошто вязать? – крикнула Олена. – Лиходеи вы! Убегёт он что ль? Ондреюшка, родной мой! Отколь напасть такая? Аль поклеп кто взвел? Батюшка! Заступи хоть ты. Чай ведаешь. Ду́рна за им никакого нету.
– Как мне ведать, Олена? Моя изба чай не близко.
– Гони, гони его скорея, – торопил подъячий. – Чего зря язык трепать? И ты, поп, с нами подь, в Приказ.
– Я что ж… Я, как велено… – заговорил поп.
Стрельцы уже закрутили Ондрейке сзади руки и погнали его в дверь. Олена шла за ним, утирая слезы.
Сошли с лестницы.
– Ну, и гони скорея. Кажись, всё, – сказал подъячий и заглянул в свиток[9]. – Э! – проговорил он. – Запамятовал было вовсе. Тут про ученика про ево писано, про Афоньку Жижина. Тоже чтоб взять. У тебя что ль живет Афонька тот? – спросил он Ондрейку.
Но Ондрейка стоял на крыльце, свесив на грудь лохматую голову, словно и не слыхал ничего.
– У нас, – проговорила нехотя Олена.
– Где ж он?
– А послала я его поутру в ране дров нарубить. С той поры и не видала.
– А вон он в крапиве хоронится, – сказала толстая баба, которая стояла рядом с квасником. – Как стрельцов завидел, так и схоронился.
У самого забора, в густой рыжей крапиве проглядывала белая рубаха.
– Эй, ты, Афонька! – крикнул подъячий. – Вылазь что ль.
В крапиве не шелохнулось.
– Волоки его, робята, – сказал подъячий стрельцам. – То-то дурень! Гадает, не видать его.
Трое стрельцов побежали к забору, раздвинули пищалями крапиву. Там на корточках, весь съежившись, засунув голову между колен, сидел парень в белой рубахе, босой.
Стрельцы схватили его, встряхнули и выволокли из крапивы. Парень ревел, упирался, дрожал всем телом.
Кругом захохотали. Во двор набралось за то время много народа со слободы. Каждому охота была узнать, чего к попу Силантью целое войско нашло. Может, какой лихой человек забрался да и забился куда, благо двор просторный, да и строений не мало.
– Ты что ль Афонька? – спросил парня подъячий.
Но Афонька только зубами стучал, слова вымолвить не мог.
– Да самый он и есть Афонька, – заговорила опять толстая баба. – Ведомый вор. Намедни курицу у меня уволок. Тать прямой. Видно хозяин-то добру научает. Тоже лекарь зовется!
– Ты погоди, Мавра, – перебил квасник. – Я сам все про его, про Ондрейку, сказывать буду. Я…
– Помалкивай ты, – оборвал его подъячий. – Сказано, в приказе спрос тебе будет. Вяжи парня, робята. Да и бабу-то прихватить надобно, что про ево молвила. Чья та баба?
– А моя хозяйка, Мавра, – заговорил опять квасник Прошка. – Да чего она понимать может? Баба! Я сам все скажу. Я про все дела ондрейкины доподлинно ведаю. Ты меня спроси. Я под им…
– Уймись ты, балда. Не переслушаешь! Гони их, робята. Поздо чай. Ободняло вовсе.
– Эй, ты, плакун! – крикнул веселый подъячий Афоньке. – Кафтан-то у тебя есть? Вишь, колотит тебя. Мотри, из рубахи не выпрыгни.
– А вон кафтан ево, – сказала толстая баба. – Коло дров, где рубил.
Один стрелец добежал до дров, поднял обтрепанный кафтан и накинул его на плечи парню поверх связанных назади рук.
– Пошли что ль, – нетерпеливо сказал старший подъячий.
Стрельцы пинками погнали Ондрейку с Афонькой и квасника с женой.
Поп степенно шагал рядом с подъячими. Олена с плачем ухватила за шею мужа. Стрельцы оторвали ее и пихнули назад.
– Вишь баба непутевая! Сама в приказ захотела. Пошла прочь!
– Лиходеи! – крикнула Олена сквозь слезы. – Пропасти на вас нету! Ты не кручинься, Ондреюшка. Я про тот поклеп разведаю. Вызволю тебя. Нет за им никакой вины, люди добрые – крикнула она, торопясь за стрельцами.
Государево слово
Соседи, которые набрались во двор к попу Силантью, тоже высыпали на улицу следом за приказными.
– Вишь болезный! – жалобно запричитала одна баба, глядя на Афоньку. – Несмышленый как есть парень. Ревет! Гляди, пытать будут!
– Баба дура и есть, – сказал сердито старик. – Нашла кого жалеть? Да ты ведаешь, кого в Разбойный приказ водют? – душегубов да колдунов. А Ондрейка-то лекарем слыл. Ведомо, – что лекарь, что колдун одна стать.
– Може, и впрямь колдуны? – проговорил кто-то.
– Колдуны, родимые, колдуны, – запела горбатая старушенка с кошелем. – Вы меня послухайте. Мне Улька кума про все их воровство и ведовство сказывала. Лекарь тот – самый злой колдун и есть. Беси к ему ходют. Он их на кого хошь напущает. Сказывала Улька, она его еще на Смоленске городе знавала. Сколь много людей он там, сказывала, извел – не перечесть. Гадал и на Москве тем же обычаем промышлять. Да, вишь, Москва-те не Смоленск! Как почал, сказывает, бесов скликать да людей портить…
– Ну, завела, старая! Людей портить! А каких? Ведаешь? Може, ты и сама-то ведьма. Вишь, полон кошель трав да кореньев.
– Ах, ты, жбанная затычка! – заверещала старуха. – Ты как можешь такое слово молвить! Ведьма! Слышьте, люди добрые, как лается пес. Я те покажу ведьму!
– Ну, ну, ладно, бабка, сама не лайся. Може, и впрямь лишнего наклепала?
– Ан, не наклепала! Я про того колдуна и не такое ведаю. Слово лишь молвлю – так ему голову и снесут!
– Похваляешься, бабка. Ври да не завирайся.
– Ан не похваляюсь! Я за им, може, государево слово[10] ведаю…
Всю толпу сразу как ветром унесло. Бросились все врассыпную. Слово страшное – и слушать то его нехорошо. Как раз в приказ попадешь, – зачем не донес. Бабка и сама струсила, что за спором лишнего наговорила. Подхватила кошель и за людьми, – в город. Да не тут-то было. Прямо перед ней, откуда ни возьмись – стрелец. Верно, за толпой стоял, все ее речи слышал. Ухватил ее за рукав шубейки и говорит:
– А ну-ка, старица, идем со мной в приказ.
– Да что ты, Христос с тобой, милостивец! Пошто в приказ? Да ты проспрошай людей. Меня тут все, почитай, ведают. Не воровка я, не побродяжка. Бобылка, милостивец, безместная, Феклица. У подъячего Фрола Силина, на Хамовной слободе сколь годов живу. И ду́рна за мной никакого нет.
– Ну-ну, бабка, там в Стрелецком приказе все скажешь. А как ты государево слово молвила, то по указу великого государя велено тебя взять, и в приказ приводом привести.
– Ратуйте, провославные! Не дайте душу живую погубить! – кричала старуха.
Но стрелец шагал быстро и тащил ее за собой.
Лихих людей загнали в Разбойный приказ. Но сейчас же тяжелая дверь опять с визгом распахнулась. Ярыжка выволок оттуда лекареву жену Олену и дал ей такого пинка, что она, расставив руки, одним махом скатилась с лестницы.
– Куда лезешь, поколь не привели! – крикнул в догонку ярыжка[11].
– Чего пинаешь! – огрызнулась Олена, – не мужичка я, чай; мой хозяин – лекарь.
– Похваляется тоже, – лекарь! Велика птица! А ноне – вор[12], в Разбойный приказ приведен!
– Так то́ по злобе. Наклепали ведомо. Я управу найду. До великого государя дойду.
– Вишь прыткая! – проговорил кто-то. У крыльца набралась уж кучка народа. – До великого государя! Вон он, великий государь-от, с собора идет, и бояре с ним. Небось, не сунешься.
– Бояре, – повторила женщина. – А боярина, князь Никиты Иваныча Одоевского нету?
– Как не быть. Ближний боярин. Завсегда за великим государем вслед, – сказал кто-то из толпы.
– Ан ноне не вслед. Вон позади всех, с боярином Стрешневым. Вишь скорбен князь. Сын у его, сказывают, помер, так, видно…
Но Олена больше не слушала. Она быстро шагала через площадь, перескакивая с бревна на бревно.
По дощатому помосту, настланному поверх бревен, по всей Ивановской площади, от собора к дворцу, тихо разговаривая, шли два боярина.
– Князь Никита Иваныч! – крикнула Олена, бросаясь на колени у помоста, – послухай меня, государь. Прошу тебя, государь, о заступлении!
– Подь в Челобитный приказ. Ноне я челобитных не беру, – сказал боярин остановившись.
– Государь Никита Иваныч, опричь тебя мне пойти не к кому. Добёр ты был до моего хозяина, лекаря Ондрея Федотова, заступи его и ныне.
– Лекарь Ондрей? А какая ему беда приключилась?
– В Разбойный приказ, государь, забрали. А пошто не ведаю. Никакого за им ду́рна нет. Заступи, боярин милостивый, пропадет Ондрейка, простой он у меня. Ровно робенок малый. Не покормишь и не поест. Одна у его думка – недужные да хворобы разные. Заступи, государь.
– Ин, ладно. Спрошу ноне, какая за им вина. И государю за его слово молвлю. Ты зайди ужо. Лекарь он добрый, – обратился боярин к Стрешневу, – хоть и не вылечил моего Иванушку. Лекарскую науку знает.
– Эх, Никита Иваныч, – отвечал Стрешнев. – Обошел тебя тот лекарь. Зря Иванушку своего доверил ему. Нехристь он. И наука от немцев у его. Почто знахарей обегаешь? Ведущие есть. И с молитвой лечат.
– Не, Иван Федорыч, не ладно ты молвишь. Сказывал я тебе многажды не лекаря то́, а ведуны. А с ворожеями да ведунами знаться грех, да и пользы нет. Лечить надо по науке, как в чужих краях…
Бояре шли дальше ко дворцу. А Олена все стояла на коленях, глядя им вслед.
В Разбойном приказе
В просторной избе Разбойного приказа суд над колдуном.
В переднем углу под образами сидит начальник Приказа, боярин Юрий Андреевич Сицкий. Желтая суконная однорядка[13] широко распахнута спереди. Под ней алый атласный кафтан с хрустальными пуговицами и золотой тесьмой по борту. Маленькие глазки совсем заплыли со сна. Длинные рукава откинуты, белые пухлые руки, окруженные золотым кружевом, лениво лежат на столе. Справа от боярина, на лавке, дьяки[14] тоже в цветных кафтанах, с золотым и серебряным шитьем. Только кафтаны на них суконные. Перед ними на столе чернильницы. За ухом у каждого гусиное перо. Слева, ближе к входной двери, подъячие. У тех кафтаны потемней и без золота, только со шнурами.
В палате душно. Слюдяные оконца плохо пропускают свет. Пол грязный, не то земляной, не то с настилом из досок.
В темном углу горницы топчется кучка приводных людей. Кругом них стрельцы. Дело важное – колдовство. Кто знал, да не донес, сам легко попадет в ответ. В стороне юркая чернявая бабенка. То изветчица[15]. Но и ей тоже не мудрено попасть в ответ. Коли ответчик сам не повинится, – и его и изветчицу отошлют в Пытошную башню. А уж под пыткой легко и на себя наговорить такого, что потом головы не сносить.
– Начинай что ль, Иваныч, – говорит боярин.
Ему скучно. Извета он не читал. То дело старшего дьяка, Алмаза Иванова. До дел Сицкий не большой охотник. В государевой передней больше время проводил он. С боярами беседовал. Государя поджидал. Боялся случай пропустить. В Приказ не всякий день и заглядывал. Благо дьяк попался толковый.
А ныне Алмаз Иванов присылал сказать, чтоб приходил боярин безотменно. Государь колдовские дела велит тотчас разбирать, без задержки.
Дьяк Алмаз Иванов не похож на своего боярина – быстрый, на месте не посидит. То с боярином поговорит, то дьяку другому что-то шепнет. Сухой, жилистый, точно на пружинах. Борода узкая, так и мотается из стороны в сторону. А нос, точно клюв, тонкий, длинный, то и дело в бумаги тычется. Глазки хоть маленькие да острые. Так и шныряют. Вопьются в кого-нибудь – насквозь просверлят. Не успели приводных людей в избу привести, а он уж их всех приметил.
Корысть с этого дела небольшая – богатеев видно нет никого, почесть[16] не с кого взять. Да зато отличиться можно. Государь знать будет. Про колдовские дела ему тотчас докладывать велено. Хочет колдунов извести. А тут еще колдуном лекарь объявился.
– А ведаешь, кто тому лекарю потатчик? – шепчет Алмаз Иванов приятелю дьяку. – Государев любимец, князь Одоевский. Лекарь у него по́часту бывал – лечивал и его, и сынка. И не ведает, боярин, что забрали Ондрейку. Ох, не люб мне тот Одоевский! Высоко больно залетел. Намедни выгнал меня из государевой передней. Что-то ныне князенька запоет, как по колдовскому делу в послухи[17] попадет!
Алмаз Иванов даже руки потер, как вспомнил про Одоевского. А своему боярину он про него и не сказывал. Знал, что сам повернет дело, как захочет. Лекарю тому головы не сносить. А за ним и Одоевский князь не усидит. В дальние города на воеводство пошлют, а то и в ссылку.
– Кажись, все в сборе, – пробормотал дьяк, оглянув горницу. – Дьяки, пиши.
Дьяки вынули из-за ушей гусиные перья и откинули рукава.
– Ондрейка Федотов! – крикнул дьяк, обернувшись к приводным людям.
Лекарь не сразу понял, что ему делать. Стрелец взял его за руку повыше локтя и подвел к столу напротив боярина.
– Сказывай, какого роду-племени. Давно ли, нет ли на Москве живешь? да чем промышляешь?
– Стрелецкий я сын, – сказал Ондрейка. – А породы русской. Хилый был с роду. Так батька меня в ученики, в Оптекарский приказ[18] взять челом бил государю. Вот я в лекаря и вышел.
– А где лекарем был? – спросил дьяк.
Боярин и слушать не стал. К стене откинулся и глаза закрыл.
– Тут на Москве гладом было помер, – сказал Ондрейка, – так в полк стал проситься лекарем. Послали к князю Черкасскому в полк, в Смоленск. Там-то попервоначалу ладно было, жалованье давали – тридцать рублев в год. И оженился я там. Купца, Ивана Баранникова, дочку взял, Олену. Ученика мне дали – Емельку. Ну, тот Емелька объявился вор и пьяница, помо́ги мне от него не было.
Дьяк Алмаз Иванов наклонился к дьяку рядом и что-то ему пошептал. И по бумаге пальцем постучал.
– С чего ж ты с полка ушел. Аль прогнали? – спросил дьяк.
– То все тесть. Жалованье-то вовсе не стали платить. Тесть и говорит: просись де на Москву. Там тебя государь за отцову службу пожалует, в Оптекарский приказ определит. А князь Черкасский про то проведал. Челобитья я и подать не поспел, а он меня с полка сместил. Не иначе как Емелька довел.
Голос у Ондрейки был глухой. У боярина голова на грудь свесилась. Совсем заснул. Да как всхрапнет, сам даже вздрогнул. Глаза открыл. Все тот лекарь говорит – опять боярин глаза закрыл.
– Ну, а дале, где жил? – спросил дьяк.
– На Москву меня тесть справил, и с жонкой. А робят у себя оставил. Да не было мне удачи и на Москве. Не пожаловал меня государь в Оптекарский приказ. Сам по себе почал добрых людей лечить. А тут, слава господу, боярин князь Одоевский про меня прознал. Сынок его ножками маялся. А я ту хворобу лечить розумею. Стал меня боярин по́часту звать, и сынка я его лечивал и князя самого.
Алмаз Иванов даже на месте привскочил и на Сицкого боярина оглянулся. А тот и бровью не повел – спит себе, прости господи, словно на постели.
– А жил ты где на Москве? – спросил дьяк.
– Да по первоначалу у Пахома Терентьева, в Китай-городе, – шорным товаром он в рядах торгует. Тестя моего сват. А летошний год, под Ивана Купала, в большой пожар, у Пахома Терентьева все строенье погорело. И мои животишки[19] тож. Дал мне Пахом Терентьев от себя поручную к попу Силантью на Канатную слободу. Там я, холоп твой, и ныне живу в клети[20]. А в подклети[21] Прошка квасник.
Алмаз Иванов не дал лекарю и дух перевести, сразу спрашивает:
– А каким обычаем ты, вор Ондрейка, людей порчивал? И хворобы на них напускал? И разными зельями да наговорами до смерти людей умаривал?
Ондрейка глаза выпучил и рта раскрыть не поспел, как к столу подскочила чернявая бабенка и затараторила, точно горох высыпала:
– Умаривал, отец, умаривал! И порчу, слышь, насылал. И у боярина, слышь, у князь Никиты, сынишку, слышь…
Дьяк вскочил, даже кулаком на нее замахнулся:
– Молчи, баба непутевая, поколь не спрошена!
Тут уж и Ондрейка осмелел:
– Ах ты, баба богомерзкая! – крикнул он. – С чего ты взяла так меня бесчестить? Да я, родясь, никого не порчивал, и никакому волшебству и ведовству не учен. И наговоров никаких не ведаю. И зельев чародейных никогда не варивал.
Как бабка заверещала, так и боярин глаза приоткрыл. Слушает, усмехается. Дьяк поглядел на него, озлился даже. – И чего смеется? Повернулся к Ондрейке и ехидно так говорит:
– Сам-от ты, вор Ондрейка, може, и не варивал, да на Москве у тебя сызнова ученик объявился – Афонька Жижин. Так ты, мотри, Афоньку обучил, Афонька тебе черодейные зелья и варивал.
Как только дьяк те слова сказал, Афонька разом к столу кинулся. Он и на улице, как шел, ревел, и в приказной избе стоял да всхлипывал. Как про себя услыхал, хотел в ноги боярину кинуться, забыл, что руки на спине связаны, так по полу и растянулся. И завопил:
– Батюшка, боярин! Отец милостивый! Ничего я не знаю, ничего не ведаю. И зелья чародейного не варивал… Може, сам Ондрейко варивал.
Стрелец за ним кинулся, схватил за плечо, поднял и пинок коленом дал. Дьяк стрельцу махнул, – погоди, мол. Думал Алмаз Иванов, – парень, видно, прост, да и трус к тому же – сразу Ондрейку оговорит. А Афонька со страху не знает, что и говорить:
– Ду́рна за мной никакого нет, – вопит. – А что Прошкина хозяйка, Мавра на меня наносит, что я ейную курицу уволок, так то по злобе… А я той курицы…
Дьяк снова стрельцу махнул, тот ухватил Афоньку и поволок в угол. – Глуп парень, не туда заехал.
А на Афоньку налетела сама Мавра.
– Ах ты, плакун окаянный! – кричала толстая баба. – Ведомо, ты курицу уволок. Хозяин-то ево Ондрейка, – гол, как сокол, – повернулась она к боярину. – А жонка его, Оленка, нос дерет. Мой де хозяин лекарь! Тоже лекаря пошли! Самим жрать, поди, нечего. Ино я к ему сунулась было спросту, что маюсь я утробною хворью. А у его, батюшка боярин, в горнице пустым-пусто. Ни тебе сундуков, ни ларей. На поставце лишь кости лежат белые, видать, человечьи. Я и Прошке в те поры сказывала. Он на их, еретик Ондрюшка, ведомо, ворожит, и наводит, и отводит. Он и мне в те поры глаза отвел, как Афонька у меня курицу уволок. Про его воровство и поп Силантий ведать должо́н. Чай Ондрейка у его во дворе живет.
Дьяк махнул рукой на бабу, чтоб молчала и велел попа Силантья привести.
Поп подошел, на икону перекрестился и боярину низкий поклон отвесил.
Дьяк спросил, давно ли у него живет Ондрейка Федотов и не замечал ли поп за ним какого ду́рна.
Поп заговорил складно, да только так, словно и не понимает, про что дьяк спрашивает. Сказал, что живет у него Ондрейка другой год и ду́рна он за ним никакого не замечал.
– Простой малый, что и говорить, тихой. Вот одно лишь. – Дьяк насторожился. – Как объездчик[22] на Фоминой неделе указ государев объявил, чтоб с того самого времени и до Успенья печей в избах не топить и огня не жечь[23] – так Ондрейка иной раз тот государев указ не соблюдал. И печь протапливал и лучину жег. Грех то́ перед великим государем… А какими промыслами он при той лучине промышлял, то мне не ведомо, – прибавил поп и на дьяка хитро поглядывает – «примечай-де».
Дьяк рассердился. Видит, поп хитрит. Не хочет прямо сказывать.
Спрашивает напрямик, не видал ли поп, как к Ондрейке разные люди приходили и он над ними, в чулане запершись, ворожил.
Но поп и тут увернулся. Говорит, – его, поповская, изба от той клети, где Ондрейка живет, далеко, на другом краю двора. Никак он не мог приметить, какие люди к Ондрейке ходили и ворожил ли он над ними. Про то ведает квасник Прошка, – потому он под Ондрейкой в подклети живет.
Дьяк только рукой махнул. Не дается поп. Боится, видно, как бы не сказали, – что ж ты, поп, не донес, коли про такие богопротивные дела ведал. Посмотрел дьяк на боярина, спросить хотел. А боярин даже рот раскрыл, храпит себе, да и ну! Вечор, видно, за ужином упился, прочухаться не может. Ах ты, сип тебе в кадык, храпун! – выбранился про себя Алмаз Иванов.
Вызвал дьяк квасника Прошку.
Прошка сразу рассказал, что он квасом на Красной площади осемнадцатый год торгует. И квас у него медвяный, игристый. Весь народ знает. И Олена Иванова, Ондрейкина жонка, тоже у него тот квас по́часту берет.
Дьяк его перебил и спрашивает, ведает ли он, Прошка, что к Ондрейке по́часту разные люди тайком ходили?
Прошка и сказать дьяку не дал. Сразу говорит:
– Ведаю. Как мне не ведать? У меня в подклети все чутко. Тотчас, как придут, Олена Иванова ко мне бежит. – Дай, – молвит, – кваску жбан поигристей, там сват Пахом пришел…
– Будет тебе про квас, про свой. Говори, ведаешь ли, как Ондрейка тем людям ворожил? На человечьих костях, али как?
– Ведаю, – говорит Прошка. – Как мне не ведать? Ворожил, Ондрейка. Костей человечьих у его полной угол навален. Страсть! И он на их, ведомо, ворожит…
Тут дьяк не утерпел. Как квасник про ворожбу заговорил, он боярина за рукав потянул и на ухо ему что-то пошептал. Боярин глаза открыл. А Прошка еще пуще заливается:
– Ворожит, – говорит, – Ондрейка на тех костях всем, кто до его придет. И мне то́ все чутко. И в ночь-пол-ночь к ему люди ходют и ворожит он им…
Боярин-то спросонок не разобрал, что ему дьяк на ухо шептал. Услыхал, как квасник хвастает, как крикнет на него:
– Ты, што ж, – пережечь тебе надвое! – коли давно про то ведал, ране не довел?
С квасника разом вся спесь слетела. Не знает, что и сказать.
Дьяк только рукой махнул. Все ему дело боярин испортил. Напугал квасника. Теперь от него ничего не добьешься. Велел стрельцу увести Прошку.
А боярин и не заметил ничего, спрашивает:
– То изветчик[24], что ль, Иваныч?
– Не, Юрий Ондреевич, – сказал дьяк, – то по́слух[25]. Изветчица та вон – Улька Козлиха. Тотчас буду извет честь. Бориско, – крикнул Алмаз Иванов подъячему, – гони приводных людей в заднюю избу, а Ондрейку Федотова оставить.
Стрельцы окружили толпу и пинками погнали в заднюю дверь. Ондрейку один стрелец взял за рукав и подвел к столу.
– А меня пошто гонют? – заголосила чернявая бабенка, Улька. – Я тебе, свет боярин, про его вора и душегубца, все подлинно обскажу…
– Гони, гони скорея, – крикнул дьяк, не слушая бабы. Стрелец ухватил ее за ворот и потащил за другими.
Извет
В горнице стало тихо и будто даже посветлело.
– Ну, Иваныч, чти извет, – проговорил боярин, опираясь на обитую красным сукном стену.
За изветом, – думает, – в самую пору вздремнуть.
Дьяк расправил свиток и зачитал внятной скороговоркой:
«Великому, государю, царю и великому князю Алексею Михайловичу, всея Великие и Малые и Белые России самодержцу, холопка твоя, Улька Богданова, прозвищем Козлиха, челом бьет. Извещаю я тебе, великий государь, на вора и колдуна и смертного убойцу, на зовомого лекаря, Ондрейку Федотова. В нынешнем, государь, году, сентября в двадцать пятом числе, был тот вор Ондрейка во дворе боярина князь Никиты Иваныча Одоевского. А во дворе князь Никиты Иваныча встретился ему, вору Ондрейке, сын князь Никиты, княжич Иванушко. А повстречался он ему, вору Ондрюшке, противу колодезя, что на дворе, близь поварни[26]. А тот вор Ондрюшко подвел того княжича Иванушка к колодезю и велел ему на воду смотреть. А я, холопка твоя, государь, была в те поры пришедши к куме своей, князь Никиты Иваныча поварихе, Оксинье Рогатой. А стояла я в те поры на крыльце поварни и все его, Ондрейкино, воровство видала. И как стал княжич в воду смотреть, обошел тот вор Ондрюшка княжича сзади и скорея к земли пригнулся и скорея вынял его, княжича, след[27], и, подошедши к княжичу, на тот след пошептал и в колодезь его кинул…
– Клеплет она, государь, то не след был… – крикнул Ондрейка.
– Молчи, Ондрейка, твой спрос впереди, – оборвал его Алмаз Иванов.
«А с того дни ввечеру, – читал дьяк, – стал княжич недужить. Скочила в рот ему жаба и стал у его в горле опух. А ране того тот вор Ондрейка по ветру напусти[28], чтоб был тот князь Никита до его, Ондрейки, добр…
– Лжу она молвит, ведьма лютая! Ничего я не напускал…
– Дай ему по уху, чтоб молчал, – крикнул дьяк стрельцу и зачитал дальше:
«А боярыня, княгиня Овдотья Ермиловна, про то Ондрейкино воровство сведала и князь Никите Иванычу говаривала, чтоб он того лекаря взашей гнал. А князь Никита Иваныч не послухал. А как княжич Иванушко занедужил, велел князь того лекаря к ночи привесть. А тот лекарь стал того княжича наговорными зельями поить, а на шею ему долгонькой лоскут наговорный привязывал. А с того лоскута ничего доброго не было, окромя плохого. А в те поры лекарь Ондрейка князю молвил, что будет он княжича ножом резать…
Боярин проснулся и распялил маленькие глазки.
– Ах, он душегуб – пережечь его надвое! – крикнул он. – Младенца ножом! Подлинный ты убойца смертный, вор Ондрейка!
– Не резать, государь…
Стрелец, не ожидая приказа, дал Ондрейке такого пинка, что лекарь едва на ногах устоял.
«А боярыня, Овдотья Ермиловна, – читал дьяк, – не дала вору Ондрейке своего сына резать. А в те поры дал тот вор Ондрюшка княжичу Иванушке отравного зелья, и с того зелья княжича не стало…
Боярин уже больше не спал:
– Иваныч, – остановил он дьяка. – То бы зелье, – коли осталось что, – в Оптекарский приказ бы послать, дохтурам на испытанье.
– То все сделано, Юрий Ондреич, – сказал Алмаз Иванов. – Вечор, как извет я чёл, к боярину Одоевскому подъячего за тем посылал. И в Оптекарский приказ бумагу писал, чтоб тотчас то зелье осмотреть, отравное ли, нет ли. Дал боярин Одоевский. Ноне и ответ должён быть.
Ондрейка и не пробовал спорить. Стоял, свесив голову, и молчал.
– Чти дале, Иваныч. Видно, и впрямь колдун и душегуб. Младенца не пожалел – пережечь его надвое!..
«И тот вор Ондрейка, – читал Алмаз Иванов, – опричь княжича Иванушки, многих людей наговорами и зельями умаривал. Как в Смоленске городе, у тестя своего Ивана Баранникова, на хлебах…
Тяжелая дверь с улицы с визгом отворилась, и два стрельца ввели ту горбатую старуху, что утром взяли на Канатной слободе.
– Бориско! – крикнул сердито дьяк. – Пошто приводных людей пущаешь? Гони в заднюю избу.
За старухой шел подъячий Стрелецкого приказа. Он перекрестился, подошел к столу и, поклонясь боярину, сказал:
– Князь Троекуров велел привесть к тебе, боярин, бабку Феклицу, что на лекаря, Ондрейку Федотова, государево слово молвила.
– Государево слово! – крикнули разом и дьяк, и боярин.
Ондрейка задрожал и с ужасом поглядел на горбунью. Новая беда – хуже прежней! Теперь не миновать Пытошной.
– Говори, бабка, что ведаешь, – сказал боярин, отпустив подъячего. – Да, мотри, не путай, – пережечь тебя надвое! Коли наклепала[29], сама в ответе будешь.
– Пошто мне, родимый, клепать. Недружбы у меня с им, с вором Ондрейкой, не было. А как я сведала про то его ведовское воровство… И как он на государское здоровье умышлял. И сведав про то, боясь от бога гневу… И чтобы мне, сироте, не пропасть, что я, ведая про тот его злой умысел, не довела, то и молвила я государево слово.
Ну, сказывай скорея, на кого он, вор и супостат, умышлял – на государя ли, на царицу, аль на государских детей? И не было ль у его в том злом умышленьи пособников?
– Про пособников, свет боярин, не ведаю. Чего не ведаю, про то и не сказываю. А только была у его, у вора Ондрюшки, по́знать[30] с царским дохтуром, с немцем Фынгадановым. И тот немец, его вора Ондрюшку, вверх приваживал и государских детей ему показывал.
– На кого ж он умышлял, сказывай?
– Да на государыню царицу и на царевича. Он, вор Ондрюшка, на государынин след пепел наговоренный сыпал и на царевича тож. И стала, после того его воровства, государыня царица недомогать и царевич смутен стал…
– Чего ты путаешь, старая? Да государыня царица, слава господу богу, в добром здоровьи и царевич тож.
– Батюшка боярин! Так я не про царицу Наталью Кириловну, спаси ее господь, а про первую царицу, про Марью Ильинишну и про царевича Симеона Алексеича…
– Так меня, государь, в те поры и на Москве… – крикнул было лекарь.
– Молчи, вор окаянный, – пережечь тебя надвое! – крикнул боярин.
– Ужо на пытке все скажешь, – прибавил дьяк. – Ну, бабка, сказывай дале.
– Сказываю, государь, сказываю. Как стал он душегубец, на государынин след пепел сыпать, так государыня и занемогла, а вскоре ж и грех случился – государыни царицы не стало. А вскоре ж и церевича Симеона Алексеича. Надумал он, вор окаянный, весь царский корень известь, что от царицы Марьи Ильинишны.
– Для чего ж ты, бабка непутевая, про то ране не довела? Аль не ведала, что от царицы Марьи Ильинишны два царевича осталось – Федор Алексеич да Иоанн Алексеич? Тот супостат и на их государское здоровье умыслить мог. Вот отошлю тебя в Пытошную – пережечь тебя надвое!..
– Не гневись, государь батюшко, – заголосила старуха. – Я и так все, как на духу, сказываю. Не ведала я сама ране, милостивец. Только и сведала, как он, душегуб, князь Никиты сынка извел. Улька кума мне про то сказывала…
– Улька? – сказал боярин, обернувшись к дьяку. – Так то́ изветчица. А в извете про то есть?
– Не, боярин, в извете про то не сказано.
– Ну, чти дале, Иваныч. Отошли бабу в заднюю. Посля спросим.
Дьяк стал читать донос. Про умысел на царицу и царевича там ничего не было. Сказано было, что и в Смоленске и на Москве лекарь многих людей портил наговорами да зельями.
Боярин больше не спал. Государево слово каждого разбудит. Дело то́ и правда оказалось важное. И колдовство, и смертное убойство, и умысел на царский род. И князь Одоевский помянут и царский доктор Фынгаданов. А что еще на пытке откроется.
– Тут у меня, Юрий Ондреич, – сказал дьяк, – приказ изготовлен смоленскому воеводе, обыск[31] учинить, ратных людей расспросить и посацких тож про лекаря Ондрея Федотова. И ученика его разыскать, Емельку Кривого.
– Давай, ин, подпишу. А я великому государю доложу, указ спрошу – дохтура Фынгаданова допросить и боярина Одоевского. Ну, до завтрева, Иваныч. Устал я чего-то, отдохну малость. А там и обед.
Боярин встал, потянулся, ноги размял. Младший подъячий снял с гвоздя парчевую боярскую ферязь[32] и взял с полки высокую горлатную шапку. Но тут снова завизжала наружная дверь и в палату вошел подъячий. Бориско подошел и спросил, откуда он.
– Ну, кого там нанесло? – недовольно спросил боярин.
– То с Оптекарского приказа грамота. Велено тебе в руки передать, государь.
– С Оптекарского приказа? – крикнул дьяк, вытянув вперед длинную шею. – Давай, давай, скорея! – И он цепкой рукой ухватил свиток, не ожидая позволенья боярина.
– Пожди малость, Юрий Ондреич. То, ведомо, про зелье, про то, – заговорил он. – Нашли ль в ем дохтура отраву.
Боярин вздохнул, сел на лавку к окну, а дьяк поспешно сорвал печать, развернул свиток и стал читать:
«Октября в восьмой день дохтуры Степан Фынгаданов (Фон Гаден) и Михаил Грамон и аптекарь Яган Гутманш посланному зелью опыт учинили над тремя голуби: Одному голубю дали того зелья в молоке, другому в воде, а третьему смешали с мукой. И первый голубь стал блевать, и тот голубь жив остался. А второй и третий голубь спустя три часа померли. И то зелье к лекарству не годно. В нем положен мышьяк. А какие еще травы, то нам не ведомо. Какой человек будет то зелье внутрь принимать, случится ему смерть».
– Ох! Да не может того статься! – крикнул вдруг Ондрейка.
Про него все словно и забыли. Как бабку горбунью увели, он стоял в углу точно каменный. Только как дьяк стал читать грамоту из Оптекарского приказа, он шагнул к столу.
– Вишь, не может статься! душегуб про́клятый – пережечь тебя надвое! Думал, сгубил – и концы в воду! Ан правда-то на свет и вышла!
– Да послухай ты меня, боярин. Не давал я младенцу отравы…
– Ведомо, сам на себя не скажешь. Вот ужо вздернут на дыбу, небось заговоришь. Отошлешь его, Иваныч, в Пытошную.
Отравное зелье
В горнице дома Одоевского лежала на лавке, спрятав лицо в изголовье, боярыня Овдотья Ермиловна. Телогрея боярыни была вся измята. Из под волосника[33] выбились пряди темных нечесанных волос.
Дверь тихо отворилась и в горницу вошла ключница.
– Матушка боярыня, гостья к тебе, Стрешнева боярыня, Наталья Панкратьевна.
Овдотья Ермиловна встала и пошла навстречу гостье.
– Заждалась я тебя, Наталья Панкратьевна. Что долго не шла?
Гостья скинула опашень[34] и убрус[35] на руки ключнице. Лицо боярыни было по обычаю набелено и нарумянено. Но смотрела гостья тоже не весело.
– Пошто присылала, Овдотья Ермиловна? Ведаю, что сердце твое изболело. Молодший сыночек всегда у матери любимый. Те то уж поженились. Женатый сын – отрезанный ломоть. А того, Иванушку, господь в утешение вам послал. Утешный мальчик то и был. Нельзя не скорбеть. И прослезиться надобно, да в меру. Чтоб господа бога наипаче не прогневить.
– Ох, государыня моя, то и страшуся я, что господа бога прогневила.
– Васильевна, – сказала боярыня ключнице, – ты подь, я кликну, как надобно будет. А ты, сестрица, сядь на лавку поближе.
Боярыня закрыла лицо руками и старалась удержать слезы.
– Не ропщи, мать, – сказала Стрешнева. – Сына твоего господь взял. А ведаешь сама, бог все на лутчее нам строит. Даст тебе бог снова и сына и дочь.
– Ох, не говори, Наталья Панкратьевна, не будет у меня такого сынка, как Иванушко. Скорблю я по ем день и ночь. А только не затем я за тобой посылала, чтоб на горе свое великое жаловаться. То горе в могилу с собой унесу. Другое ноне мне сердце гложет. Нет мне покою, что обманула я хозяина своего, Никиту Иваныча. Сама ведаешь. Пустила я к Иванушке ведунью. А Никита Иваныч строго-настрого мне заказывал – с колдунами да с ведуньями не знаться. И слушала я его. А тут уж больно меня тот лекарь спужал, как Иванушке опух резать надумал. Голову я потеряла. Памятуешь? А ты мне про ту ведунью в тот час и сказала.
– Что ж, та ведунья добрая, – сказала гостья. – Многажды меня лечивала. Не худого тебе хотела, Ермиловна. Да, видно, не было на то господней воли, чтоб выздороветь Иванушке твоему. Аль поздо уж позвали мы ее. Нет тут вины моей.
– Христос с тобой, сестрица. Не к тому я. Ведаю, что добра мне хотела. И сама я так полагаю, что божья воля. А все думается – ну, как лекарь бы лутше помог. Его-то питье я боле не давала, как ведунья свое дала, а лекарево давать не велела. От его-де, – сказывала ведунья, – помереть может Иванушка. А ноне, что дале, то боле – в голове ровно молотом стучит: ну, как та ведунья не ученая и вред Иванушке сотворила. Може, не от лекаря он и помер?
– Не греши, Ермиловна, – сказала Стрешнева. – Не от лекаря и не от ведуньи Иванушка помер. Господь его взял. А на бога не оскорбляйся.
– Боюсь я, Панкратьевна, ох, боюсь! – заговорила горестно Одоевская. – Не узнал бы хозяин про мое ослушание. Добр он до меня. А тут не помилует. Впервой обманула я его так. Как помер Иванушка, ни о чем и думать мне не вмочь было. А тут вечор Никита Иваныч пришел, говорит – из Приказа прислали, велели остатное питье Иванушкино дать – дохтура его в Оптекарском приказе смотреть будут, доброе ли то питье. Не от его ль смерть ему приключилась? «Я де, – молвил хозяин, – у Иванушки на поставце питье взял да и отдал.» – С той поры нет мне покоя. Сама я не ведаю, кое питье хозяин мой взял – лекарево аль ведуньино? Сгинули обе скляницы. Искала я искала ноне – не найду. Ведуньино-то питье белесое было, а лекарево с краснинкой – то́ я памятую. А кое Никита Иваныч отослал – не ведаю. А спросить не смею.
– Пошто ж испужалась так, Овдотья Ермиловна. Коли Улькино питье, ведомо доброе. Бабка она ведущая. Сколь годов ее ведаю. Лечивала меня не единожды. И все с молитвою. Не как лекарь твой. Его-то кто лечить научал? Чай немцы – нехристи. И все их ведовство от нечистого. Неужли младенца нехристю доверить? Лекарь и душеньку ангельскую погубит. Ноне его душенька прямо к богу пошла. За тебя, небось, молится.
– Ох, болит мое сердце, сестрица! Боюсь, ну, как я сама детище свое рожоное сгубила. Поспрошать бы хоть бабку ту, Ульку, доброе ль питье Иванушке моему давала. Пошли ты мне ее, Панкратьевна, на поварню.
– Христос с тобой, Ермиловна! Да я ту жонку с той поры и не видывала. Жалеючи тебя, прислала к тебе, как Иванушке худо было. А с того дня и не видывала. И куды пошла она, не ведаю. Ты, мотри, сестрица, за мое добро мне худа не сделай. Не сказывай князь Никите Иванычу, что я ту жонку тебе прислала. Не любит князь Никита Иваныч ведуний. Коль он сведает, что была она у Иванушки, осердится и на меня.
– Не скажу, Панкратьевна, пошто сказывать? То мой грех перед хозяином.
Дверь опять тихонько отворилась, и ключница просунула голову в горницу.
– Ты что, Васильевна?
– Князь Никита Иваныч из дворца приехал. Смутен больно. В повалушу пошел.
Гостья быстро встала и, поцеловав хозяйку, торопливо надела опашень и убрус. Боярыня сделала знак ключнице, и та повела боярыню Стрешневу через другое крыльцо во внутренний двор.
Минуты не прошло, как раздались тяжелые шаги, и в горницу вошел князь Никита Иванович. Боярыня робко встала с лавки.
– Плачешь все, Ермиловна? – сказал боярин, и ласково положил ей руку на плечо. – А я к тебе с недоброю вестью.
Боярыня вся задрожала.
– Вишь, пуглива сколь стала. А весть та боле для меня недобрая. Сердце твое правду чуяло. А меня, видно, бес попутал. Доверился я лекарю тому. Ин, сказать тебе боязно. Отравил он, душегуб окаянный, Иванушку нашего.
Боярыня зашаталась и, как стояла около лавки, так и упала на нее.
– Виноват я перед тобой, Ермиловна. Не послухал тебя. И на ум не всходило мне, что убойца злой лекарь тот. Не ведал я, что и в Приказ Разбойный его забрали. А ноне поутру, как шел я от обедни за государем, жонка его попалась мне на площади, поведала, что забрали Ондрейку, а за что и сама де не ведает. Била мне челом, чтоб государю я за его слово молвил – вины де за им никакой нету. А я, сама ведаешь, до его добр всегда был. Тихий он такой а, науку лекарскую, думал я, понимает. И как помер свет наш, Иванушка, я на его сердца не имел. Сам он шибко убивался. Ну, думаю, видно, воля божья. Так и государю молвил, как он в передней ко мне подошел. А как государь к себе пошел, – я уж домой собрался – из Оптекарского приказа боярин Матвеев, Артамон Сергеич, приходит. Ко мне подошел да и молвит: – Что́-де ты, Никита Иваныч, к нам в приказ зелье присылал, так его-де дохтура смотрели и вышло-де то зелье лихое. Как дали его голубю испить, так тот голубь, мало спустя, и помер.
– Помер! – со стоном вскричала боярыня. Голова ее откинулась на изголовье, правая рука свесилась с лавки.
Боярин испугался и громко кликнул Васильевну.
В горницу прибежала ключница, а за нею сенные девушки. Они уложили боярыню поудобнее и стали ее растирать, чтобы она опамятовалась.
Боярин ушел к себе в повалушу[36].
Ученик доводит
В городе Смоленске тревога. Воевода, князь Мышецкий получил от великого государя указ – учинить большой повальный обыск и ратным людям в Стрелецком полку и посадским в городе. Расспросить их накрепко про лекаря Ондрейку Федотова. Долго ли, нет ли он на Смоленске жил и ладно ли ратных людей лечивал и не было ли за ним какого волшебства или чародейства или другого какого воровства[37]… И все распросные речи тех людей прислать на Москву в Разбойный приказ за своеручными подписями.
А еще велено сыскать в Смоленске лекарского ученика, Емельку Кривого, и расспросить его с великим пристрастием[38] про того же Ондрейку Федотова, а расспрося, прислать самого Емельку на Москву в Разбойный же приказ.
Ратных людей допросить не хитрое дело. Велел воевода полковнику Дамму построить полк на площади, вызвать попа и прочесть государев указ. А там и спросить ратных людей, не ведают ли они за лекарем Ондрейкой какого ду́рна.
