Двенадцать ступенек в ад
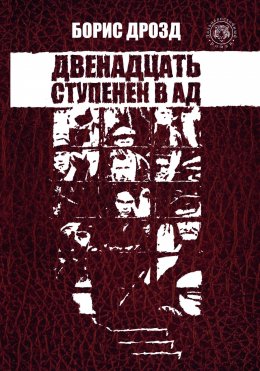
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ТЕНИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ЗАГОВОРА
Роман-исследование
Светлой памяти всех казненных и замученных
в Хабаровской внутренней тюрьме НКВД
в годы Большого Террора в СССР в 1937-1938 гг.
посвящая этот роман-исследование.
Самое горькое и страшное в том, что еще оправдают это несчастное время, еще грудью станут на его защиту. Нет, и даже оправдываться не станут в казнях. Скажут, иначе нельзя было. Русские люди, увы, не памятливы на историческое зло от государства. Слишком отходчивы. Так надо было, скажут, иначе нельзя, время такое…И свалят-свалят все на время такое и так надо было… Жаль, я не доживу, чтобы убедиться в этом.
(М.А. Павлов, ученый-геолог, профессор Владивостокского университета, до ареста в 1931 году заведовал кафедрой геологии в университете, участник экспедиции Седова на Северный полюс в 1913 году. Последние слова, сказанные сокамернику перед выводом на расстрел).
ЛИКВИДАТОРЫ
(Вместо предисловия)
«И делили одежды его, бросая жребий»
Евангелие от Матфея 27:35
Поздним летним вечером ровно в десять часов, едва только стемнело, словно по расписанию, открылись ворота во двор тюрьмы, и через арочный проем здания во двор въехал грузовик. И стоявший на вахте охранник, открывший ворота, и дежурившие в тюрьме надзиратели, и задержавшиеся на важной работе следователи (многие из них даже ночевали в своих кабинетах или продолжали вести следствие сутками), все они вместе с проснувшимися или не спавшими арестантами, знали, что это за шум грузовика во дворе в это время.
Грузовик «ЗИС-5» с наращенными бортами, крытый брезентом, задним ходом подъехал к торцу отдельно стоящего у дальнего забора длинного приземистого строения без окон, двери в которое были открыты: грузовик уже ждали.
Открылась дверь кабины, и с подножки грузовика резво спрыгнул человечек в рубахе, с непокрытой головой, в полусапожках, с заправленными в них широкими брюками, ухарски нависавшими над голенищами. Это был «бригадир» спецкоманды.
– Ну, что сегодня? – спросил «бригадир», останавливаясь на пороге открытой двери.
– Полным-полно! – отвечал изнутри один из служителей тюрьмы, невидимый для приехавшего. – Навалом не кладите, а штабелями, аккуратно.
– Сколько их сегодня? – спросил «бригадир».
– Сто двадцать или сто двадцать один, может, обсчитался, не пересчитывал. Да еще и вчерашних не всех вывезли.
– Ого-го, как сегодня навалили!
– Говорят, сегодня разгрузочный день в тюрьме.
– Выходит, три ходки надо? – спросил «бригадир», закуривая папиросу.
– Не меньше. Со вчерашними как бы не четыре. Этих надо срочно, а то уже запашок пошел гулять. Ямы готовы?
– А то как же! Траншею вырыли, теперь надолго хватит. Но за ночь четыре ходки можем не успеть. Замучаемся, да и светать начнет.
– Надо успеть, помещение освобождать. Вот-вот новые пойдут, – проговорил тюремный служащий.
Говорившийся служитель выбрался откуда-то из недр плохо освещенного помещения и приблизился к выходной двери. Это был молодой человек лет двадцати пяти – круглолицый, с маленьким носиком, совершенно безбровый, с редкими ресницами. Глаза его часто-часто моргали, как если бы в них угодили соринки. Он был без шеи и так мал ростом и широк в плечах, что, стоя спиной, был похож на живой щит или заслонку. Одет он был в прорезиненный зеленоватого цвета костюм и в резиновые сапоги, голову венчала новенькая фуражка военнослужащего с лакированным козырьком и со звездой, явно конфискованная у какого-то казненного бывшего офицера. По нему было видно, что он уже навеселе. В уборочной команде он был за старшего.
– Угости-ка папироской! – обратился он к «бригадиру».
С опаской и с брезгливым выражением лица, морщась от запаха, к которому невозможно сразу, с улицы привыкнуть, «бригадир» спустился по трем ступенькам вниз, в помещение, достал из кармана брюк дорогой, с позолотой портсигар с гравировкой туловища дракона о шести головах по его поверхности, вытянул из него «беломорину», протянул коротышке. Тот осторожно взял папиросу влажными пальцами и расслабленно отвалился на дверной косяк. «Бригадир» поднес к его папиросе зажигалку, помог тому прикурить.
– А кто сегодня сторожем на кладбище? – спросил коротышка
– Баба Аня, новенькая.
– А-а! Не догадываются сторожа, что за жмуриков возите?
– Не! Все на мази! Да и откудова бы им знать?
«Бригадир» какое-то время привыкал к скудному свету помещения, изнутри которого слышались какие-то странные, как если бы чавкающие звуки, точно кто-то шагал по грязи. Где-то там, в глубине, видны были две человеческие фигуры, – это еще двое служителей возились с телами казненных. Пол тут был щедро усыпан опилками, чтобы стекающая с казненных кровь не собиралась в лужи, а впитывалась в опилки, а в тех местах, где не было опилок, кровь налипала на подошвы сапог и оттого при ходьбе слышались чавкающие звуки. К концу рабочей смены (или в процессе работы, когда выдавалась свободная минута) служители соскребали опилки совковыми лопатами в кучки, насыпали их в ведра, выносили на улицу и сбрасывали в бак, предназначенный для сжигания не только кровяных опилок, но и другого мусора. Бак располагался в укромном месте у забора, дым от костровища нервировал служащих тюрьмы и управления. Несмотря на то, что бак был накрыт куском железа, рой мух кружил вокруг него, если опилки были свежими, пока туда служки не наливали солярки для сжигания.
Как ни привычен был «бригадир» и иже с ним к запаху мертвецкой, крови и виду казненных людей, к перетаскиванию их из помещения в грузовик и вывозке из тюрьмы; как ни убит или не усыплен был в нем дух Божий, смрадный запах в помещения с уложенными штабелями у выходных дверей казненными, с роями мух, жужжавших и досаждавших, усеявших стены и потолок, резко ударил по обонянию и еще больше покоробил «бригадира» после чистого воздуха улицы.
– Да… ммм…живете вы тут…Не позавидуешь! – поморщившись, проговорил он, присев на ступеньку и брезгливо оглядываясь вокруг.
– Что поделаешь, служба! Подписался – так исполняй! – отозвался коротышка, моргая глазами. – Без водки тут никак нельзя. Обоняние отшибить да глаза заморозить! – Слышь, Мирон! – крикнул он в глубину одному из товарищей, возившемуся с телами казненных, – сыпани-ка еще опилок на пол, пока тащить не начали! Опять оскользнется кто-нибудь и шмякнется на потеху!
Тем временем из кузова грузовика, отодвинув брезент, выпрыгнул на асфальт еще один человечек, по виду совсем мальчишка, лет двадцати. Он был в кирзовых сапогах, в рабочем картузе, в черной рабочей спецовке, куртка которой была с большими накладными карманами, а брюки заправлены в сапоги. Он зевнул и лениво потянулся, разминая затекшие члены, а затем полез в карман куртки за папиросами. Закурив, двинулся к входной двери в «подвал», остановился в проходе… А еще через какое-то время выбрался из кабины и водитель – солидный дядька, по возрасту лет за сорок. На нем был пиджак и широкие брюки мастерового, на голове фуражка «восьмиклинка» с пуговкой на макушке, на ногах тоже кирзовые сапоги. Выбравшись, он стал возиться с задним бортом, чтобы откинуть его для предстоящей погрузки. Водитель единственный из всех здесь офицер, сержант госбезопасности, он отвечает за конечный итог «операции» перед комендантом. А служки-уборщики (их было четверо), как и служки вывозной команды – добровольцы, рядовой состав 1-го отделения комендантского отдела НКВД при управлении Административно-Хозяйственной Части, занимавшееся «спецобслуживанием», в частности, вывозкой тел казненных. Им предложило начальство участвовать в спецзадании и войти в спецкоманду, обещая им различные льготы, премии и в будущем более быстрое присвоение званий и продвижения по службе. Водитель-офицер одет не в форму, так как задание секретное, и никто не должен догадываться о том, что грузовик работает по спецзаданию НКВД. Он, конечно же, доносчик и ему поручено наблюдать за действиями и вывозной, а по возможности, и за уборочной командой, чтобы слишком уж не разворовывали одежду, снятую с казненных, так как служки уборочной команды, раздевая казненных, обшаривали карманы, забирали в них оставшийся табак в пачках или в кисетах, портсигары и папиросы или что-нибудь другое, по мелочи, понравившееся. Не брезговали одеждой, «клифтами», обувью. Одежда и обувь отдельными кучками валялись тут же, в углу. Женская отсортировывалась и лежала отдельной кучкой. Служители считали, что это их законная добыча за свой тяжелый труд, хотя и эта одежда, снятая с казненных, и та, что оставалась в тюрьме – в узелках, чемоданчиках, рюкзаках, являлась конфискованной в пользу государства, согласно пункту расстрельных приговоров по 58 статье «с конфискацией лично принадлежащего ему (ей) имущества)». К тому же по инструкции трупы следовало зарывать в землю голыми или в исподнем белье.
Но главное наблюдение за служителями водителя-сержанта заключалось в том, чтобы служители не мародерствовали и не выбивали зубы с золотыми коронками у казненных «врагов народа». Всякие «операции» с золотом, даже добытые таким способом у казненных, считались преступлением и строго карались. Такие случаи уже бывали. Красть, то есть присваивать имущество, было запрещено инструкцией, но начальство тюрьмы понимало, что без этого не обходится и, в сущности, смотрело на это сквозь пальцы.
– Ну, давай, тащи водку, что ль? – обратился «бригадир» к коротышке. – Начнем таскать, а то время не ждет, не уложимся к рассвету.
– Счас-счас! По целенькой вам на рыло, – отвечал коротышка.
Он прошел немного вперед к стоявшей здесь тумбочке (со столом и несколькими табуретами), наклонился, открыл дверку и достал, гремя стеклом, с нижней полки три поллитровые бутылки водки, уложенные в продуктовую сетку.
– Посуда при себе имеется или одолжить? – спросил он.
– Имеется!
Коротышка установил бутылки на поверхность тумбочки, а бригадир крикнул в сторону дверей:
– Васька, ну что ты там встрял в дверях? Оттащи продукт в катафалк и сложи в бардачок!
– Давай, старшой, примем по чуть-чуть? – подойдя к ним, попросил тот, которого звали Васькой.
– Ни-ни-ни! – решительно возразил «бригадир». – На кладбище примем, когда разгрузимся, по жмурикам поминки справим.
Началась работа. Из «мертвецкой» трупы таскают к грузовику все четверо служителей уборочной команды, разбившись на пары, взявши за руки и за ноги. Укладывают в грузовике двое – «бригадир» и Васька. Водитель в погрузке не участвует. Отвернувшись, он стоит в сторонке и покуривает.
– Мертвяки тяжеленькие! Живые-то полегче!
– А этот-то пузатый всю спину мне прогнул!
– Гля, старшой, баба! Кажись, улыбается! А вон еще одна!
– Привиделось тебе, что ль? Перекрестись, а то ночами сниться будет!
Через полчаса набили грузовик доверху.
– Хватит, а то еще по дороге выпадут. Да еще, Васька, тебе где-то разместиться надо. – командует «бригадир». – Брезент хорошенько скрепи с бортами!
– Васька, тебе не страшно на жмуриках сидеть? – спросил его коротышка.
– Не, я привычный!
Все. Захлопнулись двери кабины, и осторожно фургон стал выбираться из тюремного двора. Вот миновал арку, вырулил на Волочаевскую улицу, повернул направо, проехал квартал и опять повернул направо, на главную улицу Хабаровска, названную именем Карла Маркса – одного из главных творцов Великого Революционного Учения. Фургон мчался за город, на Матвеевское шоссе, за село Матвеевку и дальше-дальше, на городское кладбище, место прежде глухое, но с октября тридцать седьмого разрешенное для обычных захоронений. Лето. Нужно торопиться, светает рано. В четыре часа уже рассвет.
…Перед въездом на территорию кладбища дорогу фургону преградил шлагбаум, и ночную тишину потревожил звук автомобильного сигнала, а тьму прорезал свет фар. Из будки нескоро вышла сторожиха в платке на голове, в куртке, подпоясанной веревкой, с большим фонарем в руках. Ночи в этих местах прохладные даже летом.
Старуха спустилась по ступенькам с невысокого крылечка и подошла к шлагбауму, прикрывая глаза ладонью от яркого света фар.
– Кто такие? – спросила она, светя фонарем на автомобиль.
– Открывай-открывай, бабаня! Свои! – опустив стекло кабины, крикнул бойкий «бригадир» развязным тоном.
– Опять солдатиков привезли, что ль?
– Их самых, бабаня!
– Что ж там такое? Кажную ночь возите и возите который уже месяц, считай с прошлого года.
– Бои все идут на границе, бабаня, в Приморье. Слыхала, небось, про Хасан?
– Ну, чей-то слыхала…
– Японец прет через границу, сволочь!
– И что ж им там наши не могут рога обломать, что ль?
– Обломают! Да шибко много их, чертей! Мильенная армия.
– А почто опять ночью возите?
– А как ты думаешь себе, бабаня, ежели днем возить? Народ днем ходит, смущать людей, толки разные пойдут. Тут нельзя без секретности.
– И эти-то опять без гробов-то голые или в исподнем?
– И эти тоже, бабаня. Из госпиталя взятые, помершие. Одевать, что ль, их? А гробов-то на них где напасешься? Каждый день, считай, по полсотне да по сотне мертвяков шлют…
Неподалеку от ворот по левую сторону от входа – длинный, глубокий ров, выкопанный еще в мае нанятыми землекопами, заготовленный впрок, с запасом на будущие захоронения. К рву, развернувшись, сдает грузовик задним бортом, поближе, к самому краю.
– Куды ж яма-то такая глубокая? – спросила старуха, проследовавшая за грузовиком к месту захоронения и светя фонарем в яму.
– Так нужно, бабаня…Их много будет, спать тебе сегодня не придется. И завтра, и послезавтра, и после-после завтра будем возить помногу, пока война не кончится.
Открылся задний борт и приезжие стали аккуратно сбрасывать трупы в яму, ухватив за руки и за ноги, а затем, когда первые ряды закончились, «бригадир» влезал наверх и подтаскивал трупы к краю кузова в рядок; потом спрыгивал, и опять они вдвоем брали их за руки и за ноги и бросали в яму.
Не прошло и пяти минут, как грузовик со всех сторон обступили кладбищенские собаки, свора которых из пяти-шести особей поселилась здесь в поисках пропитания, которое оставляли на столах и на могилах посетители. С кладбища ничего уносить нельзя – это известное всем табу. Сбежавшись со всех уголков, псы тотчас же обступили грузовик со всех сторон, не приближаясь к нему и злобно, остервенело стали облаивать это им уже знакомое железное чудище, вторгшееся в их владения и от которого исходил дух смерти.
– А чем это от вас всегда воняет? – с подозрением спросила старуха. – Всех собак пособирали с округи, никак не уймешь их после вас.
– Водкой разит. В этом деле без нее-то никак нельзя, сама понимаешь, бабаня.
– Да не водкой от вас прет, а какой-то гадостью!
– Так больницей, бабаня, воняет, ею родимой, – отвечал «бригадир».
– Хм, больницей, – недоверчиво бормочет старуха, принюхиваясь. – Ишь, псы-то как остервенели, ни одну машину так не облаивают.
– А что им еще делать? – отшучивался «бригадир»? Собаке положено брехать, вот она и брешет.
– Вишь, как разошлись!.. Цыц, заразы такие! – крикнула сторожиха, замахнувшись на ближайшего пса палкой.
И долго еще после отъезда грузовика не успокаивались псы, разогнанные старухой, подвывая изо всех углов.
Собаки, наконец-то успокаивались, их собачья тревога улеглась, но только до очередного появления этого грузовика на кладбище.
А уже утром другая спецкоманда из комендантского отдела из трех-четырех человек приедет на кладбище с лопатами и присыплет землей этот слой мертвецов до следующих рейсов грузовика.
…Когда спустя два часа грузовик вернулся обратно за новой партией казненных, внутренняя тюрьма НКВД все так же горела почти всеми своими окнами. Деятельная жизнь в ней не прекращалась ни на один час. Горел свет во многих окнах соседнего, недавно выстроенного огромного здания управления НКВД, соединенного со старым зданием и внутренней тюрьмой закрытой галереей на уровне второго этажа. Город уже давно спал, закрылся единственный в городе ресторан «Дальний Восток», погасли рампы музыкального театра, уличных фонарей на улицах Хабаровска той поры было немного, а эти горящие многими своими окнами здания нового управления и внутренней тюрьмы было одними из самых «живых» и заметных зданий в городе, словно бы маяки во тьме или в густом тумане. Или словно бы два расположенных по соседству дворца, где гуляли толпы приглашенных на всеобщий праздник людей – с угощениями, смехом, музыкой, танцами… Эти два здания-«дворца» были одними из немногих и красивых зданий в одноэтажном и на девять десятых «деревянном» Хабаровске наряду со зданиями штаба Красной армии, дома для начальствующего состава Красной армии, здания пограничников на улице Серышева и причудливой архитектуры зданием Дома Советов на улице Карла Маркса и были видны и снизу, с Уссурийского бульвара, но особенно сверху, с двух холмов, по которым протянулись главные улицы города – улица Карла Маркса и улица Владимира Ульянова-Бланка-Ленина – еще одного творца Великого Революционного Учения.
I ТРЕВОГИ ТЕРЕНТИЯ ДЕРИБАСА
Апрель-май 1937 года
Начальник УНКВД СССР по Дальневосточному краю Терентий Дмитриевич Дерибас не только главный НКВДэшник огромного края, на котором разместилась бы вся Европа, но и главный пограничник его обширных границ, расхаживал по своему огромному кабинету с большими окнами, выходившими во двор на улицу Волочаевскую. Он размышлял о последних, уже свершившихся событиях в стране и в подвластном ему Дальневосточном крае. Это был уже пожилой человек, чрезвычайно маленького роста с густой седеющей шевелюрой на голове и пышными, такими же седеющими усами.
Миновал только месяц с лишним, как закончился февральско-мартовский пленум, явившийся важнейшей вехой, как в общественно-исторической, так и обычной жизни всей советской страны. Назревали масштабные перемены, связанные с невиданной радикальной политической реформой советского общества, чему предшествовали не только открытые политические московские процессы тридцать пятого и тридцать шестого годов против оппозиции, но и перестановки в высших эшелонах советской и партийной власти, а также смещение с поста Ягоды и назначение на этот пост Ежова . В декабре 1936 года советская страна приняла первую Советскую конституцию, которую потом историки назовут сталинской конституцией. Она была утверждена в январе 1937 года на восьмом съезде Советов. На новом этапе, вступив в 1937 год, сталинское руководство готовило масштабные выборы в Верховный Совет, – впервые в советской стране были объявлены выборы без всяких сословно-классовых ограничений, «для всех граждан СССР», притом, на альтернативной основе. Советская страна (по главным образом властная партийная верхушка на местах) готовилась к этим выборам с различным настроением: кто со страхом перед переменами в судьбе и в карьере (вдруг не изберут?), а кто и с надеждами на долгожданную демократизацию политической и общественной жизни страны.
Но февральско-мартовский пленум поразил всех, кто ждал этих выборов и надеялся на важные политические реформы. Ожидавшиеся глубокие политические и общественные перемены обрели совсем другой поворот. На этом пленуме Сталин выступил два раза – 3 марта с докладом «О недостатках партийной работы и мерах по ликвидации троцкистских и иных двурушников». И 5 марта с заключительным словом. Главной мыслью Сталина была та мысль, что по мере успехов социалистического строительства классовая борьба не оканчивается, а наоборот обостряется. «…надо покончить с оппортунистическим благодушием, исходящим из ошибочного предположения о том, что по мере роста наших сил, враг становится будто бы ручным и безобидным. Такое предположение является отрыжкой правого уклона, уверяющего всех и вся, что враги будут потихоньку вползать в социализм, что они станут, в конце концов, настоящими социалистами. Не дело большевиков почивать на лаврах и ротозействовать. Не благодушие нам нужно, а бдительность, настоящая большевистская революционная бдительность. Надо помнить, что чем безнадежнее положение врагов, тем охотнее они будут хвататься за крайние средства в их борьбе с Советской властью. Надо помнить это и быть бдительным».
А в марте этого же года сразу же после пленума по инициативе Сталина состоялось совещание руководящих сотрудников НКВД всей страны по вопросу борьбы с «врагами народа». По итогам совещания руководящему аппарату местных региональных управлений НКВД было рекомендовано увеличить свой штат вдвое, «искать и брать людей от станка, с производства, мало у нас рабочих и крестьян в органах» – это было новым и неожиданным направлением политики нового руководства НКВД, а значит и Политбюро со Сталиным. Денег на новую инициативу Политбюро не жалело.
Чтобы привлечь новые кадры, почти вдвое были увеличены оклады сотрудников НКВД, которые достигли, а по некоторым должностям даже превысили оклады партийной номенклатуры. НКВД становилась привилегированной закрытой кастой, устанавливающейся над партией, над правительством, над советскими и прочими организациями и учреждениями.
Из всего хода последних политических событий Дерибасу было ясно, что готовится серьезная, масштабная, причем, кровавая операция, под которую нужно набрать и за короткий срок обучить, подготовить новый штат оперативников и следователей «от станка». То есть взять людей «с улицы», не готовых ни морально, ни политически, ни профессионально вести оперативно-следственную работу. И в два-три месяца «натаскать» их на поиск и разоблачение «врагов народа».
Терентий Дмитриевич понял, что теперь прольется большая кровь. В Москве недовольны работой дальневосточных органов безопасности именно потому, что здесь крайне мало дел заведено по борьбе с «врагами народа», мало их тут выкорчевывают, мало находят, мало казнят и сажают. Хоть убейся, хоть костьми ложись, а добудь этих самых «врагов» живыми или мертвыми. Лучше живыми, чтобы можно было их потрошить и добывать имена новых «врагов». Кремлевское руководство подозревает на Дальнем Востоке о существовании скрытого троцкистского подполья и связанного с ним заговора военных и высоких должностных лиц в партийных, советских и хозяйственных кругах по всему краю, и поэтому отправило на Дальний Восток оперативную группу из центрального аппарата НКВД во главе со старшим майором государственной безопасности Арнольдовым и под общим управлением комиссара государственной безопасности второго ранга Мироновым для помощи местным органам безопасности. Бригада уже прибыла в Хабаровск и приступила к работе. По мнению Дерибаса, московские следователи будут рыть землю носом, чтобы докопаться до «заговорщиков», вредителей, шпионов и прочих «врагов народа». Аресты пойдут пачками.
Приезд московской бригады Дерибас рассматривал как «карательную операцию», как покушение Москвы на его профессиональную состоятельность и доверие, вмешательство в его с Блюхером епархию, где только они одни были хозяевами края, не исключая, разумеется, и Гамарника. Как сокрушение его покоя и сложившегося порядка жизни.
Дерибас уже достиг всех возможных вершин власти, материального благополучия и довольства собой и своею жизнью. И начинавшаяся Сталиным и его ближайшим окружением новая встряска и перетряска общества с новыми неизбежными репрессиями никак не соответствовала его теперешнему состоянию покоя, довольства своим положением и своею жизнью. И эта новая инициатива сверху, чему предшествовало, как сразу догадался он, снятие наркома внутренних дел СССР Ягоды осенью 1936 года и назначение Ежова, говорила о том, что пришел конец и покою и всему сложившему порядку его жизни. И новый поворот, («переворот» как называл его Дерибас про себя) верховной власти, сулил не только новое личное беспокойство, но и новые нажимы Москвы на местную власть с требованием ужесточения и без того жестокого режима в отношении всех действительных и возможных противников власти.
После бурной революционной молодости с ее Красным террором, Гражданской войной, расстрелами, трибуналами, жаждой выслужиться, схватить новую должность, более высокую, новое звание, новую награду или премию; после не менее бурной, хотя и короткой коллективизации дальневосточных крестьян с ее расстрелами, высылками, судами «тройки» и вынесением неизбежных расстрельных приговоров, пожилой чекист, замотанный к тому же необходимостью по своей высокой должности инспектировать едва ли не каждый месяц пограничные заставы и строящиеся укрепрайоны, а также многочисленные, все разраставшиеся лагеря с их стройками (в основном железных и автомобильных дорог), – после всего этого Дерибас как-то по-особенному стал ценить простые человеческие радости: любить свою молодую жену (почти на тридцать лет моложе), восторгаясь ее женской прелестью, сюсюкать с крошечным, двухмесячным сыном, умиляясь до слез такому чуду, как рождение ребенка, «в мои-то годы стал отцом, давно разменял пятый десяток» (ему было 54 года), прогуливаться с женой в садике своего особнячка, с гордостью катить коляску по аллее или гулять с женой под руку по улице Карла Маркса (а иной раз и по улице Серышева, куда выходила прогуляться для моциона вся военная элита края со своими женами, чтобы женам можно было покрасоваться друг перед другом новыми нарядами и украшениями); а то еще сидеть на скамеечке в садике своего особнячка, слушать треск сорок или поутру слушать разноголосицу скворцов и ощущать полной грудью простое человеческое счастье. Как если бы всего этого в его жизни никогда не было или было так давно, что уже и не вспомнить. И потерять все это было бы глупо, досадно, больно.
Этот душевный (и жизненный тоже) переворот произошел в Терентии Дмитриевиче совсем недавно, после того, как он близко сошелся с Еленой Комаровой, сотрудницей его секретариата, родившей в феврале 1937 года ему сына, которого по ее настоянию, назвали Германом.
Женитьба на молодой женщине существенно повлияла на многое в жизни Терентия Дмитриевича. У него сложилась новая жизнь, помимо той, по которой протекало все его прежнее повседневное существование: рутинная служба, инспекции по заставам и дальневосточным лагерям (начальником которых он являлся) тяжкие по впечатлениям и длительные по времени; потом «тройки», попойки, кутежи, потом оперчекистские совещания, разработка новых операций по противодействию японской агентуре, заседания в бюро крайкома – неизбежные обязанности. Теперь у него появилось гнездышко, которая свила молодая жена, куда он теперь охотно и бежал, спешил со службы, из командировок, посылая Леночке телеграммы: «Спешу домой, рыбонька моя! Не чаю до тебя добраться».
Он видел, как она твердо и последовательно своей мягкой женской властью прибирала к рукам и его, и его жизнь, хозяйничала в ней, устанавливала в ней свои правила, создавала семейный уклад в жизни руководителя высокого ранга, давно не имевшего семьи, боролась с его пьянством, кутежами, отборной матерщиной, (а он слыл непревзойденным матершиником), убеждала в том, что пьянство и матерщина – от бескультурья, и оно не красит руководителя такого ранга, как он. И это нравилось ему! Что значит женщина! В особенности, что значит женщина, когда под старость влюбишься в нее, обожаешь ее до слез, до умиления в душе, когда она входит в твою жизнь и становится хозяйкой в ней!
– Чекисту трудно без водки, рыбонька, – нередко жаловался он ей. – Крови много, горя, криков много, жалоб много, от начальства нагоняев много, работы много, а средств снять или облегчить нагрузки немного, одно-единственное.
– Пьянство от бескультурья и ограниченности кругозора твоих сотрудников… Надо повышать культурный уровень, читать книги, посещать театры, кино, учиться, учиться и учиться, как говорил наш Владимир Ильич Ленин.
На это он только усмехался в усы.
Как бывшая сотрудница его секретариата, она была в курсе не только всех его дел, но и всех важнейших дел, происходящих в и в крае, и в стране. Елена в выступлении Сталина на февральско-мартовском пленуме каким-то своим женским чутьем почувствовала угрозу не только своему положению жены такого большого начальника, но главным образом положению мужа, который занимает важнейший пост в чекистской иерархии, но и ухудшению самой обычной, бытовой стороне жизни.
– Прежней жизни уже не будет, Терентий, – уверяла она его. – Товарищ Сталин всех призывает в своем докладе к бдительности. Это в докладе его главная мысль. Вот ты представляешь себе, когда все будут бдительны от мала до велика, а не только коммунисты. А что такое бдить? Значит, подозревать, заведомо быть настроенным на подозрение, настраиваться на то, что вокруг нас враги, а ты только ходи и высматривай, вынюхивай, выслушивай, кто и что сказал, кто и что сделал, кто к кому в гости ходит, кто и с кем дружбу водит. Ведь теперь и слова не скажешь от себя. Люди не умны в большинстве, трусливы, завистливы, зависимы от чужого мнения, особенно от начальства, не критически относятся к себе и ко всем словам, которое говорит вышестоящее начальство. А начальство критике нельзя подвергать, критика у нас зажата донельзя, только покритикуй кого-то, и сразу же на тебя подозрение падет как на антисоветского элемента. Но так ведь невозможно будет жить, Терентий! Ведь сейчас люди станут клеветать друг на друга под предлогом большевистской бдительности. Мы теперь даже друг другу не будем доверять.
Он ценил ее ум и проницательность, хотя и сам прекрасно это понимал.
Тут как раз в кабинет заглянула жена – в шляпке, в норковом манто, в ботиках, модно одетая, – высокая, тонкая, изящная, хрупкая, с заколотыми булавками на затылке волосами, так что казалась еще выше ростом ( она была на голову с гаком выше мужа ростом).
– Терентьюшка, мы пошли гулять, – сообщила она ему.
Это они пошли с сыном гулять в садике управления.
– Идите-идите, рыбонька моя! – ответил он.
– На обед чтобы домой пришел, Терентьюшка, у нас украинский борщ и твои любимые свиные отбивные. Нечего по столовкам шляться, да всухомятку питаться, совсем желудок себе испортишь.
– На борщ обязательно буду, рыбонька! – отвечал он, улыбаясь ее командирскому тону и любуясь ее женской прелестью.
Для того чтобы сообщить ему об обеде, она могла бы ему позвонить, не нужно было являться в управление. Но он понимал ее женское тщеславие, эту «бабью» слабость, и она умиляла его. Она пришла не только затем, чтобы сообщить ему об обеде, но затем, чтобы покрасоваться перед сослуживицами, гуляя под окнами управления, прокатывая коляску с ребенком, шагая по коридорам и лестницам, чтобы подразнить их московскими нарядами – платьем, шляпкой, изящной, но теплой, выстланной изнутри лебяжьим пухом, норковым манто, надетым поверх платья, меховыми ботиками, все это куплено мужем в торгсине в Москве. Кто она была прежде? Рядовая сотрудница его секретариата, любовница, может быть, одна из многих (он был силен и неутомим в половом отношении, как многие карлики), но вот она забеременела и родила ему сына, и он стал называть ее женой (хотя они и не расписались) и поселил в своем небольшом особняке на улице Карла Маркса.
Стоя у окна и глядя вниз, во двор, где у коляски с ребенком в ожидании, когда вернется хозяйка, стояла кормилица и нянька Анна Филлиповна, Терентий Дмитриевич умильно улыбался, и даже слезы навернулись на глаза. Вот из подъезда вышла «рыбонька», быстро спустилась по ступенькам, и они вдвоем с кормилицей-нянькой, которая катила коляску, отправились гулять. Эти слезы…чисто стариковские слезы иной раз показывались на его глазах и от любви к жене, к сыну, к маленькому человечку, от умиления, а иной раз и от жалости к людям. Да-да и от жалости к людям, умягчилось теперь сердце, ушла жестокость.
«Чудак человек, – думал он иной раз о Сталине, о том, что опять он затеял какую-то новую политическую игру или авантюру, (вроде двух открытых московских процессов над оппозицией и назревавшего третьего процесса над арестованными Бухариным и его компанией), которая взбудоражит всю страну, не иначе. – Неугомонный чудак. Если не сказать больше. Все ему не так, все неймется, все не по нему. Одинокий, к шестидесяти годам уже подошел, старость на носу, а с людьми расправляется без всякой жалости. А почему? Без любви живет, без приязни, нелюбимый, по слухам, даже собственными детьми. Тот еще деспот. Яшку, бедолагу, бил сапогами, топтал за то, что курить стал парень. (Это Елена говорила о том, что в Москве слышала в нашем кругу о том, что он бил своего Яшку). А пример с кого парень брал? С отца, который смолит табак день и ночь. Изводил его за то, что женился не на той, на ком бы он хотел. А кто же из сыновей женится на той, которая может понравиться отцу? Главное, чтобы она нравилась сыну! У каждого же своя судьба, чтобы пройти свой круг и шишек себе набить на лбу – и это непреложно. А затем презирал, третировал мальчишку, когда тот стрельнул в себя, чтобы жизнь свою кончить от отцовских насмешек. Так отец еще больше разозлился. Нет, ничем Сталин не лучше остальных, простых отцов, даром что вождь. О, отцовство – та еще штука! Когда отец бьет своих сыновей, это о чем-то да говорит. Битьем сына уму-разуму не научишь. Ваську, говорят, тоже не жаловал, совсем еще мальчугана. Вообще, судя по всему, дети не радовали Сталина – еще одна зарубка на его сердце. А дети должны радовать стареющих родителей.
По слухам, и Сталина бивал отец, будто бы даже мать бивала, хоть и любила его без памяти, а это о чем-то да говорит. Все корни поступков и характера человека – в семье, в том, какой жизнью он жил в детстве в своей семье. Это он, Дерибас, и по себе, по своей семье знает, где вырос, несладко ему жилось. Ему-то, Дерибасу, есть чем гордиться: сына Сашку воспитал, выучил, пошел в железнодорожники, тут в Хабаровске паровозным депо командует, радует отца. И другой сын, Андрюшка, который в Сибири остался с бывшей женой, тоже радует отца, по научной части пошел. Нет-нет, не нажил Сталин мудрости, подойдя к шестому десятку жизни! Жену загубил, самоубийством кончила, а почему, спрашивается, загубил?
По слухам, которые имели хождение в чекистской среде (а в Кремле уши и глаза есть), в те еще времена, когда могли свободно критиковать высшую власть и когда все «вожди» были еще равны и была даже оппозиция и не относились к Сталину подобострастно, не делали из него Бога, в те еще времена ходили о Сталине слухи о его неудачной семейной жизни, что нелады у него в семье, не ладил он с женой и не живет он со своей Надей. Откуда появились эти слухи, и кто их распространял – было неизвестно. Скорее всего, их распространяли его недоброжелатели из рядов оппозиции. А почему не ладил с женой? Был старше своей Нади на двадцать с лишним лет, а никакой мудрости так и не нажил, чтобы управиться и в ладу жить с женщиной. Не сошлись характерами? Ну, так отпустил бы он свою Надю и женился бы снова или завел бы себе подругу. Зачем деспоту мучить женщину? Нет худшего зла, чем одинокая старость без любви, без приязни, без теплого домашнего очага. Вот это плохо для страны, плохо для всех нас. А женился бы снова, – подобрел бы, помягчел, стал бы добродушнее, и жизнь бы по-другому открылась, и люди бы не дрожали перед ним, затаивая ненависть и зло. Не страх надо нагонять, а умягчение.
Удачная женитьба – о, она много значит! Вот и Блюхер женился под пятьдесят лет на вчерашней школьнице и доволен, счастлив, детишек нажил с молодой женой. О, женитьба многое меняет в человеке, в его характере! Когда под старость женишься и простое человеческое ощутишь, как же по-другому жизнь открывается! Особенно, когда у тебя малыш или малышка родится. Нет, чудак, чудак! А ведь они почти ровесники, и мог бы Сталин тоже еще раз жениться, как он, Дерибас, как Блюхер. Старику потешиться с молодой бабой – это великая штука. Жить с молодой бабой – не только властью своей брать, положением и жалованьем, но и чем-то другим. А что это «другое»? Мудрость, мудрость! Да-да, она самая. Это очень скверно, когда все тебя не любят, а только боятся и дрожат перед тобой. О, это он, Дерибас, на себе хорошо прочувствовал и в Казахстане и здесь на Дальнем Востоке!
По слухам, рыдал на похоронах своей Нади, а что сказал потом? «Предала она меня, предала!» Вот ведь как. Не о ней подумал, что совсем ушла из жизни, а о себе. О себе, о себе! Вроде как бросила она его в трудную минуту, да эти «трудные минуты» в его ранге у государственного человека каждый день. А почему не уберег? Когда стукнет тебе пятьдесят лет, в мужике эгоизм должен бы изжиться, ан нет. Эгоистом так и остался. Эгоистом и последним деспотом. Все будет так, как он считает нужным. Слух шел, что развестись с ним хотела Надя, но он не отпустил ее. Уж лучше бы отпустил на все четыре стороны и женился бы снова. Конечно, это только легко говорить, а когда прикипишь к бабе, ни за что не отпустишь. Но сколько уже прошло годов, как нет его Нади? Семь или восемь? Самое время, чтобы уже остыть от прежней любви и привязанности к женщине. А женился бы снова – многое бы переменилось. А так потерял свою Надю и озлобился, ожесточился. Пожалуй, на женщин в особенности ожесточился. Так и останется одиноким, озлобленным на стариком, ожесточившимся сердцем – это факт. И это скажется, ох, как еще скажется! И умягчать некому это ожесточившееся сердце. В молодости и даже еще в зрелом возрасте эта бессемейная жизнь без любимой женщины еще как-то сходит с рук, не сказывается так резко и сильно на характере человека расстроенная или неудавшаяся семейная жизнь, обида или злость на женщин, из чего вырастают большие пороки. А ближе к старости, к порогу которой подошел и Сталин, да и сам Терентий Дмитриевич, отсутствие в жизни женщины и семейного очага сказывается самым отвратительным образом на характере мужчины. Сам Терентий Дмитриевич это остро стал понимать только когда ему подвалило к пятидесяти годам и когда в его судьбе появилась подруга жизни и родился ребенок почти у старика.
По опыту своей жизни и, прежде всего, детства и юности, первой молодости Дерибас знал, сколько же маленького роста мужчины знавали в детстве, в отрочестве, в юности обид, унижений, оскорблений и от сверстников, и от старших, от родственников из-за своего роста! Сколько всего этого пришлось пережить ему, Дерибасу, мучительных минут страдания из-за своего роста! Дразнили его, Дерибаса, то карликом, то обзывали недоноском, «ушастым». И от этого приходилось затаить обиду, копить, претерпеть и пережить ее. Сколько уколов уязвленного самолюбия, раздувавшегося и распухавшего с годами!
А сколько унизительных, оскорбительных минут, задевающих самолюбие, пришлось пережить ему от женщин, от их пренебрежения, невнимания, отказов, насмешек! От женщин, от женщин особенно!
Это правда, не удался ростом, особо и лицом-то не вышел. Но разве не справедлива поговорка: «Мал золотник, да дорог?» А разве Сталин не маленького роста, не «карлик»? Разве Ленин не «карлик»? С Лениным лично встречался, повыше его, Дерибаса росточком, но ведь немного, тоже ведь по обычным меркам «недостаточный мужчина». А пошумевший на Украине батька Махно? А вот еще говорили про Наполеона, что не вышел он ростом, отчего страдал в юности и в первой молодости. Что за судьбы такие у маленьких людей, делающих большую политику? Вот еще слышал: маленькие ростом – всем, всему роду людскому мстят за свою человеческую и мужскую недостаточность. Вот Леночка говорила, что читала где-то про Наполеона, будто мстил он женщинам тем, что имел их прямо в кабинете, не снимая шпаги. Именно в том-то и унижение, что «не снимая шпаги». А за что мстил? За свое унижение в юности и в молодости, что пренебрегали им женщины, им гренадеров подавай. Может, от этих унижений и рождаются маленькие деспоты? И только наивные люди могут думать о том, что Сталина не коснулось это общее свойство «недостаточных людей». И полагают, что и Ленин – тоже «недостаточный человек» – будто бы не был деспотом. Был, был, да еще и каким деспотом!
II МОСКОВСКИЕ НЕЖЕЛАННЫЕ ГОСТИ
Постучав, в кабинет просунула голову секретарша, прервавшая его размышления, сообщила:
– Терентий Дмитриевич, звонит товарищ Арнольдов, спрашивает, когда вы сможете его принять?
– Скажите, пусть сейчас приезжает.
Арнольдов, Арнольдов – кто он такой? – думал Дерибас, соображая о том, с чем он пожалует, и что это за «фрукт» теперь и с чем его едят, и откуда он свалился на наши дальневосточные головы?
Дерибас слышал об Аркадии Арнольдове (Аврааме Израилевиче Кессельмане) еще в родной Одессе. Про него ему было известно, что тот служил в Крымской, Одесской, Севастопольской ЧК в пик массовых там казней офицеров и гражданских лиц в годы Красного террора. Потом служил в ОГПУ на юге, затем помощником начальника особого отдела главного управления государственной безопасности (ГУГБ). Судьбе было угодно так распорядиться, что он приехал в тот край, где служит его брат – Семен Израилевич Кессельман -Западный, его, Дерибаса, заместитель. Арнольдову теперь лет сорок пять, а он всего лишь старший майор госбезопасности. За двадцать лет со дня революции карьеры большой не сделал, не повезло, наверное, или куда-то не туда пошла карьера. А его брат Семен лет на шесть моложе, а уже комиссар госбезопасности третьего ранга. (Да вот и Миронов, его теперешний начальник, моложе его на три года, а уже комиссар госбезопасности второго ранга). И вот этот Арнольдов отправлен к ним из Москвы из центрального аппарата в составе опергруппы по чистке Дальневосточного края от троцкистов, заговорщиков, вредителей и прочих «врагов народа». Наград никаких не имеет, а у брата есть награды. Наверняка ревность к брату гложет его, и он будет рвать и метать в поисках у нас в крае «врагов» и заговорщиков. Надо и его и всех этих московских осадить, осадить, окоротить!
В кабинет после стука снова просунула голову секретарши, сообщила:
– Арнольдов прибыл, Терентий Дмитриевич.
– Пусть войдет.
Вошедший в кабинет Арнольдов был худощавый, выше среднего роста чекист с удлиненным лицом треугольной формы, с крошечными усиками, вошедшими в эти годы в моду, с шапкой мелко курчавых вздыбленных волос на голове, с двумя глубокими складками на переносье. Его взгляд выражал несгибаемость и непреклонность ретивого служаки. В ответ на приглашение Дерибаса сесть, он скромно присел на краешек стула – сухой, прямой, негнущийся, губы плотно сжаты, колено с коленом вместе, словно бы послушный ученик в присутствии директора школы, пригладил руками вздыбленные волосы. Свои длинные руки сложил на коленях поверх папки. Можно было бы сесть в кожаное мягкое кресло, но Арнольдов предпочел расположиться на стуле, наверное, потому, что кресло располагало к расслабленности и расхолаживало, а Арнольдов, судя по его виду, пришел с решительными намерениями.
– Вы, давно бывали в Одессе, Арнольд Аркадьевич? – сразу спросил его Дерибас.
Арнольдов, как видно, не расположен был к отвлеченным разговорам на лирические темы и поэтому удивился вопросу.
– В позапрошлом году в отпуск на родину ездил.
– Как там Одесса?
– Стоит, что ей сделается? – Он пожал плечами.
Было видно, что разговаривать о чем-то постороннем, о том, что интересовало Дерибаса, Арнольдов не намерен. Он желал немедленно приступить к делу, за которым пришел. Сообразив это, Дерибас спросил:
– С чем пожаловали, Арнольд Аркадьевич?
– Вот список людей, которых нужно немедленно арестовать. Нужна ваша санкция.
И он достал из своей темно-вишневого цвета папки несколько листов бумаг, протянул Дерибасу.
Дерибас пробежал взглядом листки: Крутов, Лемберг (уже застрелился), Лебеденко, Шрайбер, Верный, Овсянников, Виноградов, Шпаковский, Введенский, Литвиненко, Кузовников – еще партийные и хозяйственные руководители предприятий дальневосточного края, часть его верхушки. И этой частью, судя по решительности Арнольдова, дело не обойдется.
– Вы что, Арнольд Аркадьевич, хотите арестовать лучших людей Дальневосточного края, преданных делу партии и товарищу Сталину? – спросил Дерибас.
– Установлено, что они шпионы, вредители и троцкисты, все участники заговора, руководимые подпольным параллельным троцкистским центром Дальневосточного края, – ответил на это Арнольдов.
– Все поголовно троцкисты, вредители, заговорщики и шпионы? Секретари горкомов, обкомов? Директора заводов и крупных предприятий? Вам нужно с Мироновым громкое дело здесь раздуть? Вот в списке, к примеру, Морис Давыдович Шрайбер, начальник здравоохранения. Чем он привлек внимание вашей бригады?
– По показаниям соучастников, главного врача, медсестры и заведующей аптекой производились бинты для ОКДВА с отравляющими веществами. Их фамилии указаны в деле, – произнес Арнольдов.
– Да ну? Это заговор? – усмешливо спросил Дерибас.
– Безусловно. Заговор среди медицинского персонала края, осуществляющего вредительские акты по заданию руководства параллельного троцкистского центра.
– Выходит, по мнению следствия, направляемого вами, руководство параллельного центра давало указание Шрайберу, чтобы по его команде изготавливали эти смертельные бинты?
– Безусловно.
– Чем это доказано?
– Показаниями медсестер, их фамилии указаны в деле, заведующей аптекой и главного врача.
– Сильно их били? – насмешливо спросил Дерибас. – По-вашему били, по-московски? Или угрожали чем-нибудь?
– Я не присутствую на допросах простых лиц.
– А вы бы поинтересовались.
– Я доверяю своим сотрудникам.
– А я пока еще доверяю здравому смыслу. И грош цена этим показаниям. Или я, старый чекист, не знаю, как выбиваются показания? Не знаю, как вы работаете по-московски, и как стряпаются признания обвиняемых? Не вижу, как вы сплетаете широкую сеть троцкистов-заговорщиков, руководимую будто бы из единого троцкистского центра. Мол, заговорщики проникли во все органы края, во все его структуры, в самую его руководящую верхушку. Вам нужна не медсестра, товарищ Арнольдов, не заведующая аптекой, не главврач, вам нужен Шрайбер – высокопоставленное лицо, руководитель здравоохранения края. Я не подпишу и не дам вам санкцию на арест этих людей, пока на каждого подозреваемого не будет показаний не менее трех человек с неопровержимыми фактами, компрометирующими материалами. Трех, и не меньше! Пусть на этих людей дадут показания другие арестованные, а не только медсестры, которых ваши следователи запугали до смерти.
– Я доложу Миронову о вашем отказе.
– Это ваше дело, – холодно произнес Дерибас.
Арнольдов поднялся, собираясь уйти. Но Дерибас сделал ему жест рукой, чтобы тот не спешил, и Арнольдов снова присел.
– Скажите, Арнольд Аркадьевич, вот вы арестовали двадцать шесть человек из ОКДВА сотрудников строительно-квартирного отдела. Так?
– Да. Этот список утвержден маршалом Блюхером и военным прокурором.
– Что вы им вменяете?
– Откровенное вредительство, шпионаж, умышленное затягивание строительства объектов гражданского и оборонного назначения.
– Кто на них дал показания?
– Арестованный вашим особым отделом еще в начале апреля военный инженер Кащеев.
– Зачем вы, товарищ Арнольдов, политизируете обычную халатность, разгильдяйство, злоупотребление служебным положением и другие упущения и переводите это на расстрельные пункты пятьдесят восьмой статьи?
– Это организованная группа шпионов, троцкистов-вредителей, руководимая параллельным троцкистским центром.
– И в это дело вы притянули параллельный троцкистский центр. Вы в Москве живете в благоустроенной квартире, товарищ Арнольдов? Наверное, наслаждаетесь ванной, горячей водой, удобствами, тем, что вам не досаждают соседи?
– Ну да. А какое это имеет отношение к делу?
– И приезжающие на Дальний Восток офицеры тоже хотят жить в благоустроенных квартирах, а не в казармах. Каждый день прибывают какие-нибудь новые соединения. У них семьи, жены, дети, они в казармах жить не хотят, им квартиры нужны…Вы понимаете, какой сейчас наплыв военнослужащих, прибывающих в ОКДВА? На Дальнем Востоке почти вдвое увеличено количество военнослужащих, причем, резко, всем офицерам нужны квартиры, младшему комсоставу – комнаты, но тоже в перспективе квартиры, солдатам – казармы, а не палатки, много чего нужно построить по оборонной линии, военные строители просто не успевают все это строить, документация опаздывает. Физически невозможно всех удовлетворить жильем, притом, что строительных мощностей не хватает, лесу требуется очень много, его тоже не хватает – и гражданским объектам дай, и военным строителям дай, на заводы – дай. И всем дай-дай! Бетона катастрофически не хватает, один цементный завод на весь Дальний Восток, потому что строек много, и всем надо. А строительные мощности у нас хоть и растут, но отстают еще от потребностей, вот и получается дисбаланс. Это главная причина. Не ловите рыбку в мутной воде, товарищ Арнольдов! – твердо заявил Дерибас. – До вашего приезда военный инженер Кащеев был арестован особым отделом за упущения и халатность, злоупотребления, а с вашим приездом Вы и ваши следователи Хорошилкин и остальные набили ему морду и переквалифицировали его дело так, что он вдруг «признался» в антисоветской, шпионской и террористической деятельности, я читал его показания. Чушь сплошная! Под вашу лично диктовку или ваших следователей он написал, не иначе, что он с 1925 года входил в антисоветскую, троцкистско-зиновьевскую организацию, установил связь с врагом народа Путна , получал от японской разведки деньги, готовил теракты в отношении товарищей Ворошилова, Гамарника, Кагановича. Двенадцать лет органы ОГПУ, а затем НКВД тут спали, а вы приехали и за неделю раскрыли заговор троцкистов-шпионов в армии. Вы бы квалифицировали предполагаемые преступления как-то по-умному, что ли…
Эти слова Дерибаса ничуть не поколебали Арнольдова и не сбили с него невозмутимость.
– Список подписан товарищем Блюхером. Он лучше знает своих людей. И список утвержден военным прокурором.
– Но товарищ Блюхер наверняка не знает, какую чушь вы тут шьете рядовому инженеру! А раз Блюхер подписал, то и военный прокурор возражать не будет. Путна к инженеру притянули, которого он и в глаза никогда не видел, заговор тут выдумываете…Вы били по морде несчастного инженера? Или что вы там с ним сделали?
– Я об этом не обязан вам докладывать, – невозмутимо отвечал Арнольдов, открыто глядя на Дерибаса своими немигающими глазами.
– Вы не только измордовали инженера, но и запугали его, конечно, да еще и надиктовали ему «признательные показания», Путна приплели и то, что инженер получал деньги от японской разведки.…Где доказательства? Я своим указом категорически запретил своим сотрудникам вплоть до увольнения и отдачи под трибунал применять против арестованных методы физического воздействия, а вы со своей командой своими действиями черт знает в какую сторону заводите следствие, да еще и развращаете моих сотрудников!
– К подозреваемым в шпионаже и троцкизме позволено применять методы физического воздействия для получения от них показаний. Эта установка исходит от товарища Ежова.
Дерибас вскочил со стула, раскрасневшийся, и в бешенстве закричал на Арнольдова:
– Да я вам на яйца наступлю так, что вы собственных малолетних детей признаете шпионами и диверсантами!
– Вы на меня не повышайте голос, товарищ комиссар госбезопасности первого ранга, я не ваш подчиненный, – с той же невозмутимостью ответил Арнольдов.
– Имейте в виду, товарищ Арнольдов, – говорил дальше Дерибас, усевшись в кресло и стуча концом карандаша по столу, – за санкцией на арест ко мне обращаться только в том случае, если показания на подозреваемого него дадут не менее трех человек уже арестованных с неопровержимыми фактами, а я уже согласую эти аресты с прокурором.
– Я доложу о вашей позиции Миронову, – проговорил Арнольдов и поднялся, чтобы идти.
– Это ваше дело. Но товарищ Миронов знает мою позицию.
«Сволочи приезжие, засранцы! – думал он об Арнольдове и московской бригаде, когда тот вышел. – Приехали тут карьеры делать, им громкие разоблачения нужны! Чем выше по должности арестованный, тем ценнее их работа! В тайгу бы вас всех, московских сук, чтобы вы там по лагерям пешком помотались, как я, увидели бы все эти ужасы, да комары бы с мошкой вас погрызли до остервенения. Нет, это конец спокойной жизни! Конец!»
А еще спустя какое-то время, окончательно успокоившись, подвел итог визиту Арнольдова: «Что теперь поделаешь? За Арнольдовым стоит Ежов, за ним, наверное, Сталин, раз уж они его и Миронова сюда послали, чувствует себя хозяином положения с «особыми полномочиями». И этого уже не побороть, машина не только запущена, но и набирает ход».
Немного времени погодя после визита Арнольдова в кабинет Дерибаса без доклада по-свойски вошел Семен Кессельман-Западный, его первый заместитель. Сел в кресло, развалившись, положив нога на ногу, закурил.
Когда-то еще до революции, Семен Кессельман был тихим, скромным, мечтательным, застенчивым юношей, не помышлявшим ни о какой политической и революционной деятельности. Ему бы стихи писать о любви, о мечтах, о неопределенном томлении души, он и начинал их писать, втайне мечтая о поэтической славе, посещал кружок одесских литераторов, его и грызла, но и вдохновляла поэтическая слава его однофамильца Кессельмана, тоже Семена, только Иосифовича. Но вот грянула революция, и Семен по примеру старших братьев Михаила и Авраама «пошел в революцию», оказался в самом ее пекле, поступил в ЧК, и довольно быстро стал заметной чекистской фигурой на Украине. И пошла о нем другая слава – дурная слава палача, благодаря которой он быстро выдвинулся в передовые и чекисты Украины. (Такая же дурная слава палача шла и о нем, Дерибасе, в Казахстане и на Южном Урале). Он был секретарем Одесской чека в апреле-августе 1919 года, в самый разгар Красного террора, где и расстреливал, и выносил расстрельные решения с застенчивым выражением лица, как бы извиняясь перед казнимыми. Оставил свой чекистский след в Волынской, Екатеринославской и Харьковской ЧК. Про него известно даже то, что он в Харькове знался и был одним из подручных известного харьковского палача и садиста, бывшего каторжника Степана Саенко, коменданта концентрационного лагеря в Харькове в годы Гражданской войны, который хвастался тем, что «собственноручно расстрелял около 3000 человек».
И в «тройке», заседая вместо Дерибаса, Семен Кессельман не особенно утруждал себя выяснением истины в отношении подсудимых, подписывал смертные приговоры с легкостью, не задумываясь, никогда не возражал докладчикам, не отправлял дела на доследование в отличие от своего начальника. Несмотря на то, что он занимал большую должность, Семен Кессельман как бы плыл, парил над обыденной жизнью, томимый чем-то невысказанным, потаенным, чего и сам не мог определить, был в обычной жизни человеком нездешним, отстраняясь от нее, стараясь касаться ее поменьше, словно бы страдал от того, что занимает в жизни не свое место, и это «не свое место» отнимает слишком много времени, подавляет его, а свое, заветное, о чем мечталось в юности и что иной раз болезненно томило его, не реализовано, а теперь поздно уже. Даже детей не нажил. А в соответствии с должностью кем только не был в Дальневосточном крае: начальником УНКВД Хабаровской области (была такая в Дальневосточном крае) членом крайкома, крайисполкома, горсовета, высиживая ни них с грустным, томительным чувством и отстраненным видом неизбежной платы за свое высокое положение. Наверное, в революцию, увлекаемые ее романтикой (а может, и ее будущими благами), немало занесло таких вот местечковых евреев, Семенов Кессельманов, тихих, мечтательных, вроде как невольных убийц, с застенчивой улыбкой и невинным выражением лица, которые не ведали, что творили. Занесло, и вот все дальше несет и выше поднимает, и уже не выпрыгнешь из этой колеи, не вернешься к юношеским мечтам о том, любимом, чем хотелось бы в жизни заняться. Как знать, не случись бы революции, вышли бы из них писатели, Эренбурги, поэты, вроде Пастернака, Мандельштама или поэтов меньшего масштаба, вроде его однофамильца Кессельмана; вышли бы художники, Бродские, актеры, журналисты, Кольцовы и иже с ними, не погибли бы многие из них рано, не дожив до сорока, сорока пяти лет, и в историю вписали бы они свое имя с другим знаком. Но получилось так, как получилось. И было что-то странное в прихотливой игре судьбы, когда младший брат был везунчиком по жизни, выше по должности и званию старшего брата, не прилагая к тому особенных усилий, и генеральское звание досталось ему в молодые годы, когда ему не было и сорока лет, как бы на волне революционной инерции. А вот Арнольд, ретивый служака, служил в Москве в особом отделе, был на виду, отличался особым рвением, но судьба распорядилась так, как она распорядилась. В Москве, вероятно, было много таких вот Арнольдов, а Семен в Дальневосточном крае был в единственном числе.
В означенное время Семен Кессельман-Западный носил тонкие, небольшие усики, был все такой же по-юношески стройный в свои тридцать восемь лет и усвоил себе манеру прищуривать глаза и сводить брови к переносью, когда ему что-то говорили окружающие, изображая интерес к собеседнику, к разговору, отчего меж бровей у него образовались две глубокие складки. Жил он весело, был шутником, балагуром, циником и пользовался большим успехом у женщин.
– С чем мой братец пожаловали? – спросил он Дерибаса с нескрываемой иронией, скривив свои тонкие губы.
– Просил санкции на арест тридцати с лишним человек. Все сплошь лучшие люди края, хозяйственники, специалисты, руководители предприятий, коммунисты. Если уж они враги народа, заговорщики, шпионы, троцкисты да вредители, то мы с тобой умываем руки.
– Ну да, еще бы. Братец мой заявлял мне, что мы тут «таежники», не умеем работать, не видим, как тут у нас действуют троцкисты, вредители и заговорщики. Но так же не бывает, Терентий Дмитриевич, чтобы приехали они и за неделю увидели врагов, а мы с вами их не видели, а они раскрыли кучу заговоров чуть ли не во всех областях жизни Дальневосточного края. И в армии у них заговор, и в лесной отрасли, и в рыбной, и в промышленности, и в военном строительстве, и у врачей его люди заговор нашли и черт знает еще где. Так и до нас скоро доберутся. Знаем мы, как эти заговоры раскрываются!
– Знаем, конечно, знаем! – отвечал ему Дерибас.
– Что будем делать?
– Сколь возможно, будем тормозить их ретивость. Пусть напрягутся, чтобы компромат добывать, улики, доказательства, а не одни лишь признательные показания.
– Правильно, Терентий Дмитриевич. И я тоже так считаю.
…Возвратившись после службы домой в свой особнячок на улице Карла Маркса, где он жил с семьей, Дерибас достал из шкафа графин с водкой, налил полный стакан и, не отрываясь, выпил. За этим занятием застала его Елена.
– Терентий, опять ты пьешь? – с упреком проговорила она. – Полный стакан водки оглушил! Опять за старое?
– Скверные дела, рыбонька, очень скверные…Нервы разошлись, нужно их успокоить. Московские голодные волки приехали нас живьем сожрать. Пришел тут Арнольдов со списком, просил санкцию на арест тридцати с лишним человек, времена сейчас пойдут, хуже не придумаешь.
– Я это предчувствовала еще весной после мартовского пленума. А ты не перечил бы им, Терентий, плетью обуха не перешибешь. Если Там началось, ты здесь этого не остановишь.
– Нет, рыбонька, нужно их осадить, остановить. Сейчас не остановим, всех съедят с потрохами и нас с тобой тоже. Время надвигается грозное, тебе нужно бы с ребенком уехать с глаз долой.
– Куда уехать? Ребенку только два месяца, куда я с таким малышом поеду?
– В Одессу к родственникам поезжай. На всякий случай.
– Не выдумывай Терентий. Пусть уж все остается как есть.
И она наотрез отказалась, куда бы то ни было ехать.
III «НЕИСПОВЕДИМЫ ПУТИ ГОСПОДНИ» ЛЬВА МИРОНОВА
Дела о заговорах в Дальневосточном крае за неделю с хвостиком работы московской следственной бригады росли один за другим.
В обход Дерибаса Арнольдов, как и первый секретарь Далькрайкома Иосиф Варейкис , слали наркому НКВД СССР Н.Ежову жалобы-докладные о том, что Дерибас препятствует аресту видных в крае советских, хозяйственных и партийных работников, а также сотрудников УНКВД, подозреваемых в участии в заговоре. «В Дальневосточном крае сложилась тяжелая обстановка, – докладывал Варейкис в центр по своим партийным каналам связи с Москвой. – Дерибас и его заместитель Западный противодействуют расследованию параллельного троцкистского центра в партийных и советских, хозяйственных кругах».
На другой день, как и ожидал Дерибас, ему позвонил в управление Миронов и попросил его принять «срочно». Было ясно, что Арнольдов доложил своему начальнику о том, что начальник УНКВД Дальневосточного края не дает санкции на арест намеченных к аресту «врагов народа».
Миронов Лев Григорьевич, комиссар госбезопасности второго ранга, был одним из влиятельных, авторитетных и перспективнейших сотрудников центрального аппарата НКВД в настоящее время. Из его прошлого Дерибасу было известно о том, что он происходил из зажиточной еврейской семьи из Полтавской губернии. Как и многие молодые люди из местечковых еврейских семейств, он увлекся «романтикой революции», начинал со службы с уездной ЧК там же, на Полтавщине, потом работал в Киевской ЧК и дальше, как у всех чекистов, – трибуналы шли за трибуналами, только все выше и выше по значимости. После Гражданской войны попал в Москву, где быстро сделал карьеру, благодаря своим талантам, уму сообразительности, огромной интуиции, какой-то нечеловеческой памяти, изумлявшей всех, кто его знал, и, конечно же, беспринципности, которая не считается у чекистов даже маленьким грехом. Несмотря на то, что он не окончил курса в киевском политехе, он считался одним из самых образованных людей в НКВД. Про него говорили, что он был любимчиком и приближенным самого Ягоды, пользовался большим уважением и влиянием на Сталина. Своею наблюдательностью и необыкновенной памятью, он был способен стать Большим Разведчиком, способен был и к контрразведке, он чувствовал это и, по слухам, хотел уйти из НКВД заместителем наркома внешней торговли или во внешнюю разведку, а не бороться с внутренней контрреволюцией. Он обращался с просьбами к Сталину, но тот и слышать об этом не хотел, чтобы далеко от себя отпустить ценного работника. По слухам, распространявшимся среди сотрудников, Сталин прочил Миронова вместо теперешнего хозяина НКВД Ежова, но потом передумал. Но Дерибасу было известно и то, что Сталин поручал Миронову самые ответственные дела, сначала он раскручивал дело Промпартии, а совсем недавно раскручивал, то есть фальсифицировал, дело инженеров английской фирмы «Метро Виккерс».
И через час в кабинете перед Дерибасом сидел Миронов. На вид он был худощав, субтилен (крестьяне говорили про таких «малохольный), с тонкими чертами лица, с головой на тонкой шее, которая выдавалась из отворота кителя, словно бы хрупкий цветок из большого горла кувшина. Уши слишком большие для небольшой головы. В свои сорок два года он выглядел очень моложаво. У него было нежное лицо с хорошо, по-женски очерченными губами, красивый, чистый и тоже нежный лоб, слегка вьющиеся волосы на голове, начинавшие виться с середины головы, словно бы мелкая рябь бежала по реке. Снять с него форму, и не скажешь, что это влиятельный чекист, а так на вид – вечный студент, пожизненно влюбленный в свою избранницу, сраженный любовью к ней в самое сердце.
Он спросил разрешения у Дерибаса закурить и закурил, высек огонь из дорогой зажигалки, держа папиросу тонкими, длинными пальцами, выпуская дым изо рта тонкими струйками и стряхивая пепел в пепельницу, стоявшую на низеньком столике поблизости. Было видно, что он наслаждался хорошим табаком и тем, что расположился в удобном, мягком кресле. Оглядывая огромный кабинет Дерибаса, он с неподдельным восхищением заметил:
– М-да, Терентий Дмитриевич, резиденцию вы тут себе отгрохали, Лубянка позавидует… Впечатляет, впечатляет!
– Стараемся, Лев Григорьевич, – усмешливо отвечал Дерибас. – Это в Москве в центре тесно, негде строиться, а у нас – пожалуйста. Зачем тесниться? Каждому сотруднику по кабинету.
– Масштабно, грандиозно! – продолжал нахваливать Миронов новое здание краевого управления НКВД.
Дерибас, принюхиваясь к табачному дыму, спросил:
– Вы какие курите, Лев Григорьевич? Что-то незнакомый аромат.
– Это «Дюшес».
– Слабенькие?
– Да. Для меня главное аромат, а не крепость. Люблю еще «Посольские», очень тонкий аромат.
– А я вот люблю «Северную Пальмиру». Она у нас в магазинах с перебоями, приходится на «Казбек» переходить. Когда в Москве бываю, впрок закупаю. В революцию у нас и махорочка была в цене.
– А я вот в революцию не курил. Приучился, когда в Туркестане стал служить, с тех пор и покуриваю.
Он опять зябко поежился, втягивая голову в плечи, и, глядя на окно, попросил хозяина кабинета:
– Прикройте, пожалуйста, форточку, сквознячком несет. Вот все никак не могу у вас согреться, – пожаловался Миронов, грустно и как-то виновато улыбаясь. – Хожу, езжу, и весь день дрожу от холода. Весна тут у вас такая скверная, даже в теплой шинели мерзну.
Дерибас поднялся из-за стола и крючковатой палкой, лежавшей на подоконнике, встав на цыпочки и потянувшись, закрыл форточку большого высокого окна.
«До чего же карлик! Рожает же земля таких уродов! Ему бы в цирке служить, зрителей развлекать на арене, а не в органах работать! Сколько же мусора, таких вот «выкидышей эпохи» вынесла революция на поверхность истории, и они занимают важные должности! – подумал о нем Миронов.
Себя же он причислял к творцам революции.
– Да это вам не Крым, не Киев и не Одесса, Лев Григорьевич, – проговорил Дерибас, усмехаясь в еще пышные седеющие усы и усаживаясь на место. – Может, чайку? Или чего-нибудь покрепче?
– Чаю, пожалуй…
Дерибас звонком вызвал секретаршу и заказал ей два стакана чая с лимоном.
– Конец апреля, а у вас все здесь серо, безлисто, скучно, я даже снег совсем недавно видел. А на Украине уже в это время все цветет и пахнет, – и его грустное лицо сделалось мечтательным.
– А вы давно бывали в Одессе? – сразу же подхватил этот разговор Дерибас. – Не удивляйтесь, я всех, кто из центра приезжает, особенно с Украины, спрашиваю про Одессу.
– Ну-у, теперь даже и не вспомню! После Гражданской был пару раз, но очень давно, я же не одессит. Вот в Киев частенько наезжал, – проговорил Миронов, выпустив тонкую струйку дыма и улыбнувшись слабой, грустной улыбкой.
– А я вот мечтаю в своей родной Одессе когда-нибудь побывать, да вот как-то не с руки все. У нас тут целая компания из одесситов собралась: я, моя жена, Семен Западный, Сергей Барминский – мои заместители, еще Борис Аркус, теперь вот к Западному еще его брат Арнольдов прибавился.
– Тоскуете по Одессе? спросил Миронов без всякого интереса.
– Бывает…Сейчас уже реже. Прижились, обвыклись, так сказать. Но, бывает, соберемся вместе и Одессу вспоминаем. Кто не жил в Одессе, тому этого не понять. Мы с Семеном почти уже восемь лет тут служим отечеству, что называется, безвылазно.
– Пути господни неисповедимы, вздохнув, проговорил Миронов. – Судьба и революция разбросала сейчас многих по разным уголкам страны. Кто где только не служил, сами знаете…Я вот в Туркестане служил. Хотелось бы служить в родном теплом краю, в любимом городе, делать любимое дело, но увы, увы… – проговорил Миронов, снова одарив Дерибаса своей грустной улыбкой.
Секретарша внесла один за другим два подноса с чаем в граненых стаканах с серебряными подстаканниками, поставленных на блюдца, с чайными ложками, нарезанным лимоном на тарелках и сахаром-рафинадом в серебряной сахарнице. Поставила подносы на огромный стол начальника, затем придвинула к креслу, где сидел Миронов, низенький столик на колесиках (тот самый, на котором стояла пепельница), предназначенный специально для гостей, поставила на него один поднос, а другой поднос подала своему начальнику.
– Сахар, пожалуйста, – проговорила секретарша, обращаясь к Миронову и заученно улыбаясь, держа в руках сахарницу и предлагая Миронову взять из сахарницы необходимое ему количество сахара.
Миронов, взяв из ее рук сахарницу, ложкой выгреб из нее три куска сахару, и один за другим отправил в стакан, после чего секретарша поставила сахарницу на стол начальнику.
– Вы извините, Лев Григорьевич, мы чай пьем не из сервизных чашек, а по-дальневосточному, из граненых стаканов, – проговорил Дерибас, по своей манере усмехаясь в усы.
– Это ничего, лишь бы горячий был, привыкаю быть дальневосточником.
И он сразу же обхватил стакан обеими ладонями и так держал их, согревая озябшие руки и от этого, должно быть, согревался весь его организм.
Грустное настроение Миронова имело своим основанием несколько причин. Он был грустен оттого, что отлично понимал то, что стал игрушкой в чужих руках, в руках того, кто теперь был Властелином над всеми. С его-то умом и проницательностью он понимал, что бывает с игрушками, которые становятся ненужными или делаются свидетелями чьих-то детских забав. Быть игрушкой в руках того, которого он, Миронов и люди его круга и уровня, (многие из них были из старых партийцев и революционеров, дела против которых теперь «стряпал Миронов) и прежде и теперь не считали даже достойным себя, считали уровнем куда как ниже себя и в расчет его не брали, а вот поди ж ты…Как же так вышло? Почему? Спроси – никто не ответит. Поистине, пути господние неисповедимы! А рядом с Властелином, его ближайший круг – сплошь ничтожества, серость, безликость, скудоумие. Подчиняться им – это ниже твоего достоинства. А Ему не нужны умные, а нужны послушные. Эти вечно будут при нем целехонькие, а умных он только использует, а потом выбросит вон, как ненужные игрушки.
Миронов отличался исключительным самомнением и чувством превосходства над окружающими.
Ему было особенно больно и грустно, что Сталин выкашивает старые кадры и с этим ничего поделать нельзя. Те старые кадры, которые считали Сталина куда как ниже себя, это были одного с ним, Мироновым, уровня. А главное, это были свои. А эти, игрушкой которых он стал, были люди чужие, чуждые ему. Сколько же человеческого дерьма из самых застойных и смрадных российских углов вынесла на поверхность революция! И теперь это дерьмо – наверху, во власти и каким-то образом Сталин сумел сплотить их вокруг себя. А сколько потом уже в последнее десятилетие повылезло «дерьма»! Сила Сталина в многочисленности и сплоченности вокруг него этого «дерьма». И они – непобедимы, вот в чем было его главное разочарование в жизни, сделавшее непреходящую грусть содержанием последнего времени жизни комиссара госбезопасности второго ранга. Хотя лично ему грех было жаловаться, просто теперь служить делу, которого уже не любишь, подчиняться решениям этого сплоченного «дерьма»? О, это невыносимо!
Как человек умный и проницательный, он знал, чем все это кончится, и тем сильнее грызла его неудовлетворенность жизнью, грусть-тоска, что отражалось на его утонченном, подвижном, артистическом лице, подверженном многочисленным и разнообразным гримасам, говорившем о том, что в нем погибло незаурядное актерское дарование.
Он был грустен еще и оттого, что не только дело, на которое он был послан Ежовым и Сталиным, но и общее настоящее положение тяготило его. Вероятно, были они с Семеном Кессельманом одной еврейской местечковой породы, одного психического склада, увлеченных «романтикой революции» и возможностью участвовать в главном деле эпохи, добившихся высоких постов, но вынужденных стать палачами и теперь тяготившихся этим делом из-за невозможности выпрыгнуть из той колеи, в которой они увязли. Эта «колея» давала почет, уважение, награды и солидный достаток, который, как ни хнычь на тяжесть и рутину уже опостылевшей службы, жаль было потерять. Только Миронов был умнее и талантливее Кессельмана. Дерибасу было известно, что Миронов мечтал о том, что Сталин со временем, когда истощится вся «контрреволюция» переведет его на контрразведывательную работу за рубеж, большие у него были аналитические способности, но «контрреволюция» никак не желала истощаться. Стало быть, хотел выйти и откреститься от участия в дальнейших разоблачениях старых партийцев и большевиков, отойти от расстрельных дел. Теперь многие…очень многие хотели бы откреститься от того дела, в которое вошли в годы юности, увлеченные «романтикой революции», отойти в сторону от казней и расстрелов, от участия в фабрикации дел на тех, кого называли «ленинской гвардией». Думали Мироновы-Кессельманы и иже с ними о том, что вот сейчас, не сегодня-завтра поработают в ЧК-ОГПУ, подавят всю контрреволюцию и «соскочат с поезда», займутся другим, любимым делом, что импонировало бы их творческой душе. Но хватка у органов слишком крепкая, чтобы можно было так просто «соскочить с поезда». Да уже и вкусили сладкого пирога – власти, положения в обществе, пайка, достатка, возможности безнаказанно пользоваться служебным положением в личных целях, – не так широко, как Балицкий и Ягода, выросшие в новых советских вельмож, дворян-помещиков, поменьше, конечно, но чтобы стоять куда как выше остальных смертных…
…В кабинет, приоткрыв дверь, заглянула жена Дерибаса Елена и, извинившись за вторжение, проговорила:
– Я только на секунду… – И, войдя, передала мужу пакетик с лекарствами, добавила: – Там все написано, как принимать. Вот это сейчас же выпей, сразу две таблетки, а вот эти прочтешь на бумажке, как принимать.
И вышла, сопровождаемая завистливым взглядом Миронова.
– Вот, мучаюсь с мигренью, – произнес Дерибас, поясняя вторжение жены. – Головные боли замучили, хоть плачь.
«Старый уродец, невообразимый карлик, из-за стола едва видно, а жену отхватил – на зависть! Какое милое, нежное, заботливое создание! Что же их связывает? О, люди, о, женщины! А я еще не старый, красивый, бабы сами липнут, должностью не обижен, а нет мне счастья. Нет и нет! Один лишь тяжкий крест несу! О, пути господни неисповедимы!», – грустно думалось ему.
Миронов был грустен еще и оттого, что был несчастлив в семейной жизни, и про него говорили в чекистских кругах о том, что он был безнадежно влюблен в свою хорошенькую и ветреную жену Наденьку, которая изменяла ему направо и налево, крутила романы и, что поразительно, чуть ли не докладывала ему о своих романах, увлечениях, не стесняясь и не скрывая этого. Чудеса! И он, обладавший громадным влиянием в чекистских и хозяйственных делах, считается на одном из первых мест у Сталина по важным делам, но ничего не мог поделать с собственной женой. Может быть, у них с женой был какой-то уговор? Живем-де для вида вместе, раз уж ты влюблен в меня и тебе этого так хочется, а любим порознь, того, кого нам захочется?
– Заботливая у вас жена, Терентий Дмитриевич, – произнес Миронов со своей грустной улыбкой. – И неожиданно продолжил как-то по-дружески, участливо: – Вот вы женились недавно, жена моложе вас почти на тридцать лет. Скажите, вы счастливы?
Дерибас опешил и какое-то время молчал, озадаченный таким неожиданным, никак не относящимся к делам вопросом, вызывающим на откровенность.
– Счастье – вещь относительная, Лев Григорьевич, – уклончиво ответил Дерибас, усмехаясь в усы и раскладывая таблетки отдельными кучками, а часть таблеток заталкивая в спичечный коробок своими короткими желтыми от табака пальцами. – У меня и дома и в жизни теперь порядок, покой, ребенок вот родился. А счастье… О нем ли мечтать в наши годы? – Он хитровато улыбнулся. – Да вот же и сказано про это: «На свете счастья нет, а есть покой и воля». Воля в смысле свобода, надо понимать.
– О! – удивленно воскликнул Миронов и в его грустных глазах зажглись искорки интереса к этому карлику. Он даже оживился. – Вы увлекаетесь Пушкиным?
– Люблю литературу, писателей, раньше, бывало, почитывал кое-что, с Горьким дружил, с Бабелем, с Маяковским. А теперь вот тут служу, здесь знаменитостей нет. И знаете, некогда. Совсем некогда! То стройки, то лагеря инспектируй, то заставы, мотаюсь по краю без продыху, да и здесь по службе дел хватает, сами знаете, Лев Григорьевич. Леночка моя увлекается Пушкиным, Лермонтовым и другими классиками и меня потихоньку просвещает.
– Вы, если не ошибаюсь, не в официальном браке?
– Все некогда, Лев Григорьевич, да и успеется еще, – шутливо отвечал Дерибас.
– Жена, если не ошибаюсь, служила с вами?
– Да, в секретариате. Сейчас в декрете, нашему, мальчику только третий месяц пошел…
– Это хорошо, – как-то потеплел он голосом. И заговорил с ним, как с равным: – Хорошо, когда любимая жена рядом, одних с вами мыслей. В жизни это большая редкость. Очень большая! – прибавил он и вздохнул при этом. – Но вам известно о том, что Пушкин сам же себе возразил. И он процитировал:
– Я думал воля и покой,
Замена счастью, Боже мой!
Как я ошибся, как наказан!
– Молодость, молодость, ничего не скажешь! – произнес Дерибас, привычно усмехаясь в усы. – Хотел счастья в жизни, но отрекся от него, вроде как дал обет, но вот поди ж ты как вышло. А помните еще у Боратынского? И он процитировал:
Не властны мы в своей судьбе,
И в молодые наши леты
Даем поспешные обеты
Смешные, может быть всевидящей судьбе.
– Вы правы, правы, Терентий Дмитриевич, ошибки молодости не исправить. Не исправить, не исправить! – заключил Миронов, думая, вероятно, именно о том, что по жизни уже ничего не исправить.
Заговорили о судьбе, о том, что от судьбы не уйдешь, и в этом мнения их совпали. Как ни крути, ни хитри, а судьбу не обманешь. «Пути господни неисповедимы» (это выражение очень понравилось Дерибасу), где главным управителем жизни человека являлся не Бог, а Судьба – вот подлинный властелин человека, хозяин его жизни.
– Теперь о деле, Терентий Дмитриевич, – произнес Миронов, покончив с чаем и снова закуривая. – Арнольдов мне докладывал, что вы не даете санкции на арест людей по нашему списку.
Дерибас тоже закурил свою «Северную Пальмиру», помолчал какое-то время, напустил дыму, сосредотачиваясь на крутой деловой разговор после обычной «светской» болтовни.
– Не даю санкции и так просто не отдам на съедение ни одного человека. Ни одного партийного, советского и хозяйственного работника.
– Почему же на съедение?
– Если человека арестуют, из тюрьмы ему уже не выбраться, вы это знаете не хуже меня. В тюрьме невиновных уже не бывает, вину ему найдут и определят. А в вашем списке самые ценные работники края, его золотой фонд. А с них начнут выбивать показания, и пойдет писать губерния!
– А если они шпионы, контрреволюционеры, троцкисты, вредители?
– Я уже говорил Арнольдову, Лев Григорьевич: дайте факты, покажите весомые аргументы в необходимости арестов, а не одни лишь выбитые признательные показания и оговоры людей под нажимом следствия. Положим, дам я санкцию, но Чернин ее не утвердит. Прокурор у нас человек принципиальный, твердого характера. Для него повод для ареста должен быть подтвержден доказуемыми фактами и компрометирующими материалами, – отвечал на это Дерибас.
– Напрасно вы противитесь, Терентий Дмитриевич, – с сожалением произнес Миронов, выпуская тоненькую струйку дыма. – Напрасно, напрасно…Мне бы не хотелось докладывать в Москву о вашем противодействии, это повредит вам по службе. Будьте благоразумны, не идите поперек наметившейся тенденции. В Кремле этого не любят и не поймут. И Чернину это объясните.
– Я вам пример приведу, Лев Григорьевич, как работает команда Арнольдова. Арестован тут нами военный инженер строительного отдела Кащеев за халатность, разгильдяйство и злоупотребления. Обычное уголовное дело, но Арнольдов переквалифицирует это дело как политическое, как широкомасштабный заговор в военно-строительном отделе, Путну сюда приплели зачем-то, шпионаж шьют инженеру в чистом виде под расстрельные пункты пятьдесят восьмой статьи.
– Инженер Кащеев дал признательные показания на участие в заговоре и во вредительстве, кажется, около пятидесяти человек. И Блюхер согласился, подписал, и военный прокурор утвердил, – ответил на это Миронов.
– А не имею касательства к делам военнослужащих, но на месте Блюхера я бы сначала перепроверил, каким образом выбиты показания из инженера, которого изуродовали следователи, – ответил Дерибас. – Фактов нет, Лев Григорьевич, доказательств, улик. Одни лишь признательные показания уже арестованных не могут быть основанием для арестов других людей, и тем более нельзя на них строить обвинительные заключения, и Чернин бы в отличие от военного прокурора с этими бы арестами не согласился и опротестовал бы их.
– Не понимаю я вас, Терентий Дмитриевич… Вы старый, опытный чекист, а зачем-то препятствуете арестам очевидных шпионов, вредителей, людей с троцкистскими взглядами. Разве мы делаем не одно общее дело по очищению страны от врагов народа?
– Смотря, как его делать, Лев Григорьевич! Если дело пойдет с таким размахом, как бы нам с вами не оказаться во врагах народа. – проговорил Дерибас и поднялся, показывая этим, что разговор окончен.
– Что ж, очень жаль! – ответил Миронов и тоже поднялся. – Очень жаль, что мы не поняли друг друга!
IV К НАМ ЕДЕТ «ПАН БАЛИЦКИЙ»
О том, что комиссар госбезопасности первого ранга и начальник УНКВД по Дальневосточному краю Терентий Дерибас препятствует раскручивать аресты в Дальневосточном крае, Миронов докладывал Ежову, а тот уже докладывал Сталину. Миронов в шифротелеграмме за №61240 сообщал Ежову о четырех группах арестованных (18 из них из них инженерно-технический состав строительно-квартирного отдела, которых группа Арнольдова оформляла в «заговор в военно-строительном отделе»). Параллельно московская группа вела разработку «военно-троцкистской организации в ОКДВА». Эти вероятные заговоры разрабатывались московскими следователями по типу западных районов страны, где уже были раскрыты заговоры и начались аресты его участников.
Тем временем первый секретарь Далькрайкома Варейкис слал Ежову (а тот докладывал Сталину) доносы: «Дальневосточное УНКВД, возглавляемое Дерибасом и его заместителем Западным, с большой недооценкой относятся к вражескому троцкистскому подполью. Его руководство поражено политической слепотой».
Эти доносы и шифротелеграммы Варейкиса о препятствии Дерибаса работе московских следователей и сообщения Миронова о раскрытых заговорах и его ходатайство перед Политбюро о том, что Дерибас препятствует работе бригаде московских следователей, завершились тем, что восьмого мая 1937 года Дерибас получил шифрограмму из Москвы:
Документ №68
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) о В.А.Балицком и Т.Д.Дерибасе
08.05.1937
144 – о начальнике УНКВД Дальневосточного края.
1.Для усиления чекистской работы на Дальний Восток перевести т.Балицкого с должности Наркомата Внутренних Дел УССР на должность начальника УНКВД Дальневосточного края.
2.Отозвать т. Дерибаса в Москву в распоряжение НКВД СССР. Вопрос о дальнейшей работе т.Дерибаса решить по приезде его в Москву.
3.Подчинить т.Балицкому посланную решением ЦК ВКП(б) на ДВ группу чекистов во главе с т. Мироновым.
Протокол №49.
Дерибасу следовало отправиться в Москву для нового назначения.
Получив телеграмму, Дерибас задумался: что это – опала? Или ее приближающиеся признаки? Неужели придется оставить этот уютный, роскошный кабинет, сниматься со всем семейством и еще куда-то ехать на новое место? Не молоденький уже мотаться по стране. Пусть холодный край, но уже ставший родным. Жаль, жаль будет покидать это место! Как отнесется к этому «рыбонька»? Она была бы рада вернуться куда-нибудь в теплый край поближе к родной Одессе или к Крыму. И это еще было бы неплохим вариантом, если Сталин захочет использовать его, а не отправит в застенок.
Прибежала взволнованная Елена, – ей сообщили со службы шифровальщицы-телеграфистки.
– Что случилось, Терентий? Тебя снимают? – с ходу, едва прикрыв дверь, встревоженно спросила она.
– Вызывают в Москву за новым назначением. Похоже на то, что нам придется отсюда уезжать.
– А кого назначили вместо тебя?
– Балицкого.
– Который наркомом на Украине?
– Он самый.
– Что-нибудь случилось чрезвычайное?
– Ничего. Ничего, кроме того, что уже было и есть. Мы им тут с Семеном мешаем развернуться во всю прыть, громить все и вся, вот и нажаловались Ежову со Сталиным.
– Не перечил бы ты им тут, Терентьюшка! Предупреждала же тебя!
– Рыбонька моя, или я в Дальневосточном крае – Дерибас, комиссар госбезопасности первого ранга, и что-то значу, или я – тут пешка, чтобы прогибаться перед этими сволочами! Чему быть, того не миновать!
– Не верю я Сталину, не верю! Тусует людей туда-сюда, как карты! На Украину бы хорошо, но переезжать сейчас так бы не хотелось, пока ребенок наш еще крохотулька!
– Нас не спрашивают, рыбонька, кто и куда хочет ехать. Назначили – и возьми под козырек, вот и вся недолга.
Елена ушла, а он задумался, осмысливая полученную шифротелеграмму.
Какое новое назначение уготовил ему Сталин? Почему Сталин посылает на Дальний Восток именно Балицкого? Непонятно. Из наркомов Украины и вдруг на Дальний Восток? Выгнал его Сталин из теплого края, где он давно прижился, или Сталин задумал что-то еще? И теперь Балицкий будет стоять и над Миронов, и над Арнольдовым и будет хозяйничать вместо него, Дерибаса? О, они сработаются! Что ж, у нас тут люди потверже, чем везде, зубы-то еще обломает.
А что ему известно о Балицком? Комиссар госбезопасности 1-го ранга, как он, Дерибас. Сорок пять лет ему, на десять лет моложе его. Уже член ЦК, а он, Дерибас, только кандидат в члены. По наружности он был полной противоположностью субтильному Миронову. Дерибас запомнил его на последнем мартовском совещании руководящих работников НКВД. По наружности Балицкий был из тех, про кого на Украине говорят так: цэ гарный хлопец. Красив, высок ростом, статен, густые, длинные черные брови украшали выразительное лицо с хорошо очерченными губами, ямочкой на подбородке – бабья слабость. Уж как любят бабы у мужиков эти ямочки на подбородках! Густые, русые волосы, чуть седеющие на висках, красивой «копешкой» зачесывались назад.
Был председателем киевской ЧК в 1919 году в пик массовых казней, в разгар Красного террора. Был сподвижником Тухачевского (и его, Дерибаса тоже) по подавлению антоновского восстания крестьян в Тамбовской губернии. Про него говорили в чекистских кругах, что он и маму родную не пожалеет ради достижения своей цели, то есть карьеры. Советовал Тухачевскому, руководившему подавлением восстания, брать в заложники крестьян из тех деревень, которые оказывали помощь восставшим, и каждого десятого крестьянина расстреливать. И брали, и расстреливали. Мятежные деревни зажигали с четырех сторон, чтобы никто не убежал, а кому удавалось выбежать, расстреливали из пулеметов без разбора, в том числе и женщин с детьми. Поддержал Тухачевского в применении отравляющих газов против спрятавшихся в густых тамбовских лесах восставших крестьян. «Трави, трави их, сволочей!» Инициатор шахтинского «дела», полностью сфабрикованное, которое помог следователям мастерски раскрутить.
Все это было известно Дерибасу. И не только ему. Будучи уже в Москве на должности в центральном аппарате, Балицкий был послан Сталиным в 1932 году на Украину особо уполномоченным ОГПУ по хлебозаготовкам вместе с Павлом Постышевым, где они вместе с ним морили голодом крестьян, выполняя сталинский наказ о хлебозаготовках. С неограниченными полномочиями. Там Балицкий приказал забирать все зерно у крестьян, расставить загрядотряды, заставы и милицейские посты, чтобы крестьяне не могли покинуть районы, где свирепствовал голод. Снимали с поездов крестьян и отправляли назад по месту жительства на голодную смерть. Довел Украину до людоедства, о чем он Дерибас не раз слышал. Приказал отбирать скот у тех крестьян, которые отказались наотрез вступать в колхоз. «Тогда подыхайте с голоду! » – было крестьянам ответом.
Этот на все пойдет, на все, – думал о нем Дерибас. – Этот ни перед чем не остановится. Он тут не только троцкистов и шпионов найдет, но и мамонтов отыщет. Что в «тройке» заседал – так это само собой, по должности положено. «Неужели еще до сих пор не наелся людьми и не напился крови? Сколько можно! Пора бы уже остановиться и образумиться! И кто остановит? – думал Дерибас, расхаживая по кабинету.
На Украине о Балицком ходили легенды одна другой поразительней, каким он был в быту. Иначе, как «пан Балицкий», его и не звали. Додумался приказать там, чтобы везде в районных отделах и в войсках НКВД развешивали его портреты с цитатами из его речей и выступлений. В назидание и поучение. А какой создал себе культ! Смех да грех. Понятно, кутежи, попойки чекистской оравой или узким кругом – это само собой, это везде, это и на Дальнем Востоке у них заведено. Сам он, Дерибас, любил покутить, погулять всласть. Но этот завел себе личное судно, говорили, что оборудовано по высшему шику за счет казенных денег, устраивал круизы по Днепру с попойками и проститутками. С подарочками! Не из жалованья ведь. А в каком жил шикарном личном особняке! Куда ему Дерибасу до этого с Блюхером впридачу! Там у него было целое поместье, завел себе зоопарк, оранжерею. Пан, барон, государственный сановник, которых и при царе-то на пальцах можно было пересчитать! А сколько у него, говорили, было дач? Не то три, не то четыре. А сколько в его владениях было прислуги? Счета не знали. И в Сочи, и в Крыму, и в Одессе, любимой Дерибасом Одессе. Куда им с Блюхером! Со смехом говорили в чекистских кругах о том, что хотел он поместить в свой зоопарк осла, так по всей Украине искали осла, и пока не нашли, он не успокоился. С женой скупали картины, дорогие скульптуры, антиквариат. Чекисты на то и чекисты, они все друг про друга знают. Самый богатый большевик на Украине, «настоящий большевик», новый советский дворянин – это «пан Балицкий». Когда Балицкого спрашивали сослуживцы, зачем он ведет такую роскошную жизнь», он отвечал: «Беру пример с Ягоды». Разумеется, и Ягода был такой же советский сановник, мещанин и мелкобуржуазный элемент, зря, что ли, в революцию пошел? Но пошел и затем, чтобы потом после уничтожения буржуев хорошо, роскошно жить, не хуже проклятых буржуев, даром что чекист. Люди – они всегда люди, как ни называй их революционерами да марксистами, да ни пичкай их идеями. И других-то людей нет, только такие. Уничтожали буржуев, всяких богатеев, кулаков, у многих из которых и добра всего-то было, что пара лошадок да тройка коров с телками. Уничтожали, а сами жаждали стать богачами. Как ни свергай старых господ, новые господа все равно скоро появляются. Стало быть, обещанное равенство – обман, и неравенство есть неизбежная суть бытия, как бы ни было достигнуто это новое неравенство, праведным или неправедным путем. И бороться с неравенством – все равно, что бороться с самой жизнью, ломать самые коренные основы ее. Нет-нет, всех никак не подравняешь! Никак, никак! И жизнь никак не обманешь, она стоит выше и крепче всех идей. Все хотят жить хорошо, сыто, с богатством или достатком, нажитым или конфискованным, чтобы прихвастнуть перед другими. Люди же – не более того, что старые господа, что новые. Но не на всех падает благосклонность судьбы, – думал Дерибас. – Вот тебе и революция – навыверт и наизнанку. Для чего мы делали революцию? – спрашивали иной раз друг друга простые чекисты. – Чтобы окунуться в мещанство? В мелкобуржуазную стихию? А выходит, что так. Нет, только революция на какое-то время делает людей равными, а когда революция стихает, начинается распределение и перераспределение благ и должностей, погоня за богатством, чтобы выделяться среди других, да хвастаться, раз должность позволяет это. И бабы…бабы тут подливают масла в огонь! Им все мало да мало! Надо им повыпендриваться друг перед дружкой. Бабы меры не знают – это факт, пока не цыкнешь на них, они не остановятся, а это беда.
Вот недавно после чекистской конференции ездил в Сибирь на пару-тройку дней. Миронов-Король зазвал опытом поделиться. Нет, не опытом он зазвал поделиться, а прихвастнуть перед ним, как он в Сибири устроился в шикарном особняке по-барски. Там у него зимой розы в оранжерее, апельсины ему откуда-то доставляют, слуг полон дом, два швейцара. Два!! Один на воротах, другой у подъезда. Детей не нажили с женой, зато комнат сколько! А роскошь какая! Куда ни глянешь – так и бьет по глазам. Зачем? Прихвастнуть! Король! Недаром же приделал к своей скромной фамилии Миронов добавку – Король. Миронов-Король! Сибирский король! И баба у него хваткая, эта самая Агнесса, такую не остановишь! На Украине пан Балицкий, а в Сибири Миронов-Король! Вот тебе и революция – навыверт и наизнанку.
А первый секретарь у него в Западно-Сибирском крае, этот самый Эйхе ? Повез его Миронов в гости к Эйхе. А у того не особняк, а настоящий дворец, окруженный забором с охраной. На входе в особняк – швейцар, мягкие персидские ковры на лестницах, по которым и ступать-то боязно, а кругом такая роскошь, которой он Дерибас никогда не видывал. Детей тоже не нажили, а прислуги – уйма, так и мелькают на каждом шагу! Старые господа жили скромнее, а уж он-то повидал в Одессе старых господ в прежние времена. Что и говорить, полюбили новые господа жить со вкусом, даром, что бывшие революционеры, а теперь господа хоть куда! Куда им с Блюхером до Балицкого, Эйхе и Миронова-Короля!
А уж пьянство, кутежи, контрабанда, присвоение казенных денег из секретных неподотчетных фондов, отпущенных на содержание и оплату агентуры, махинации с валютой – это само собой, это и он, Дерибас, знает, это у и него было и есть. Вот чего у него в дальневосточном крае нет, так это широкого наглого распутства. Там у Балицкого на Украине во всех городах агенты составили списки женщин с фотографиями, приезжая в которые можно было этими женщинами, то есть, проститутками, пользоваться. Кутить с ними и сожительствовать. Опять же за казенный счет, ведь подарочки нужно хорошенькие дарить. Это было и есть сплошь и рядом. Спасибо Елене, вытащила его из этого болота, взяла в свои руки, мягкие, но крепкие. А контрабанда, обогащение за ее счет в приграничных округах – это тоже само собою. Разве у него, Дерибаса, этого нет? Есть.
«Они поместья себе завели, чуть ли не крокодилов там выращивают, а я по лагерям да по заставам мотаюсь, железные и автомобильные дороги строю, да все пехом, пехом, подальше от этих поганых заседаний в «тройках», – думалось ему. Достоверные есть слухи о том, как один из членов правительства Украины, сейчас уже не вспомнить кто именно забавы ради решил в ванне утопить двух проституток, с которыми развлекался. Одну утопил, другая сбежала, все рассказала в милиции. Расследовали, и выяснилось, что это так. Этот факт Балицкий скрыл. Один из наркомов Украины, кажется, финансов насиловал машинисток прямо в кабинете. Какая-то из них пожаловалась, расследовали, и выяснилось, что это так. Конечно, это не бог весть, какая новость, злоупотребляли служебным положением, злоупотребляли, и не только на Украине. Но такого не было, как на Украине при Балицком, чтобы нарком земледелия Моисеенко повесил жену на чердаке, а дело сшили так, что это самоубийство. Сфабриковал дело и скрыл эти факты Балицкий. Зачем? Так набирается высокопоставленная агентура, бесплатная, которая перед тобой дрожать будет. И за счастье почитать доносить на свое окружение. И уговаривать не надо, так людей ловят на их промахах и преступлениях. И используют на благо родины.
А секретные неподотчетные фонды – это тоже само собой, что воровали из них. Ведь все так делали, в большей или меньшей степени. Но вот уж такая наглость, как сожительство с женами подчиненных, если та была хорошенькая, так и такая практика есть и в НКВД, и в партийных кругах, среди большевиков. Нечасто, но есть. И попробуй подчиненный пикни. Все же люди, обыкновенные люди, не более того, хоть ты каких будешь убеждений. других-то нет, как ни пичкай их цитатами из Маркса-Ленина-Сталина. Вот уж чего не было в его епархии, так не было!
Но всему нужно знать меру, не зарываться. Куда Сталин смотрел и смотрит? Известны ли эти темные чекистские делишки Сталину? Конечно, известны, раз это известно ему, Дерибасу. Воруют хлопцы, воруют, пьянствуют, мошенничают, меры не знают, а «отец родной» сидит в Кремле, знает обо всем, но не знает, что с ними, то есть со всеми нами делать. Где взять других людей, которые портятся, как овощи в летнюю жару, когда прикоснутся к власти лишь одним краешком? Потому и терпит Балицкого, хотя тот вообще зарвался. Значит, нужен ему еще. Терпит, пока тот делает то, что нужно Сталину.
Вспоминая о том, что он знал о Балицком, Дерибас, как в зеркале, видел в Балицком свое собственное отражение, и у него хватало ума и мужества сознавать это; сознавать то, что Балицкий был на Украине тем же самым, кем был он, Дерибас, в Дальневосточном крае, то региональным владыкой. Правда, в Дальневосточном крае Дерибас делил свое владычество поровну с Блюхером, не списывая со счетов и Гамарника. И если бы не он, Балицкий ехал к Дерибасу на Дальний Восток, а он Дерибас ехал бы к нему на Украину «на усиление чекистской работы», то он бы делал то же самое, что намеревался сделать и сделает Балицкий: потрошить на Украине все сформировавшиеся партийные, советские и хозяйственные структуры, арестовывать работников, близких к Балицкому, и искать у него заговорщиков. Среди населения Украины недовольных политикой Москвы много…а среди крестьян катастрофически много, а уж на Украине (и в Дальневосточном крае тоже) в особенности после раскулачивания и разорительных для Украины хлебозаготовок и голода 1932-33 годов. А между этими недовольными и разговорами между собой недовольными до прямого заговора – короткая дорога, по мнению возможного следствия, и оно уж тут постарается. Вел контрреволюционные разговоры? Разумеется. (То есть был недоволен тем, что тебя, твою семью обобрали до нитки, то есть обокрали средь бела дня и обрекли на вымирание). Вел разговоры, значит, заговорщик, «повстанец», возможный повстанец в будущем. Как будто бы люди должны радоваться и хлопать в ладоши тому, что у них отняли даже самую возможность выжить.
Отправлял людей на казнь, председательствуя в тройке? Отправлял. Тяжелой виной и острой занозой залегло под сердцем обвинение амурских казаков пограничных сел в ЕАО, сшитое в дело «Амурцы» о мифической «Трудовой крестьянской партии» и «контрреволюционной повстанческой организации», вспоминавшаяся ему потом. Осудили 250 человек, около 100 пришлось приговорить к смертной казни на основании докладчика, требовавшего смертной казни еще для 100 человек. Остудить, умерить аппетиты! Отмахнуться от расстрелов было нельзя, можно было самому лишиться должности и угодить в застенок.
Но после дела «амурцев» зарекся заседать в тройке, отправлял туда Семена Кессельмана.
Дерибасу было чем гордиться, как он считал, в Дальневосточном крае. Он гордился тем, что курировал крупнейшие стройки в Дальневосточном крае, строил железную дорогу на Комсомольск-на-Амуре, построил и проехал по ней вместе с Блюхером; он курировал строительство Седанского водохранилища во Владивостоке, который просто задыхался без воды со дня своего основания. Гордился тем, что по его совету председатель крайисполкома Крутов добился от кремлевских властей льгот для многих дальневосточников: повышенных окладов, разрешение не платить за огороды земельный налог, а главное то, что все собранное здесь зерно оставалось в крае, а не забиралось в центр. И это закреплялось на десять лет.
«Устал казнить, приговаривать, на расстрел отправлять. И по лагерям устал мотаться, по бамовским стройкам топать пехом, видеть, как заживо здесь гноят людей в лагерях. Шутка ли сказать, пешком прошагал всю Волочаевскую ветку до Комсомольска-на-Амуре не один раз, каждый лагпункт посетил. И везде сплошь – ужас. В 1933 инспектировал первые бамовские стройки – ни обуви, ни одежды, ни рукавиц у заключенных. Голыми руками отправили людей воевать с тайгой. Жили в дырявых армейских палатках, считай, на улице. Такая жалость, случалось, охватит, что хочется крикнуть: «Что же это мы делаем?!» Охватит так, что слезы вот-вот потекут из глаз.
V В МОСКВУ ЗА НОВЫМ НАЗНАЧЕНИЕМ
12 мая Дерибас уезжал в Москву в отдельном купе вместе со своим секретарем-адъютантом старшим лейтенантом Соловьевым как будто бы за новым назначением. Он не знал того, что Миронов ходатайствовал перед Политбюро и ЦК о том, чтобы Дерибаса убрали с Дальнего Востока, но, естественно, понимал, что убрали его затем, чтобы он не препятствовал работе московских следователей.
Обычно в прежнее время для поездок в Москву для него существовал отдельный оборудованный вагон со спецсвязью, штатом поваров, охраны, коменданта вагона и еще одного секретаря, кроме Соловьева. Но в этот раз вагон не был задействован, так как теперь Дерибас, получив новое назначение, назад в Хабаровск мог уже не вернуться, и устроились они с Соловьевым в отдельном купе вагона первого класса.
А у московской опергруппы в его отсутствие были развязаны руки, и она стала один за другим раскрывать заговоры в Дальневосточном крае. Балицкий безоговорочно подписывал ордера на аресты. 19 мая Ежов положил перед Сталиным расшифрованную телеграмму от Миронова о раскрытии заговора среди военных строителей. В ОКДВА, сообщал Миронов, действует шпионско-диверсионная сеть, которая готовила:
– Покушение на Сталина.
– Покушение на Кагановича, наркома железных дорог.
– Покушение на Гамарника.
– О масштабной вредительской деятельности в лесной отрасли, о срыве военного строительства.
– О связях подполья с японской разведкой ГОТО и ТАКАХАСИ и о передаче им секретных сведений. Руководил (будто бы) всем Кащеев, тот самый Кащеев, о котором у Дерибаса с Арнольдовым был разговор. Инженер, разумеется, сдался под пытками и угрозами и оговорил еще около 50 человек.
В Москву Дерибас со своим адъютантом прибыли 20 мая вечером и остановились в гостинице «Метрополь» в забронированных номерах. Дерибас оказался в Москве в разгар важнейших политических событий. Через два дня, 22 мая при личной встрече Ежов сообщил ему о том, что сотрудниками НКВД раскрыт заговор в рядах Красной армии среди самых высокопоставленных военнослужащих во всех округах страны, в том числе и среди военнослужащих ОКДВА. Пока он был в дороге, уже были арестованы начальник военной академии имени Фрунзе Корк , заместитель командующего войсками Московского военного округа Фельдман , вчера 21 числа арестовали командующего Белорусским военным округом Уборевича , а сегодня, «буквально только что», по словам Ежова, были арестованы заместитель наркома обороны маршал Тухачевский и председатель Центрального совета ОСОВИАХИМА Эйдеман . Еще прежде Дерибасу было известно об аресте командующего Уральским военным округом Гарькавого и его заместителя Василенко. Но Василенко и Гарькавый были арестованы еще в марте 1937 года, и этим арестам не придали особенного значения, так как некоторых высокопоставленных партийцев и военных «брали» за троцкистские взгляды, наверное, и Гарькавого и его заместителя «взяли» за троцкизм. Также не придали особого значения и повышенного внимания к еще прежде арестованным в августе 1936 года Путна и Примакова , которых в военных кругах связывали с троцкистами.
И еще одна новость была для Дерибаса ошеломляющей – был снят с поста начальника политуправления Красной армии Ян Гамарник, наезжавший в Дальневосточный край с двухмесячными инспекциями, тоже попавший под подозрение в заговоре?
Аресты в армии явилось для Дерибаса полнейшей неожиданностью. В армии раскрыт заговор? Тухачевский, Фельдман, Примаков, Гарькавый, Уборевич, Корк – военнослужащие высшего ранга, арестовываются также военнослужащие ОКДВА! А тут еще и сам Гамарник под подозрение попал. Значит, идут аресты и в других округах? Если это так, то выходит, что предполагаемый заговор охватил все округа по всей стране? Невероятно! А пока он ехал в Москву восемь дней, были арестованы дальневосточники: заместитель начальника по ВВС ОКДВА комкор Лапин , комендант Благовещенского укрепрайона комбриг Круглов , а также комендант Нижне-Амурского укрепрайона комбриг Кошелев . Но чему он чрезмерно удивился, так это аресту комбрига Кошелева, коменданта Николаевского-на-Амуре укрепрайона, того самого, уже легендарного человека, который за три дня на острове Удд построил из стройматериалов взлетно-посадочную полосу. На этот песчаный остров приземлился долго блуждавший в тумане самолет Чкалова с Байдуковым, совершивший рекордный перелет по дальности. Заблудились летчики, так сказать, облачность в этих местах очень низкая, почти до самой земли. Самолету нужно было возвращаться назад, в Москву, а с песка не взлететь. Этот Кошелев и сотоварищи славно и изобретательно потрудились, устраивая из пиленых стройматериалов взлетную полосу. Наградили его орденом Ленина, еще и года не прошло – и вот арест.
28 мая – новый, уже вполне ожидаемый арест, на сей раз арестовали командующего Киевским военным округом Якира .
Через несколько дней Ежов сообщил ему о том, что Сталин примет их 13 июня. Он также сообщил о том, что готовится суд над военными заговорщиками во главе с Тухачевским, обвиняемыми в военно-фашистском заговоре и в попытке свергнуть Советскую власть. Подготовка к суду шла полным ходом. Суд под названием «специальное судебное присутствие» должен состояться 11 июня. А на 25 июня было назначено расширенное заседание Военного совета при Наркомате обороны СССР, на которое были приглашены члены военного совета (на тот день их оказалось 63 человека, так как двадцать из них были арестованы). А также приглашен на это заседание командный состав Красной армии со всех регионов страны, военачальники второго ряда числом 116 человек.
Странно, думалось ему, почему срочно решили собрать военный совет, причем в расширенном составе? Незапланированный, не объявленный заранее, в спешке назначенный? Когда он уезжал из Хабаровска, никакого военного совета не намечалось, иначе это было бы ему известно. Что за срочность такая, с чем связана?
Вскоре он узнал о том, что заседание Военного совета переносится с 25 мая на первое июня. Зачем, почему?
Узнав от Ежова, что в Москву вызван на заседание военного совета также командующий войсками ОКДВА Блюхер , он решил позвонить ему, чтобы встретиться с Блюхером накануне заседания расширенного военного совета. Это было 31 мая.
Блюхер поселился в гостинице «Москва» в роскошном люксе. Узнав номер телефона, позвонил ему, несмотря на позднее время – было около десяти часов вечера. Трубку снял, вероятно, один из его адъютантов. Дерибас представился:
– Это Дерибас говорит. Кто у аппарата?
– Адъютант маршала дивизионный комиссар Семен Кладько, – ответил голос в трубке.
– А, Семен Николаевич, здравствуйте! Как Василий Константинович? В добром здравии?
– Н-не совсем, – ответил адъютант.
– Соедини меня с ним.
– Н-не могу. Он…это…так сказать…
– Что? Говори, не заикайся! Пьян, что ли?
– Чрезвычайно! Спит теперь.
– Что за повод такой?
– Сегодня застрелился Гамарник ! Совсем недавно сообщили!
– Да что ты говоришь! Вот так новость!
– Да, Терентий Дмитриевич! Мы приехали вчера под вечер, устроились хорошо, с нами приехал также товарищ Хаханьян . А сегодня мы с Василием Константиновичем поехали на квартиру к Гамарнику, а когда вернулись в гостиницу, через какое-то время, Василию Константиновичу сообщили, что Ян Борисович застрелился. Вчера был арестован его первый заместитель, сейчас не помню его армянскую фамилию , а также по приказу Ворошилова он выведен из состава военного совета и уволен из Красной армии, об этом он сообщил Блюхеру.
– Какое обоснование?
– Мне это неизвестно. Но это еще не все. Сегодня же из нашего штаба армии сообщили об аресте Фирсова и Аронштама , а буквально с час назад Василию Константиновичу сообщили о том, что в Кирове прямо на вокзале арестовали Сангурского .
– Прямо на вокзале? Что за прихоть такая?
– Прямо на вокзале, Терентий Дмитриевич! В Москву ехал на заседание Военного совета.
– Говорил ли Василий Константинович что-нибудь по поводу самоубийства Яна Борисовича? – спросил он Кладько.
– Нет, мне ничего не говорил. Наверное, Ян Борисович сообщил ему о том, что сам ждет ареста, а еще Василий Константинович жаловался на то, что решением Политбюро ему предписано быть одному из судей на каком-то судебном присутствии вместе с другими высшими военными в процессе над теми, кого обвиняют в заговоре. Я ждал Василия Константиновича в машине, он страшно матерился на это решение, когда вернулся от Гамарника. И вот, что вышло, Терентий Дмитриевич…
Дерибас положил трубку.
Новости были ошеломляющие. Гамарник, отстраненный от всех должностей, застрелился, в дальневосточной армии проходят аресты высокопоставленных военнослужащих, во всей армии идут аресты. Не коснется ли эта участь Блюхера, если учесть то, что подряд арестовываются командующие военными округами и их заместители? О чем у Блюхера с Гамарником был разговор? Наверное, об аресте его заместителя и о своем снятии со всех постов, и, скорее всего, о своем вероятном аресте тоже по подозрению в заговоре. Может быть, шел еще разговор и о скороспелом военном совете, на который почему-то были вызваны еще 116 человек военнослужащим второго ряда, не членов военного совета? Вероятно, Гамарник ждал ареста с часу на час и решил опередить приход служителей родного ведомства и дальнейшие последствия этого. А может, Блюхер тоже опасается ареста, если идут аресты командующих основными военными округами и об этом он мог говорить с Гамарником? Ничего не понятно, только голова идет кругом!
Ему вспомнился Гамарник, его строгое, даже суровое лицо с чрезвычайно печальными, какими-то нездешними глазами. Причина этой непреходящей скрытой и скрываемой печали вряд ли имела земное происхождение: его здоровье (у него был диабет), семейные нелады или непорядки на службе. Казалось, какая-то великая, неразрешимая дума, мысль томила его душу, как если бы он вобрал в себя всю вселенскую печаль, всю мировую скорбь. Он носил черную, окладистую бороду, был густоволос и среди высших военных и сановитых гражданских людей, причастных к власти имел любовно-уважительное прозвище «Борода». Лицо его не имело ни малейшего поползновения к мимике, словно бы было каменным, и, пожалуй, нельзя было назвать ни одного человека, который бы видел, чтобы Гамарник улыбнулся или рассмеялся, выразил бы каким-нибудь жестом или мимикой радость или неудовольствие, словно бы он в этом отношении дал себе какой-то обет, как дают себе обет молчания монахи. Быть может, эта печаль имела причиной несовершенство рода людского? Или разочарование в том деле, которому посвятил всю жизнь?
И вот этот человек застрелился. Совершенно невозможно было бы представить его в застенках Лубянки. Да и на процессе тоже. А уж тем более в хабаровской внутренней тюрьме.
Значит, маршал пьян, наверное, от слишком дурных новостей и чтобы «залить глаза» перед заседанием Военного совета и отогнать скверные мысли и чувство чего-то невероятного, неслыханного, которое вдруг надвинулось и надвигается на армию? Как же раньше, в Гражданскую все просто было! Там, на той стороне были враги – белые, офицерье, казачье, а теперь политика выползла наружу и всё и всех мутит. Кремль играет в политику, которую никто не понимает. Свои бьют своих, не врагов. Как они оказались во врагах? Троцкисты, зиновьевцы, (бухаринцев вот тоже взяли), правые, левые, всякие уклонисты, все раньше были свои и все как-то уживались вместе. А теперь только одна путаница. Сочувствовал Троцкому, Бухарину, Рыкову, Зиновьеву или еще кому-то из оппозиции – значит, смертельный враг. А как же им было не сочувствовать, если они были свои и грудью стояли за революцию? В немилость угодил Рыков, побывавший на Дальнем Востоке года два назад, а теперь, по слухам, стали брать за связь с ним. А ведь он был председателем совета народных комиссаров! Как же руководство Дальневосточного края могло быть не связано с ним, с человеком из Москвы, с начальником? Ерунда какая-то! Кто теперь что-нибудь понимает? Никто. И он Дерибас ничего не понимает. Один только Сталин со своей компанией что-то понимают и что-то затевают и опережают всех на шаг, два или более. Зачем?
1 июня в киоске в фойе гостиницы он купил свежий номер «Правды». Передовица и все почти полосы заполнены были материалами по теме освоения Арктики, репортажи, очерки не только о летчиках-папанинцах, но и другими материалами, посвященными освоению Арктики. На последней шестой полосе под разделом «Хроника» другим шрифтом было напечатано: «Бывший член ЦК ВКП (б) Я.Б.Гамарник, запутавшись в своих связях с антисоветскими элементами и, видимо, боясь разоблачения, 31 мая покончил жизнь самоубийством».
Все дни с 1 по 4 июня Дерибас безвылазно сидел в гостинице, читал газеты и расшифрованные стенограммы военного совета, которые по его приказу доставлял ему из Управления на Лубянке посланный адъютант. Внимательно читал доклад Сталина и прения после него военных, стараясь уловить как направление замысла Сталина, так и настроение в армии.
Внимательно изучив доклад Сталина, Дерибас подивился тому, как все ловко подстроил вождь, связав недовольство в рядах военных Ворошиловым в военно-политический заговор против Советской власти, финансировавшийся германским фашизмом. На это был сделан упор. Сталин опирался в своем выступлении на «признательные показания» арестованных военных и перед своим выступлением раздал растиражированные «показания» Тухачевского, Корка, Фельдмана, Ефимова всем участникам военного совета – и его членам и приглашенным. Какова цена этим показаниям? – думал Дерибас. – Каждый чекист это знает. Никто против пыток не устоит. Почти никто, исключительно единицы. И другой метод, еще более зверский – запугивание. Он против этих стойких единиц, он пострашнее пыток. Арестованным по полочкам разложат те устрашающие репрессии, которые обрушатся на их семьи, матерей, отцов, братьев, сестер, родственников, жен, детей, ни в чем не повинных людей. Военным свои жизни не столь жаль, они всегда готовы умереть, а вот жены, дети, родственники? Разве сам он, Дерибас, случись ему быть на месте арестованного, не пожертвовал бы своей жизнью ради спасения семьи? Без всякого сомнения, пожертвовал. Все это уже давно опробовано еще со времен подавления антоновского восстания: взятие заложников из каждой деревни, села с требованием выдачи оружия и «бандитов». И если не выдают или отговариваются тем, что «не знают», «оружия не имеют», расстрел этой партии заложников на глазах у сельчан и взятие новых заложников с тем же требованием. Опробовано и во всех политических процессах против оппозиции с их «признательными показаниями» в шпионаже, вредительстве, заговоре и прочих грехах. Или «сознаешься так, как нам нужно, или всю семью, родственников «выкосим под корень». И бухаринцы, зиновьевцы, и троцкисты, на удивление не только своим гражданам, но и всему миру, «признавались». (Впрочем, это не спасало их семьи от жесточайших репрессий с расстрелами и посадками в лагеря).
Дерибасу было ясно и то, что подчеркивалась не только заговорщицкая деятельность арестованных, но «признательные показания» выбивались именно в направлении военно-политического заговора против Советской власти для ее свержения в сговоре с германской разведкой, то есть заговорщики обвинялись в шпионаже. (Он сразу отметил, что это было очень похоже на то, как связывал старший майор Арнольдов арест военного инженера Кащеева из ОКДВА с его «признательными показаниями» о заговоре в военно-строительном отделе ОКДВА со шпионажем в пользу Японии). Было очевидно, что центральный аппарат НКВД изощрился и «набил руку» в методах допросов и ведения следствия в точности с тем, какая поступает команда «сверху». Теперь ему было также совершенно очевидно, что они на Дальнем Востоке «отстали» от Москвы, от «передовых» методов работы московских следователей и оперативников, устарели в методах своей работы по выкорчевыванию «врагов народа». Вот почему «таежниками» называл его сотрудников Арнольдов в одном из разговорах с братом Семеном Кессельманом. Какую игру ведет сталинская верхушка и какой цели добивается? Главное, чем поразил Сталин военных, – так это «признательными показаниями» Тухачевского и компании не только в заговоре, но и в плане пораженческой деятельности заговорщиков в армии в будущей войне. Красная армия-де в войне с Германией должна была потерпеть поражение. Точно рассчитанный удар Сталина, ошеломивший армейскую верхушку, повергший ее в шок. Этого военные, конечно, не могли бы простить никому. И они проглотили эту версию, выстроенную следствием. И если кто-то еще из них сомневался в заговорщицкой деятельности арестованных и предательстве, то теперь никто не должен был усомниться.
Что Сталин сказал о Гамарнике? «У нас нет данных о том, что он сам информировал (немецкий генеральный штаб), но его друзья Уборевич, Якир, Тухачевский информировали немцев». И далее: « …Видите ли, если бы он был контрреволюционером от начала до конца, то он не поступил бы так (не застрелился бы. – Примечание автора), потому что я бы на его месте попросил бы сначала свидание со Сталиным, сначала бы уложил его, а потом бы убил себя. Так контрреволюционеры поступают».
Значит, по логике Сталина, размышлял Дерибас, Гамарник не контрреволюционер, а шпион, завербованный немецкой разведкой, «невольник рейхсвера», по его выражению? Какая логика! Как все он железно выстроил! Какой изощренный ум!
Внимательно Дерибас прочел то место, где Сталин говорил о Блюхере. В своем выступлении Сталин защищал Блюхера якобы от намерения Гамарника и Аронштама сместить Блюхера с поста командующего ОКДВА и поставить своего человека. Кого? Конечно же, Тухачевского. По мнению Сталина, Гамарник хотел убрать с Дальнего Востока Блюхера и вел против него «агитацию»? Но об этом, прежде всего, знал бы сам Блюхер. Об этом бы знал бы и он, Дерибас, ему бы немедленно доложили. Но лично он, Дерибас, не замечал ничего подобного вокруг Блюхера, и об этом ему не докладывали. Если бы это было не так, тогда зачем же Блюхер поехал бы на квартиру к Гамарнику сразу же после приезда в Москву на другой день, если бы они были недруги с Гамарником?
Для подтверждения своей мысли он стал искать в речах выступавших в прениях военных то, что скажет Блюхер о Гамарнике. И вот нашел: «…Все тут выходят и хотят обязательно найти у Гамарника что-нибудь контрреволюционное. Не выйдет это. Скажите прямо ЦК, скажите прямо Сталину (Сталина в этот момент не было в зале. – Примечание автора.), что в армии Гамарник пользовался авторитетом. Совершенно иное отношение было к Уборевичу…» (Дерибасу была известна неприязнь Блюхера к Уборевичу).
Сомнительно все это, думал он, сомнительно, чтобы Гамарник и Аронштам хотели сместить Блюхера с поста командующего ОКДВА. Защищая Блюхера от якобы нападок Гамарника и Аронштама, Сталин сделал какой-то важный ход. Но какой?
Что за этим последует? Что задумали Сталин и Ворошилов?
Еще большей неожиданностью для Дерибаса явилось то, что руководство решило распространить в войсках стенограмму работы четырех дней военного совета. Что бы это значило? А значило бы то, чтобы армия готова была к ударам против нее, к уже намеченным репрессиям. И спокойно, без содрогания к этому отнеслась. Как к необходимому и важному делу – к ее «чистке». Чтобы в армии не было паники. А как же в ней не может быть паники?
Значит, и с этой стороны прольется большая кровь. «Если так пойдет, а уже пошло, – думал он, – по всей стране пойдут заговоры искать. Если я не получу нового назначения и вдруг вернусь домой целехоньким, там я застану еще большую кучу заговоров и тысячи арестованных. И ничего и ничто уже не может это сдержать», думал он..
Все эти дни он получал из Дальневосточного края тревожные вести об арестах в армии, в НКВД и в погранвойсках – в его епархии. В ночь с 4 на 5 июня его разбудил телефонный звонок в номере. Звонил его заместитель Семен Кессельман (в Дальневосточном крае день был уже в разгаре):
– Терентий Дмитриевич, Крутов арестован, – хриплым, взволнованным голосом сообщил он.
– Кто дал санкцию?
– Балицкий.
– Какое основание для ареста?
– Арнольдов с Мироновым показывали мне материалы оперативной работы и протокол допроса Крутова . Там какие-то зацепки есть. И Шкирятов надавливал, мол, из Москвы пришли сведения на него от арестованных заговорщиков из группы Тухачевского.
– Есть зацепки?
– Для следствия есть.
– Кто будет вести следствие?
– Пока неизвестно, но скорее всего, Арнольдов.
7 июня он узнал о том, что по армии готовится распространение приказ НКО СССР №072 «Обращение к армии по поводу раскрытия НКВД предательской контрреволюционной военно-фашистской организации». А следом за ним готовился совместный приказ наркомата обороны и НКВД, подписанные Ворошиловым и Ежовым за №082 «Об освобождении от ответственности военнослужащих, участников контрреволюционных, вредительских, фашистских организаций, раскаивавшихся в своих преступлениях».
Раскаявшиеся должны были «сдать» всех, кого знали как участников заговора, рассказать все без утайки и быть прощены, не преследоваться.
Этому обращению вряд ли кто-либо из военных поверит. Маловероятно, что найдутся желающие сдаться и все рассказать, даже если они и были как-то связаны с арестованными, – думал дальше Дерибас. – После этого армию охватит смятение, настоящая паника. Такую армию сейчас бери голыми руками, она уже деморализована.
На 11 июня был назначен суд над группой Тухачевского из восьми человек, участников заговора против Советской власти, к которым должен быть причислен и Гамарник. Зачем Сталин устроил этот процесс-судилище? – думал дальше Дерибас. – Вопросы, одни лишь вопросы. Сначала, судя по стенограммам военного совета, он стравил военных, посмеялся над их «покаянными» речами в прениях по его докладу об их поголовной недостаточной большевистской бдительности, о политической слепоте, а теперь, благодаря «признательным показаниям» арестованных, они вдруг прозрели. А зачем теперь Сталин заставляет высшее военное руководство страны присутствовать на суде их товарищей, которых Сталин выставил в позорном, предательском виде? Ответ был ясен: они будут только присутствующие, не свидетели, не обвинители и не обвиняемые, просто «присутствующие». Это ничто иное, как устрашение, политика. Кто ее вовремя не разгадает, тот не уцелеет, думалось ему. Но даже кто и разгадает, не факт, что уцелеет.
11 июня ожидаемо состоялось закрытое «судебное присутствие». Процесс без свидетелей, без защиты и обжалования, основанный только на «признательных показаниях». И ожидаемо все были приговорены к расстрелу. Дерибас на другой день даже номер «Правды» не стал покупать в киоске. И решил не звонить Блюхеру и не искать с ним встречи. Со дня ареста главных фигурантов дела – Тухачевского, Уборевича и Якира и других – до казни прошло лишь 15-20 дней. Что за спешка такая? Процесс поспешный, закрытый, значит, время открытых политических процессов уже миновало, наступило время закрытых процессов и судов, а за ним уже маячит время…какое-то другое время. Какое? «Время сплошь бессудных дел, то есть с формальным судопроизводством, под сурдинку будет все решаться за десять-пятнадцать минут, как теперь у нас в «тройках», – думалось ему.
VI НА ПРИЕМЕ У СТАЛИНА
13 июня во второй половине дня Дерибас с Ежовым сидели в приемной Сталина. В приемной никого не было, кроме его личного секретаря Поскребышева.
– Сейчас я доложу о вас, – проговорил Поскребышев, укладывая в большой шкаф какие-то папки.
– У него еще кто-нибудь есть? – спросил Дерибас, кивком головы показывая на дверь в кабинет.
– Только товарищ Молотов.
Сидя в приемной, Дерибас присматривался по своей привычке разглядывать людей к Поскребышеву, лысому человечку с совершенно стертым лицом. По внешнему виду – кладовщик или заведующий баней. Но было известно Дерибасу, что это непростой и очень влиятельный человек в окружении Сталина, почти незаменимый.
Поскребышев, поднявшись из-за стола, одернул форменную гимнастерку, по-военному засунув пальцы под ремень, убрал складки за спину, и отправился в кабинет докладывать, закрыл за собой дверь.
– Первый раз у Него? – благоговейным шепотом спросил Ежов, чуть расширяя веки и приподнимая брови.
– Да, не приходилось здесь бывать, – ответил Дерибас.
– Не робейте, не такой уж он и страшный! – тем же благоговейным шепотом подбодрил его Ежов. – А я уже не раз бывал у него, бывал! – скороговоркой произнес он с нескрываемой гордостью к своему возвышению и приближению к высшей власти, как если бы он тут был уже почти своим человеком.
Дерибас со своей проницательностью отметил, до какой же степени его новый начальник тщеславен и самолюбив. Неужели он такой наивный и самовлюбленный слепец, что не понимает, как это опасно?
Сидели с минуту в ожидании. Ежов – щупленький, узкоплечий, какой-то, казалось, невесомый, в новеньком мундире со значками наград и отличий по службе, поскрипывающий при всяком движении тела новенькими ремнями, с аккуратно и заботливо уложенными волосами на голове по пробору с левой стороны – казался Дерибасу каким-то игрушечным человечком. И Дерибас был уверен в том, что по утрам, бреясь и глядя в зеркало, он любовался собой, своим красивым, чернобровым лицом, напевая какую-нибудь арию из оперы.
Дверь открылась, и на пороге появился Поскребышев.
– Товарищ Сталин ждет вас, – произнес он, посторонившись, чтобы пропустить их в кабинет, но не выпуская из левой руки ручку двери.
Ежов мигом вскочил, как-то выдохнул, словно бы набираясь твердости для разговора со Сталиным, и пошел к дверям. Дерибас последовал за ним, наблюдательно отмечая про себя, что затянутый поясным ремнем едва ли не до «осиной» талии, Ежов сзади и ростом и статью был похож на подростка-гимназиста, которого неизвестно почему по-бутафорски вдруг нарядили в форму грозного ведомства.
В кабинете за длинным столом под зеленым сукном с многочисленными стульями сидел в одиночестве Молотов, который молча кивнул им в ответ на приветствие. У председателя Совнаркома была массивная голова и плоское, какое-то отвесное лицо, что резко бросалось в глаза, если глядеть на него в профиль (а он сидел боком к ним). Высокий лоб, нависающий над остальной частью его лица, был отличительной чертой его наружности. На носу умещались небольшие очки в тонкой оправе, казавшиеся крошечными на большой голове вдобавок к небольшим аккуратным усикам.
У стола, с дальнего его торца, стоял маленького роста человек кавказского происхождения лет под шестьдесят, с пышными усами, еще густоволосый, в сапогах и в скромном френче с накладными карманами. Он молча раскуривал трубку, глядя на вошедших. Это был Сталин. В ответ на почти одновременное приветствие прибывших «Здравствуйте, товарищ Сталин!», – тот молча кивнул им так же, как Молотов.
– Садитесь, товарищи. Вы товарищ Ежов садитесь вот сюда, – он указал рукой с трубкой на место рядом с Молотовым, а вы, товарищ Дерибас, садитесь напротив, – проговорил Сталин, в речи которого слышался заметный акцент, особенно когда он произносил «вы», а слышалось «ви».
Рассадив прибывших так, как ему, вероятно, было удобно, – Сталин прежде, чем начать разговор, стал расхаживать по кабинету. Вероятно, он обдумывал, с чего начать разговор с прибывшими гостями, хотя наверняка знал все заранее. А Дерибас, который сидел лицом к окнам, с интересом и любопытством чекиста рассматривал кабинет вождя.
Слева от двери со шторами, в которую они вошли, висела на стене картина с портретом Ленина, читающего газету (вероятно, «Правду»), в этом же углу, прямо под портретом, находился стол, на котором располагались два телефонных аппарата и стояли в стаканчике остриями вверх отточенные карандаши, чернильница, пресс-папье и какая-то раскрытая книга. Рядом со столом размещался стул, а напротив, через стол – кресло в кожаной обивке с деревянными подлокотниками, – вероятно, за этим столом Сталин работал, а в кресло садился кто-нибудь из приближенных для душевной, а может, и для деловой беседы. Там же, рядом со столом, по правую сторону, так, чтобы можно рукой дотянуться, стояла тумбочка, а на ней располагались еще два телефонных аппарата. Все окна, которых было числом четыре, были, по странности, узкие. Под одним из них стоял небольшой невысокий сейф. Правый угол от входной двери занимала печь – вероятно, остаток еще древних, царских времен, когда не было пароводяного отопления. И не было никаких видов, чтобы печью теперь пользовался хозяин кабинета. Было в кабинете еще двери, одна оказалась за спиной Дерибаса, рядом с которой висела большая карта СССР, а другая – напротив двери входной, у дальней стены, вероятно, там находились личные покои Сталина.
Молчание затягивалось.
– Какое в настоящее время положение на границе с Маньчжурией, товарищ Дерибас? – наконец-то, начал разговор Сталин.
Дерибас поднялся, чтобы отвечать на вопросы Сталина стоя, о чем загодя предупредил его Ежов, отодвинул за спину сбившийся на живот планшет, с которым Дерибас никогда не расставался, как и с оружием, даже ночью он укладывал планшет рядом по давно сложившейся революционной привычке.
– Оно остается неизменным уже в течении нескольких месяцев, товарищ Сталин, отвечал Дерибас. – Каких-то новых данных о сосредоточении или перемещениях японских частей не замечено в последнее время. Я полагаю, товарищ Сталин, что та работа по укреплению границ, проведенная в последнее время, и накопление наших частей в Дальневосточном крае сдерживает Японию.
– Считаете ли вы возможным в ближайшее время серьезные провокации японцев на наших границах?
– Провокаций на границе от них всегда можно ожидать, товарищ Сталин, но не думаю, что они решатся на крупные провокации, учитывая мобильную готовность наших частей.
– А каким самым уязвимым участком в настоящее время командование Дальневосточной армией и вы лично считает на границе с Маньчжурией, соприкасающимся с вражеской армией? – спросил Сталин. – И какими силами на этом участке располагает противник?
Дерибас открыл планшет, достал из него тетрадь и, листая ее, стал приводить данные о состоянии японских войск, сосредоточенных в Маньчжурии.
– Таким по-прежнему остается Приморский театр возможных военных действий, товарищ Сталин. В настоящее время из всех имеющихся у Японии 50 стрелковых дивизий, 12 кавалерийских бригад, 12 авиабригад и 12 тяжелых артполков на Приморском участке сосредоточены до 20 стрелковых дивизий и 2 дивизии морской пехоты, до 6 авиабригад и до 6 тяжелых артполков. Надо учесть и то, что по укомплектованности их дивизии превышают наши, в них не менее 15 и до 17 тысяч бойцов.
– Достаточно ли этих сил для широкомасштабного наступления на Приморье, если японцы вздумают развязать войну?
– Территориально Приморье невыгодно для нас расположено, товарищ Сталин, на суше мы наиболее уязвимы, несмотря на то, что в последнее время проделана огромная работа по созданию укрепрайонов. Но незащищенных участков еще достаточно из-за большой протяженности границы. Если японское командование сосредоточится целиком на этом направлении, противник может прорвать нашу оборону и вклиниться на нашу территорию с целью последующего окружения. Если война затянется, наше положение может сильно ухудшиться из-за малочисленности и плохого состояния наших дорог, которые к тому же не связаны в единую сеть. Особенно это касается автодороги от Хабаровска до Владивостока. У противника не будет никаких затруднений для обеспечения армии и поддержки ее тылом и вывозом раненых, снабжение армии продовольствием и горючим. Пользуясь случаем, товарищ Сталин, хотел бы донести до Политбюро необходимость скорейшего строительства нового цементного завода подальше от границы. Спасск-Дальний – единственный поставщик цемента на Дальнем Востоке, расположен слишком близко к границе и может быть в первые же дни разбомблен авиацией противника.
Сталин на какое-то время задумался, пройдясь от стола до дальнего окна, затем, вернулся к столу и обратился к Молотову:
– В каком месте Советское правительство наметило строительство на Дальнем Востоке нового цементного завода, товарищ Молотов?
– Для постройки цементного завода необходима его близость к месторождениям известняка. Такое разведано на Дальнем Востоке только вблизи населенного пункта Теплое озеро, товарищ Сталин. Его строительство включено в план ближайшей пятилетки, – ответил Молотов..
– Как близко этот населенный пункт расположен к границе с Маньчжурией, товарищ Дерибас?
– Около 30 километров, товарищ Сталин.
– В этом месте на советской границе выстроен надежный укрепрайон? Какими силами располагает здесь Япония?
– Укрепрайон достаточно надежен и не вызывает опасений, тем более что японцы располагают здесь значительно меньшими силами, чем на Приморском театре, товарищ Сталин, так как этот район не представляет для агрессора особого интереса. С дорогами и у них здесь плохо.
Сталин опять на какое-то время задумался, медленно прошелся от стола до дальнего окна, постоял у окна с минуту, пыхтя трубкой, а потом, вернувшись к столу, спросил:
– А в каком состоянии сейчас находится Благовещенский укрепрайон?
– В настоящее время Благовещенский погранотряд значительно увеличен, товарищ Сталин, а укрепрайон вдвое усилен и сейчас тоже не вызывает опасений. Кроме того, комкор Пашковский стратегически выгодно расположил свой корпус сразу за укрепрайоном. А концентрация японских войск в этом районе также на порядок меньше, чем на Приморском театре, товарищ Сталин.
– Это тот самый ваш укрепрайон, через границу которого прошедшей зимой прошла диверсионная группа, отбила куски бетона от дота, разбросала вражеские контрреволюционные листовки и ушла восвояси? – насмешливо спросил Молотов. – Хорошо же вы охраняете границу, товарищ Дерибас, если через нее свободно гуляют диверсанты!
– Группе диверсантов ночью можно просочиться через границу, если они хорошо знают местность. А они наверняка из бывших белых или местных эмигрантов и хорошо знали местность, – ответил ему Дерибас.
– И даже не удосужились ваши пограничники ни одного из них задержать, – так же насмешливо проговорил Молотов. – Диверсанты спокойно прошли, разбросали листовки, осмотрели доты, переночевали на нашей территории, в нашем доте, преспокойненько выпили, закусили и ушли назад. – А газеты белоэмигрантские, печатающиеся в Харбине, у вас там еще не распространяются свободно?
Дерибас молча проглотил этот язвительный укол Молотова.
– Кто в настоящее время является комендантом этого района, товарищ Дерибас? – спросил Сталин.
– До последнего времени комендантом этого района был комбриг Круглов, товарищ Сталин, – ответил Дерибас.
– Что касается Круглова, товарищ Сталин, то начальник Благовещенского укрепрайона в настоящее время арестован, – поднявшись с места, вмешался в разговор Ежов.
– Вот как? – спросил Сталин, и его брови вскинулись вверх. – В связи с чем арестован комбриг Круглов, товарищ Ежов? – Из-за халатности и беспечности?
– Нет, товарищ Сталин, на Круглова дали показания арестованные в Хабаровске военнослужащие. Я сейчас не имею возможности назвать их фамилии. Вместе с Кругловым также арестован комдив Балакирев и комдив Флоровский , а вчера арестован заместитель начальника разведуправления Дальневосточной армии Тарханов .
– А кто из военных Дальневосточной армии еще арестован, товарищ Ежов? – спросил Сталин.
Ежов достал из папки бумаги.
– Как вам уже известно, товарищ Сталин, арестованы комкор Лапин, комдив Сангурский, комдив Фирсов, комдив Дзыза , комдив Аронштам, комкор Чайковский, комбриг Кошелев. Ведется разработка еще множества других высокопоставленных должностных лиц из ОКДВА, и их аресты дело ближайших дней.
Помолчали. Сталин, нахмурившись, отправился в свое путешествие до дальнего окна, покуривая трубку. Там он постоял какое-то время, стоя боком к ним, глядя в окно и о чем-то, вероятно, размышляя. Затем, вернувшись, встал за спиной Ежова и Молотова и, глядя на Дерибаса в упор тяжелым взглядом, которого не мог вынести Дерибас, проговорил:
– Судя по всему, работа отправленных на Дальний Восток московских следователей приносит свои результаты, – подвел он итог своим размышлениям Сталин. – Вам известно, товарищ Дерибас об аресте этих высокопоставленных военнослужащих?
– Мне буквально на днях стало известно только об аресте Лапина, Кошелева, Фирсова, Аронштама и Дзызы, товарищ Сталин.
– Половина высшего командного состава вовлечена в заговор против Советской власти, а органы безопасности Дальневосточного края спят сном дальневосточного медведя. Как так получается, товарищ Дерибас? Если предатели Путна с Гамарником хозяйничали длительное время на Дальнем Востоке при полнейшем бездействии дальневосточных органов безопасности, можно ожидать, что они заложили крепкий фундамент для заговорщиков не только в дальневосточной армии, но и во все советских и партийных и организациях, на важнейших военных заводах и стройках.
– Я сейчас не имею возможности ответить на этот вопрос, товарищ Сталин, – ответил Дерибас.
У Сталина была манера, подчеркивая какую-то важную мысль, делая акцент на ней, встряхивать рукой, в которой он держал трубку.
– Вы уверены, товарищ Дерибас, в том, что не существует связи заграничных белоэмигрантских центров с антисоветским контрреволюционным подпольем в самой армии, в органах НКВД и во всех перечисленных организациях на Дальнем Востоке, действующих в связке с японскими разведслужбами для подготовки заговора против Советской власти?
Сталин остановился против Дерибаса и испытующе глядел на него своим тяжелым взглядом.
Дерибас на протяжении всего разговора со Сталиным ощущал какое-то напряжение, словно бы попал под какое-то магнетическое воздействие, невольно сковывавшее его, от чего он чувствовал немалое волнение, так что чувствовал, как шея его взмокла и почему-то давил воротник кителя. Это напряжение создавалось и поддерживалось и долгими паузами между его вопросами, и методическим расхаживанием Сталина, его неторопливостью, курением трубки, и, казалось, безучастным лицом Молотова, который сидел, положив руки на стол и сцепив их в замок, и не менее напряженным лицом Ежова, сидевшего окаменело, прямо, не смея даже отвалиться на спинку стула, а руки сложив на коленях. Но в особенности создавалось манерой Сталина подолгу стоять к ним боком или спиной, когда он расхаживал, доходил до дальнего окна, там останавливался и задумывался, очевидно, что-то решая или обдумывая очередной вопрос. И после этого следовал новый вопрос или какое-то уже взвешенное решение. И ум, и наблюдательность, и знание людей ясно сказали Дерибасу о том, что у Сталина все рассчитано, каждый жест, движение, походка, интонации голоса, паузы, эта нарочитая неспешность, даже медлительность, молчание, и вот это курение трубки, – все, все создавало и поддерживало напряжение, сковывавшее людей, парализующее их волю, что, вероятно, Сталин считал необходимым, и ему это удавалось. «Вся спина мокрая! Подавляет! Совершенно подавляет! Вот именно», – мимоходом думалось ему. – А чем подавляет? Авторитетом? Нет. Чем-то другим. Но чем? Тишина гробовая, голоса не повысил, неудовольствия своего не выказал, а совершенно подавил! Прикажи он сейчас мне раздеться догола, и я бы ни минуты не колебался». Должно быть, он основательно проработал немало книг, изучая психологию властелинов и их методы воздействия на толпу и ближайшее окружение».
– Если допустить возможность заговора, товарищ Сталин, – говорил Дерибас, преодолевая волнение, – то для этой цели заговорщики должны иметь многочисленных сторонников и важные посты в армии, на флоте, в военно-воздушных силах. И по возможности по всей стране, а не только в Дальневосточной армии.
– А разве аресты командного состава Дальневосточной армии ни о чем вам не говорят? Разве аресты Тухачевского, Уборевича, Якира, Гарькавого и других военных, занимавших главные должности в самых важнейших округах СССР, об этом не говорят? Нет, они об этом очень красноречиво говорят. Чем же тогда занимались на Дальнем Востоке органы безопасности? Не утратили ли вы там со своими сотрудниками большевистской революционной бдительности по отношению к заговорщикам, троцкистам и всевозможным врагам Советской власти, товарищ Дерибас?
– Я не имею сейчас возможности ответить на этот вопрос, товарищ Сталин. Аресты ответственных должностных лиц в дальневосточной армии прошли в мое отсутствие, я не знаком с протоколами их допросов и их показаниями. Отдельные аресты могут иметь место и быть основаны на недовольстве отдельных военных разными причинами и антисоветскими разговорами, а не о действительно реальном заговоре с реальными намерениями о свержении Советской власти.
– Вы уверены в этом? – спросил Сталин, нахмурившись.
– Уверен, товарищ Сталин. По крайней мере, был уверен до вызова меня в Москву. Меня нет на месте уже ровно месяц. Нашей агентурой и особым отделом армии не вскрыто ни одного факта, подтверждающего нелояльность комсостава дальневосточной армии Советской власти и лично вам, товарищ Сталин. В армии есть большое недовольство военных наркомом обороны Ворошиловым, вам это должно быть известно. Рассуждение военных о некомпетентности Ворошилова ни для кого не секрет, это досужие разговоры, но никак не основание для заговора. Им недовольны во всей армии, а не только в дальневосточной. Я не смею ставить под сомнение военные способности товарища Ворошилова, это не мое дело, товарищ Сталин.
– Вы читали стенограммы военного совета? – спросил он Дерибаса, все так же глядя на Дерибаса своим тяжелым взглядом.
– Конечно, читал, товарищ Сталин.
– Товарищ Мезис , выступая на военном совете, подчеркнул, что Гамарник в своих поездках на Дальний Восток уединялся и о чем-то подолгу разговаривал с предателем и заговорщиком бывшим командующим Приморской группой войск Дальневосточной армии Путна. О чем они могли подолгу говорить? Товарищ Мезис назвал эти их уединения «темными делишками». Что вы можете на это сказать? Ваша агентура не обратила своего внимания на особую близость Гамарника с Путна, контрразведка Киевского и Белорусского военных округов долгое время не обращала на особые отношения Гамарника с с Якиром и Уборевичем, на все тайные связи, которые были неизвестны вашей контрразведке и неизвестны Политбюро. Какую информацию они могли скрывать от Политбюро? Какие вести разговоры, минуя руководящих работников Дальневосточного края?
– Мне об этом ничего не известно, товарищ Сталин. Наша агентура и особый отдел ничего не увидели в этом сближении Гамарника с Путна.
– Вы как опытный чекист со своей стороны не уделили особого внимания Гамарнику, не обращали внимания на его отношения со своими подчиненными и другими ответственными работниками. И у вас, товарищ Дерибас, никогда не возникали подозрения о его нелояльности к Советской власти в последнее время, о его заговорщицких намерениях? Не замечали ли вы у него двурушничества? – задавал вопросы Сталин, все так же глядя на него в упор тяжелым взглядом.
– Гамарник десять месяцев жил в Москве, товарищ Сталин, на Дальний Восток он приезжал только на два месяца с инспекциями. И в Хабаровске он был нечастым гостем, а все время в разъездах. Никаких оснований подозревать его не было. Гамарник делал все, что было в его возможностях по укреплению армии, по строительству укрепрайонов, заботился о быте красноармейцев и офицеров…
– Вы ведь знали Гамарника давно, с вас, товарищ Дерибас, и особый спрос. Что вы можете об этом сказать?
– Самоубийство Гамарника для меня самая большая неожиданность, товарищ Сталин, – ответил Дерибас. – Я этот его поступок еще и до сих пор не могу осмыслить. Мы ведь с ним самые старослужащие на Дальнем Востоке. Но нас связывали только деловые, рабочие отношения. Товарищ Гамарник вообще человек закрытый, осторожный, к себе близко никого не подпускал. Я не знаю, как он жил и с кем был дружен в Москве, насколько Ян Борисович вообще мог быть с кем-нибудь дружен, но в Дальневосточном крае он никого не выделял, со всеми держался на почтительном расстоянии, оставаясь только в деловых отношениях. Вся информация, которая у нас собрана о Гамарника, известна нашему центральному руководству.
– Вся да, выходит, не вся! – бросил свое язвительное замечание Молотов.
– Политбюро должно знать все о своих ответственных руководящих сотрудниках, которым оно доверило важную работу на местах. Чекистская работа должна быть так поставлена, товарищ Дерибас, чтобы органы безопасности обладали всей информацией обо всех ответственных государственных служащих и их родственниках. Вот товарищ Ежов, наверное, и на меня, и на товарища Молотова собирает информацию и завел тайное досье.
– Никак нет, товарищ Сталин! – быстро отозвался Ежов, поднявшись с места.
– И правильно делает, если завел такое досье и собирает информацию, – снова продолжал Сталин, не обращая внимания на протест Ежова. – Какой же он тогда чекист, если у него нет тайного досье на всех партийных, советских и военных работников? И если он еще не завел тайного досье на членов Политбюро товарища Сталина и товарища Молотова, он просто обязан это сделать в ближайшее же время. Органы безопасности должны знать все и обо всех. А вы не предусмотрели, не окружили товарища Гамарника своими агентами в должной мере и ничего конкретного не можете сказать Политбюро о теневой стороне жизни Гамарника и его закулисной деятельности, товарищ Дерибас.
Дерибас молча проглотил этот упрек Сталина.
А вы, товарищ Ежов, что можете сказать о закулисной стороне жизни и заговорщицкой деятельности Гамарника?
– Гамарник по своим качествам и преданности Советской власти и высокой занимаемой должности долгое время был вне контроля наших органов, – поднявшись с места, отвечал Ежов. – Только в последнее время разоблачена его предательская деятельность. Это наш промах, товарищ Сталин.
– Если наши органы безопасности и в дальнейшем будут допускать такие промахи и долгое время ничего не знать о вражеской деятельности бывших ответственных работников, то Советская власть долго не продержится…А известно ли вам , товарищ Дерибас, о том, что арестован председатель Далькрайисполкома Крутов? – спросил Сталин, снова останавливаясь напротив Денрибаса и глядя на него своим непереносимым взглядом.
– Известно, товарищ Сталин.
– Что вы можете сказать по поводу его ареста и его закулисной вражеской деятельности?
– Мне ничего не известно о вражеской и закулисной деятельности председателя Далькрайисполкома Крутова, товарищ Сталин. – Товарищ Крутов проявил себя как принципиальный коммунист и ответственный работник, преданный партии и лично вам, товарищ Сталин. Он многое сделал для Дальневосточного края, его любят и уважают как товарищи по партии, так и простые жители Дальневосточного края, – ответил Дерибас.
Сталин поморщился при этих словах Дерибаса.
– Что вы можете сказать о том, что есть сведения о его близости к военным и подготовке и заговора против Советской власти. И, между прочим, за вашей спиной. – Он ткнул рукой с трубкой в сторону Дерибаса. – Значит, нити заговора проникли и в советские и в партийные учреждения Дальневосточного края и, скорее всего, на важнейшие заводы, на военные объекты и стройки.
Дерибас почувствовал, что спина его похолодела, и его бросило в пот. Это было серьезным обвинением. Но у него было достаточно самообладания, чтобы справиться с волнением.
– Руководство НКВД по Дальневосточному краю не располагает такими сведениями, товарищ Сталин, – отвечал Дерибас. – Наша агентура внедрена во все возможные партийные и советские, хозяйственные организации, во все подразделения армии и флота, в Амурскую флотилию, в Амурское речное пароходство. Никаких компрометирующих материалов на товарища Крутова у нас нет. Любые заговорщицкие настроения в армии и среди партийных руководителей были бы тотчас же известны руководству НКВД.
Сталин опять прошелся до окна и, вернувшись, неторопливо, как бы смягчившись, продолжил, обращаясь к Ежову и Дерибасу:
– Как же так получается, товарищи чекисты, что никто не знает, чем занимался вне служебного или в служебное время бывший начальник политуправления Красной армии? Как же у нас работают органы безопасности? Не понимаю. Вы, товарищ Дерибас, ничего не знаете о заговорщицкой деятельности Гамарника и Крутова, а органам безопасности Дальневосточного края ничего не известно о заговорщицкой деятельности высших его руководителей и половины высшего состава Дальневосточной армии? Вы, товарищ Дерибас и вы, товарищ Ежов, вместе с товарищем Фриновским ничего не знаете о предателе Гамарнике и его связях, отношениях с другими людьми, его занятиях, его личной жизни. Что это за личность такая таинственная, что органы безопасности ничего не могут сказать о ней Политбюро? Проглядели под своим носом злейшего врага. С кого же Политбюро при необходимости должно спросить в таком случае? Я не понимаю. Разбуди вас ночью, товарищ Дерибас и вас товарищ Ежов, и вы должны ответить Политбюро на любой вопрос, касающийся членов правительства, членов Политбюро, членов ЦК и других руководителей, членов их семей и ближайшем окружении. На любой вопрос (жест рукой с трубкой). Разве Политбюро не правильно излагает суть чекистской работы, товарищ Ежов?
– Абсолютно правильно, товарищ Сталин, – ответил Ежов, так же быстро поднявшись.
– Вот именно. В этом суть чекистской работы.
Сталин снова принялся расхаживать, покуривая свою трубку и, казалось, обдумывая какой-то очередной вопрос.
– А что там за пьяные сборища, которые устраивает на своей квартире в Хабаровске комкор Калмыков ? – неожиданно спросил Сталин. – Что это за музыкально-литературные вечера для военных? – В голосе его послышалось раздражение. – Чуть ли не весь Хабаровск на них собирается. Разве в Хабаровске военным негде собираться, как только у Калмыкова? Разве там нет Дома Красной армии, куда мы посылаем с концертами лучших артистов и музыкантов советской страны? – спросил Сталин, недобро прищурившись.
«Все знает, все ему известно!» – мелькнула у Дерибаса мысль.
– Я полагаю, товарищ Сталин, что не стоит этим калмыковским музыкальным вечерам придавать какое-то политическое значение. Люди культурные собираются в неофициальной обстановке… Песни, обычные, досужие разговоры, сплетни, выпивка.
– А не ведут ли в квартиру Калмыкова нити заговора дальневосточных военных?
– Наша агентура в армии работает и в квартире Калмыкова, товарищ Сталин, и ничего подозрительного не увидела и не услышала на этих вечерах, никаких разговоров, каких-то планов и действий возможного контрреволюционного подполья.
– Вы уверены в этом?
– Был уверен, товарищ Сталин.
– Может, ваша агентура уже перешла на сторону заговорщиков? – насмешливо спросил Молотов.
Дерибас позволил себе улыбнуться, но на этот вопрос уклонился от ответа.
– Как часто посещали эти сборища Блюхер и Гамарник? – спросил Сталин.
– Достоверно известно, что Гамарник никогда не посещал вечеринки у Калмыкова, а что касается Блюхера, то он дружен с Калмыковым еще с Гражданской войны, товарищ Сталин. Они знакомы еще по Уралу, по боям с Колчаком. Это старая, крепкая дружба, проверенная временем. Мне достоверно известно о том, что Блюхер бывал на калмыковских вечерах нечастым гостем. На этих вечеринках встречались люди, которых он не переносил.
Сталин замолчал, расхаживая, дошел до окна, долго стоял там, раскуривая потухшую трубку. Вернулся так же медлительно, встал за спиной Молотова и Ежова и посмотрел на Дерибаса, как показалось Дерибасу, уже другим взглядом, более мягким, и продолжил разговор:
– Политбюро вызвало вас не для того, чтобы отчитывать, товарищ Дерибас, Политбюро вызвало вас затем, чтобы указать вам на ваши упущения и недостатки, сложившиеся в вашей работе. Учитывая все эти недостатки, Политбюро вынуждено было отправить к вам на Дальний Восток группу опытных следователей и оперативных работников для исправления всех этих недостатков и упущений. Политбюро вызвало вас еще и для того, чтобы услышать от вас действительное положение дел на Дальнем Востоке во многих областях его хозяйственной жизни, политической обстановке и положению Красной армии на границе с Маньчжурией.
Сталин замолчал и снова прогулялся до окна и, вернувшись, продолжил:
– Скажите мне откровенно, товарищ Дерибас, как коммунист коммунисту, в насколько лояльно население приграничных районов по отношению к Советской власти в настоящее время? Как сейчас себя ведет советское крестьянство в этих округах? Говорите прямо, не преуменьшая возможной опасности для Советской власти.
– Отвечаю вам как коммунист коммунисту, товарищ Сталин. Население приграничных округов было сильно ущемлено нашей властью, тут скрывать нечего. Оно привыкло свободно пересекать границу в целях торговли, сбыта, товарообмена с населением Маньчжурии, везти оттуда товары, которых у нас недоставало, и до сих пор не хватает.
– И заниматься между делом контрабандой, торговать оружием, наркотиками, – язвительно вставил Молотов.
Дерибас пропустил этот вопрос мимо ушей.
– Дальневосточное крестьянство, как это вам, наверное, известно, пользовалось большими льготами при царском режиме, оно жило по большей части зажиточно, земли было достаточно. В бедняках числились вдовы, погорельцы и инвалиды. Иные хозяйства имели от двухсот до пятисот десятин земли. Малоземельных крестьян здесь не было. Закрытие границы и непродуманные, как уже это осознали краевые власти, чрезмерные налоги, конечно, вызвали острое недовольство населения, привыкшего жить свободными хозяевами, иметь свободный рынок сбыта. Считаю, что сплошная коллективизация именно в приграничных районах была поспешной и непродуманной. Советская власть вместо дружественного крестьянства и казачества получила мятежи и явного или скрытого врага, с которым была вынуждена бороться.
Сталин с каждым его словом хмурился все больше, Ежов застыл на месте, раскрыв глаза от ужаса.
– Мятежи крестьян в двадцатые и в тридцатые годы были и в Сибири и в Забайкалье, где также не было крепостного права и помещичьего землевладения, – заметил Молотов.
– Это так, товарищ Молотов, но далеко не во всех округах нам противостоит явный враг, готовый на нас напасть. В Сибири они не представляли такой опасности, как на дальневосточной границе, где кроме Японии нам противостоит еще и белоэмигрантский Харбин. – Дерибас достал из планшета свой журнал, полистал его, нашел нужную страницу и продолжил: – На Дальнем Востоке раскулачивание привело к ликвидации около 4000 тысяч хозяйств, выселено более 500 семей, по данным учета НКВД, многие крестьяне убежали за границу, сельское население значительно и неоправданно уменьшилось, приграничные районы сильно обезлюдели. В Амурской области самый приграничный Тамбовский район обезлюдел наполовину, на 30 тысяч человек, Молотовский – в три раза, Гродековский в Приморье – в два с половиной раза, Хорольский в Приморье – на 50%. А это все хлеб, товарищ Сталин, овес, фураж, это все могло бы быть надежной опорой Советской власти. Примеров достаточно. Настроение у крестьянства, не самое лучшее… Как кормить одну только армию в 500 тысяч едоков да плюс армию погранвойск и НКВД, да и город хочет кушать? Создание красноармейского колхозного корпуса в прошлом году с постройкой ферм, теплиц, казарм для бойцов и домиков для начсостава должно улучшить снабжение продовольствием армии, но всех вопросов не решит.
– Получается, что секретарь Амурского обкома товарищ Иванов в своих отчетах врал Политбюро? – спросил Сталин Молотова. – Самым бессовестным образом врал? Зачем? Выходит, и Крутов и Гамарник в своих отчетах тоже врали Политбюро? Почему так получается, товарищи? Никому верить нельзя, ни от кого правды не добьешься. Не понимаю. Как враги все действуют.
Сталин хмурился и мрачнел, Молотов молчал, а Ежов сидел, ни жив, ни мертв.
Сталин вышел из-за спин Молотова и Ежова, остановился на торце стола и обратился к Дерибасу спокойным, мягким тоном:
– Скажите товарищ Дерибас, не преуменьшая опасности для Советской власти, много ли сейчас еще остается в приграничных районах нелояльных к нашей власти крестьян и оставшихся казаков?
– Их достаточно, товарищ Сталин. Мне кажется, что для того, чтобы крестьянин окончательно встал на нашу сторону и был надежной опорой Советской власти на границе против возможного агрессора, хорошо было бы во всех приграничных районах разрешить сельскохозяйственные ярмарки для торговли излишками сельскохозяйственной продукцией и товарообменом. Это бы и стимулировало крестьян еще лучше трудиться. И разрешить крестьянам вывозить свою продукцию в города, открыть в них рынки или подобия ярмарок. Это в какой-то мере оживило бы обмен между городом и деревней. Отчасти это снизило бы контрабанду.
– То есть вы, товарищ Дерибас, предлагаете Советской власти ввести на Дальнем Востоке новый НЭП? – ядовито спросил Молотов. – Ваше мнение – это троцкистско-бухаринская отрыжка, и больше ничего.
– Я не знаю, как это называется, товарищ Молотов, но если речь идет о дружественности крестьянства в пограничных районах, то НЭП или как там его называют, на определенное время бы не помешал. Ведь вводил же его Ленин, и пошло на пользу. Наша власть непоколебима и сильна, но она удерживается у дальневосточных границ исключительно силой, товарищ Молотов.
– Какие могут быть излишки у колхозников? Они должны сдавать весь хлеб государству, – вставил новое язвительное замечание Молотов.
– Да, но есть единоличные хозяйства, в конце концов, у крестьян есть индивидуальные огороды и личные подворья, где они содержат скот, птицу. На трудодни крестьяне почти не получают денег, только натурой, зерном или картофелем, овощами и другой продукцией. А без денег даже в крестьянском хозяйстве никуда, товарищ Сталин.
– Разве ЦК и Политбюро, введя льготное налогообложение дальневосточных колхозов и единоличников, сделало это в недостаточной мере? – спросил Сталин.
– В недостаточной, товарищ Сталин, – повторил Дерибас. – Эти нововведения, мне кажется, сделало бы крестьян по отношению к нашей власти исключительно дружественным.
Сталин опять отправился в путешествие к дальней двери своего большого кабинета, встал у окна и погрузился в раздумье.
– Политбюро сейчас не имеет намерений пересматривать политику партии в отношении крестьянства, у него более насущные задачи, – подвел итог Сталин этому разговору, стоя у окна.
Наступила напряженное молчание, длилось оно, пожалуй, минуту-другую , но Дерибасу это молчание показалось вечностью. «На весах взвешивает, что со мной делать, нужен ли я еще ему? – проницательно думал Дерибас о своей дальнейшей участи. – Всех, каждого так взвешивает! Может, отпустит с миром, а может?.. А как не нужен буду, объявит и меня шпионом и врагом народа. Еще и до гостиницы не доберусь, а участь моя уже решится».
Наконец Сталин отошел от дальнего окна и медленно…рассчитано медленно приблизился к столу. «Вот сейчас все и скажет», – мелькнула у Дерибаса мысль.
– Политбюро готовило вам новое назначение на Украину вместо товарища Балицкого, но в связи со сложившейся обстановкой в стране и в Дальневосточном крае изменило свое решение. Возвращайтесь на Дальний Восток, товарищ Дерибас, – проговорил Сталин, давая понять этим, что разговор окончен. – Политбюро доверяет вам. И хорошенько разберитесь там у себя на Дальнем Востоке во всей сложившейся обстановке. И потрясите со своими работниками хорошенько тех, кто запятнал себя антисоветскими настроениями, а тем более враждебными намерениями. Хорошенько их потрясите! – прибавил он (жест рукой с трубкой). – Политбюро ждет от вас более решительных действий по борьбе со всяческими врагами народа.
Дерибас и Ежов вышли из приемной, где их уже ожидал дежурный офицер, чтобы препроводить их на выход, к тому месту, где они сдали оружие на хранение.
– Это хорошо, что товарищ Сталин доверяет вам, товарищ Дерибас,– говорил Ежов, забирая Дерибаса под руку, когда они шли по кремлевскому коридору. – Это очень хорошо! Постарайтесь оправдать его доверие, и мое тоже. Но вы были смелы, вы были отчаянно смелы! Я даже испугался за вас. Вы ему советовали, а это неосторожно, а я вас не предупредил, а он этого не любит. Ох, не любит, не любит! – скороговоркой повторил Ежов. – Но Сталин оценил вашу большевистскую прямоту и храбрость. Редко кто из наших сотрудников высказывается с такой нелицеприятной откровенностью.
– Почему же? Разве товарищу Сталину не известно действительное положение дел в приграничных районах и настроение крестьянства?
– В точности неизвестно так же, как при всеобщей коллективизации. Все и отовсюду врали. И теперь товарищ Сталин не имеет точной картины положения дел в отдаленных районах нашей большой страны. Он никому не верит, потому что ему опять все врут. Да-да, к сожалению, врут или сознательно дезинформируют! Секретарь Амурского обкома партии Иванов рисует одну картину положения крестьянско-колхозных дел в Приамурье, Крутов рисовал другую, Гамарник третью. А отправит он куда-нибудь Мехлиса, тот рисует картину вообще в аховом виде, как ему хочется. Вот он никому и не верит. У всех свои интересы представить картину в нужном им свете. Как будто у нас не одна и та же задача – не вводить в заблуждение и не лгать высшему руководству страны.
…Когда после аудиенции Ежов и Дерибас вышли из кабинета, Сталин раскурил трубку и с минуту-другую расхаживал по кабинету.
– Что Политбюро намерено делать с товарищем Дерибасом? – в своей манере спросил он Молотова, говоря свои мысли и соображения от имени Политбюро.
Молотов ответил, не колеблясь, словно бы ожидал этого вопроса и уже обдумал ответ:
– Следует дать ему месяц на исправление своей работы и посмотреть на ее результаты.
– Правильно, товарищ Молотов, – произнес Сталин, словно бы удовлетворенный ответом Молотова. – Правильно. Дадим ему месяц на испытание. Не будем спешить с его заменой. Пока не будем спешить давать ему новое назначение, – после паузы добавил он.
Добираясь на автомобиле до гостиницы, Дерибас думал: «Неужели Сталин такой наивный? Если он никому не верит, почему так безоговорочно верит в НКВД, верит следствию и такому пройдохе, как Ушаков (следствие по делу Тухачевского вел следователь Ушаков. Он узнал об этом в Управлении через своих людей). 22 мая Тухачевский был арестован, а уже 25 мая дал «признательные показания». Уж очень скоро. Это неспроста.). Но Сталин не наивен, он умен и хитер, хитрее и прозорливее всех. Может, люди в НКВД для него последняя опора, чтобы хоть как-то удержаться на плаву в океане неверия и недоверия? Двигать важными или менее важными фигурами из органов безопасности, вроде следователя Ушакова, в той комбинации, которую он замыслил? Почему заведомо записал Гамарника во враги и предатели, ведь он не был даже допрошен и на него дали только «признательные показания», далеко не очевидные? А на мертвого уже теперь можно все валить. Связь с Якиром и Путной, что вменялось Гамарнику как вражеские устремления и намерения, разве это факты для подозрения и ареста? Не шарахаться же Гамарнику от старых товарищей – Якира и Путны. Значит, Сталину так выгодно и нужно? Непонятно и странно».
И уже потом, в гостинице, Дерибас ожидал, что его арестуют. Быть может, с часу на час. Сталин никому не верит, по словам Ежова. Тем более верить ему нельзя. Чтение стенограмм военного совета многое сказало Дерибасу. В кошки-мышки играет с людьми, это в его манере – арестовывать людей, когда они в дороге, на перекладных. Даст новое назначение, обнадежит человека, тот отправится в дорогу, а тут его – цап! Якир арестован в поезде по дороге в Москву, к месту нового назначения, Уборевич арестован тоже в дороге, в поезде. Сангурского схватили на вокзале в городе Кирове. Прямо какая-то мания хватать людей на ходу, как будто они куда-то убегут. Зачем так делается? Что за иезуитство? Хватать человека прилюдно, на глазах у всех, человека военного, немолодого, при наградах и в большом звании, надевать наручники, конвоировать его? Это чтобы ударить по самолюбию, унизить, втоптать в грязь, сразу раздавить.
– Как прошла аудиенция, Терентий Дмитриевич? – спросил Дерибаса по возвращении его адъютант Соловьев.
– Хорошо прошла, возвращаемся домой. Собери-ка мне вещички по-походному: мыло, полотенца, белье, носки, расческу, помазок, бритву, сбегай вниз, папирос купи побольше, про запас, бумаги, карандашей, отточи их, – приказал он адъютанту. – Простой махорки купи пачек десять. Пожалуй, двадцать купи. Сложи все отдельно. В туристическом магазине купи рюкзак.
– Куда-нибудь собрались, Терентий Дмитриевич?
– Да, собрался…туда, куда добровольно не ходят.
– Не понял вас.
– Времена такие, что надо быть готовым ко всему.
– Разве вам грозит арест? – опешил адъютант.
– Всего можно ожидать.
– Да туда вы всегда успеете собраться! – с улыбкой произнес Соловьев.
– А если меня схватят, как Сангурского, на вокзале, на аэродроме или как Уборевича с Якиром – в поезде? Я тогда вещички свои не успею собрать, негде будет их взять. А рюкзак мне не помешает. Да, и еще вот что: свяжись с управлением, пусть узнают, летит ли в ближайшие дни транспортный на Дальний Восток, договорись, чтобы взяли на борт двоих, самолетом полетим, домой быстрей надо…Разузнай, куда летит, сколько и где дозаправки. И чтобы скоренько мне вещи собрал! Одна нога здесь – другая там.
– Будет исполнено, Терентий Дмитриевич, – без особого энтузиазма проговорил адъютант.
Адъютант был огорчен и разочарован этим решением своего начальника. Все-таки поезд для него – это рай, семь, а то и восемь дней отдыха, ничего не делать, пить пиво в ресторане, балагурить и ухаживать за хорошенькими пассажирками, словом, наслаждаться жизнью.
После аудиенции у Сталина Дерибас на другой же день 14 июня со своими адъютантом прибыли на автомобиле, предоставленным Ежовым, в Щелково, на военный аэродром в надежде улететь на Дальний Восток попутным «транспортником».
Перед взлетом один из пилотов принес им два овчинных тулупа и две пары валенок.
– Надевайте сейчас, еще до взлета, – предупредил он, – пока валенки не захолодели и портянки теплые, а то наверху дуба дадите. А это вам, – он достал из внутреннего кармана куртки фляжку, – для сугреву.
– Что там? – наивно спросил Соловьев.
– То, что надо для души! – смеясь, ответил пилот.
Во фляжке оказался чистый спирт, и они тут же выпили по глотку прямо из горлышка, без закуски.
И на аэродроме, а потом уже при посадках самолета на дозаправку первым делом Дерибас глядел в оконце: есть ли на летном поле автомобиль родного ведомства? «Вот теперь жизнь какая пошла…Все страхом охвачены, друг друга топят, боишься уже родного ведомства. Что дальше будет?» – невесело думалось ему. – Сейчас займется чисткой армии, а потом – чисткой НКВД, пройдет железной метлой по нашим рядам. Вот куда он шел, вот, что замыслил, назначая Ежова и говоря о врагах и бдительности на февральско-мартовском пленуме, а потом на совещании руководства НКВД».
В жизни высокопоставленных советских особ – партийных, армейских и других иногда случалось летать в Москву или обратно спецрейсом или попутным пассажиром в транспортном самолете. Транссиб на всей своей протяженности от Урала до Дальнего Востока наполовину или даже больше – однопутный. Если ехать на Дальний Восток поездом, то приходится ждать встречных поездов, чтобы пропустить их в западном направлении. Это долго, очень долго, от Москвы до Хабаровска даже экспрессом ехать не менее семи суток. Самолеты гражданской авиации по расписанию на Дальний Восток тогда еще не летали, только транспортная и военная авиация, на которой иной раз летали высокопоставленные чины НКВД и ВКП (б) и армейские чины, если надобность возникала прибыть в Москву срочно из таких отдаленных регионов. Лететь «транспортом», или «воинским» случайным попутчиком, без удобств, на каком-нибудь неприспособленном жестком сидении, в холодном промерзшем салоне самолета, дрожащим, вибрирующем, грохочущем, с многочисленными посадками и дозаправками, а нередко и с пересадками с ожиданием очередного попутного «транспортника», следующего из Сибири, например, еще куда-нибудь поближе к Хабаровску – это сутки с лишком чистого, летного времени. И ночевать черт знает где, в каком-нибудь захолустье, где ни буфета, ни гостиницы, ни удобств, к чему уже привыкла сложившаяся партийная и советская элита – в отдельных служебных вагонах, с музыкой из патефонов, с хорошими кушаниями, с выпивкой (а то и пьянками), с мягкими постелями, мягкими ковровыми дорожками в проходах, с услужливым персоналом. А то еще ночевать в аэропорту на жестком диванчике, не выезжая в город в гостиницу, и здесь дожидаться, когда прибудут пилоты, так как твердого расписания у «транспортников» не существовало. На это могло уйти от 3-х дней при благоприятном раскладе и до 6 дней при неблагоприятном. В транспортном самолете холодно в любое время года, салон не обогревается, нужны шуба, валенки (или унты), шапка, иначе околеешь так, что домой или в командировку не доберешься. Притом сидения жесткие, а то еще посадят где-нибудь на полу, на куче каких-нибудь тряпок или мешков, можно подремать и даже уснуть, если бы не холод. Ночью транспортная авиация старалась не летать по причине безопасности, так как многие принимающие аэродромы в Сибири и на Дальнем Востоке не были еще приспособлены для приема самолетов в ночное время.
Его «транспорт» летел в Новосибирск, а там – как получится. «Полпути преодолею, а там, если не будет попутного на Хабаровск или Владивосток, доберусь поездом. Главное – пересечь Урал и добраться до Сибири».
Дерибас торопился домой, в Хабаровск, к семье, спешил на работу, чтобы своими глазами увидеть и оценить все, что случилось в оставленном им Дальневосточном крае. А к неудобствам нелегкого путешествия он был человеком привычным, мотаясь за эти годы по лагерям и пограничным заставам. Из аэропорта отправил своей «рыбоньке» телеграмму о том, что вылетает из Москвы, только не указал дня, когда прибудет, так как предугадать, когда и в какое время он окажется в Хабаровске, было невозможно: улетал он не спецрейсом.
VII ПОСЛЕ МОСКВЫ
Только 18 июня Дерибас со своим адъютантом добрались до Хабаровска. Пока они добирался домой, в крае произошли важные изменения. Жена сообщила ему о том, что отозван назад в Москву Балицкий и арестован Миронов , и его уже нет в Хабаровске. В отзыве Балицкого назад, впрочем, ничего удивительного не было: если он, Дерибас, был возвращен Сталиным на место, значит, Балицкий отзывался назад. Но кто бы мог подумать, чтобы арестовали Миронова! Наверняка со дня на день и Балицкого арестуют, это уже ясно. Поистине, пути господни неисповедимы, как говаривал сам Миронов! Ни за что и ни за кого теперь нельзя ручаться. Каждый из них, чекистов, теперь не знает, что будет с ним завтра. И это только начало, – думал об этой новости Дерибас. – Пора бы, кажется, уже перестать удивляться, особенно после июньского военного совета и «специального судебного присутствия», но события все равно не переставали удивлять. Удивлять каждый день.
19 июня на следующий день после возвращения Дерибас был уже в Управлении и выслушивал доклад и все случившиеся за этот период новости своего заместителя Семена Кессельмана.
– Когда Миронов был арестован? – поинтересовался Дерибас у Кессельмана.
– В первых числах июня уехал поездом куда-то в Сибирский край, а на днях я узнал о том, что в Сибири он арестован. Балицкого и Миронова убрали, но все равно дела наши плохи, Терентий Дмитриевич, – жаловался ему Кессельман, – братец-то мой Арнольдов остался, и московская бригада хозяйничает везде, ногами двери открывают во все кабинеты, полным ходом идут аресты в ОКДВА, у пограничников, в Амурской флотилии.
– А кого из наших людей взяли? – спросил Дерибас.
– Еще в начале июня взяли Витковского , затем Шилова и Михеева. Перед самым вашим приездом, буквально вчера взяли начальника третьего отдела Ефимова . Всех исключили из партии.
– Час от часу не легче, – озадаченно проговорил Дерибас. – Шилов – блестящий разведчик, один из лучших в наших рядах, преданный Советской власти человек. В чем его подозревают арнольдовцы? Ты читал протоколы его допросов?
– Его сразу же этапировали в Москву в центральный аппарат, как и остальных наших людей. Из Москвы пришел запрос на их арест. Со слов моего братца мне известно, что их обвиняют в связях с «дальневосточным параллельным троцкистским центром», а Шилова еще обвиняют и в связях с японской разведкой.
– Ерунда какая-то, – поморщившись, сделал вывод Дерибас. – Какие там еще связи с японской разведкой! Кто это насочинял? Арестовываются лучшие наши люди. Если такими темпами пойдет, скоро уже работать будет некому, хоть караул кричи.
– Вы что-нибудь понимаете в том, что происходит, Терентий Дмитриевич? Я ничего не понимаю. Вы думаете, что все-таки был заговор, и мы с вами его проморгали? – спросил Кессельман.
– Моя жена, умная баба, говорила по этому поводу еще перед моим отъездом в Москву: «Если нет заговора, его нужно выдумать». Был или не был заговор, но Сталину нужен заговор, чтобы провести чистку в армии, в партии, избавиться от тех, кого он подозревает в нелояльности, или кому не доверяет. Ну, а всех остаьных устрашить. А как с делом Крутова?
– По нему был назначен вести следствие начальник СПО Сидоров. Он мне жаловался на то, что дело липовое, никаких компрометирующих материалов нет, арестован необоснованно. Он заявил об этом Арнольдову, тот на совещании дал ему нагоняй, отстранил от следствия и сам взялся вести следствие. В конце концов, выбили из Крутова показания о существовании заговора во всем Дальневосточном крае вроде с участием краевого, советского и партийного руководства и высших военных ОКДВА. По этим показаниям идут аресты по всему краю. Я каждый день получаю новости об арестах и в наших рядах и в армии.
– Знаем мы твоего братца, знаем, как он выбивает показания, – проговорил Дерибас.
– А что Блюхер? Почему он молчит в то время, когда идут аресты его комдивов и комкоров? – спросил повышенным тоном Кессельман. – Куда он смотрит? В Приморье даже батальонных комиссаров стали брать. И этим дело не кончится. Недавно, перед твоим приездом, взяли Балакирева, а Блюхер молчит.
– Молчит потому, что нет у него уже власти, как нет уже ее и у нас с тобой. Все аресты его комдивов и комкоров по положению утверждены самим Блюхером, подписаны им прежде, чем их утвердил Ворошилов. Блюхер взял под козырек перед Сталиным с Ворошиловым потому, что на военном совете Сталин поставил армию к стенке. Ты читал стенограммы военного совета?
– Так, просматривал…Задал Сталин генералам перцу, – ответил Кессельман.
– Вот именно! Для Сталина с Ворошиловым заговор в среде военных неопровержимо доказан следствием. Прежде, чем начать заседание военного совета, Сталин раздал всем присутствующим растиражированные признательные показания Тухачевского и остальных. Причем, если ты заметил, все признательные показания у арестованных высшего командного состава выбиты в главном направлении: заговор должен привести к поражению нашей армии в будущей войне с Германией.
– Да, эту мысль я уловил, – согласился с ним Кессельман.
– А эти признательные показания о пораженческих действиях заговорщиков выбиты, я в этом не сомневаюсь. Арестованный еще в тридцать шестом Путна молчал целый год, а в мае вдруг заговорил о заговоре во всей Красной армии. И Примаков вместе с ним заговорил об этом же. Я не читал их признательных показаний, не до этого было, но мне и так все стало ясно. Как же может Блюхер в этом случае защищать свою армию от арестов, если в рядах ОКДВА действуют заговорщики с пораженческими настроениями? Это было бы подозрительно, Семен Израилевич, сам понимаешь. Еще хорошо, что Блюхер уцелел, на него не показал никто из арестованных, значит, по мнению Сталина, в заговоре он не замешан. Вот он и утверждает все аресты в своей епархии.
– А вы видели Блюхера в Москве, говорили с ним? – спросил Кессельман.
– Я понял, что в эти дни с ним лучше не встречаться. Блюхер, прежде всего, потрясен самоубийством Гамарника. Я звонил Блюхеру в гостиницу, он был пьян, а ситуацию мне Кладько докладывал, что Блюхер был на квартире у Гамарника в тот же день, 31 мая, и Гамарник, наверное, все ему рассказал. О чем они говорили – можно только догадываться. Он ушел от него, а Гамарник через какое-то время вдруг застрелился. Перед этим, как тебе известно, его сняли со всех постов, уволили из армии, а накануне арестовали Осепяна, его заместителя. О чем тут можно говорить? Возможно, Гамарник с часу на час ждал ареста. Ясно, что Ян Борисович все просчитал, если бы он не застрелился, его бы взяли под рученьки белые и потащили на Лубянку…
Оба закурили, и какое-то время молчали.
– А на военном совете выяснилось, как доказанный факт, что Гамарник был вовлечен в заговор, – продолжил разговор Дерибас. – У Блюхера голова шла кругом, я его понимаю. Я в самолете, когда летел назад, все хорошенько обдумал, чего не додумал в Москве, и мне многое стало ясно.
– Неужели Блюхер и остальные военные поверили Сталину о заговоре в армии?
– А как тут не поверишь, если все обвиняемые признались в измене родине и в шпионаже?
– Что-то очень скоро с ними расправились, ведь никакого следствия толком не было. Арестовали – и через две недели на плаху. Признательные показания – это чепуха, – высказал свое предположение Кессельман.
– Ты прав, Семен Израилевич, все это очень мутно и вызывает множество вопросов. Ясно только одно: нужно готовиться к худшему. Судилище в Москве над Тухачевским и остальными, которое устроил Сталин, придумано для устрашения не только военных, а всех. Молчите – и не вмешивайтесь, поэтому Блюхер молчит, взял под козырек. Сейчас, Семен Израилевич, у всех у нас только одна забота: как бы самим уцелеть.
– Что вам Сталин сказал напоследок? – спросил Кессельман.
– Хорошенько разобраться в обстановке, сложившейся в Дальневосточном крае и как можно быстрее и жестче почистить его от врагов народа.
– Что теперь будем делать? – спросил Кессельман после некоторого молчания.
– Возьмем и мы под козырек, что еще остается? Против центра не попрешь. Сколь возможно будем тормозить крокодильи аппетиты Далькрайкома и московской бригады. Поэтому у нас с тобой одна забота сейчас – держать круговую оборону от этих голодных московских волков, которые будут пожирать людей поодиночке и скопом. А там и до нас доберутся, обвинят в том, что мы заговорщики, троцкисты, японские и германские шпионы и черт его знает, в чем еще только не обвинят.
Какое-то время опять помолчали. Кессельман курил, стоя у окна.
– Как краевой прокурор реагирует на аресты? – спросил Дерибас.
– Чернин в опале. Его еще в начале июня исключили из партии. Набросились на него в прокуратуре, как стая волков. Все перепуганы, жизни свои спасают. Аресты в армии и эти разговоры о заговоре вызвали переполох во всех структурах власти и похоже на то, что прокуратура края встала на колени перед ними.
– В чем его обвиняют?
– В либерализме, попустительстве, в политической слепоте и в связях с врагами народа, прежде всего, с Крутовым. Хотите, вот почитайте расшифрованную стенограмму партийного собрания.
Он вытащил из нагрудного кармана свернутые листки, развернул их, разгладил и, подойдя к столу, протянул листки Дерибасу.
Дерибас несколько минут смотрел стенограмму, переворачивая листки один за другим .
– Чернин снят с должности?
– Еще нет, но это дело ближайших дней.
– Кто на его место намечается?
– По-моему, Звягин.
Дерибас стал просматривать листки, затем, найдя нужное, стал вслух читать выступление Звягина на собрании на обсуждении личного персонального дела Чернина:
– …я неоднократно ставил перед Черниным вопрос и говорил ему, неужели у нас нет контрреволюционных и вредительских дел. А когда я выехал в Нижне-Амурскую область, то там нашел ряд контрреволюционеров. (при этих словах Дерибас саркастически усмехнулся). Прокуратура не все сделала, чтобы беспощадно бороться с врагами народа. Если Чернин после ареста его приятелей ни с кем при их допросах не разговаривал и не допрашивал, то это тоже не случайность. Я считаю, что когда Чернин говорил о случайных связях с врагами народа, то это неправильно, случайностью это назвать нельзя. Считаю, что Чернину не место в партии…
– Вот тоже мне Юлий Цезарь – приехал в Нижне-Амурскую область, увидел и нашел там врагов народа. Тоже мне ищейка! Это не его собачье дело! Куда он лезет, этот выскочка? Дело органов искать врагов, а не прокуратуре. Это партсобрание – приговор Чернину! Теперь и он пойдет под арест.
– Разумеется! – ответил Кессельман.
VIII ТЕРРОР ПРИБЛИЖАЕТСЯ
Утром 4 июля 1937 года, на другой день после возвращения из Приморья, (куда он отправился по случаю инцидента на границе с боевыми действиями с вторгшимися на советскую территорию японцами), Дерибас, придя на службу, был встречен известием от секретарши:
– Терентий Дмитриевич, шифрограммы из Москвы.
– Копии сделаны для Семена Израилевича?
– Так точно, – по-военному ответила секретарша.
Шифротелеграмм было две.
Распечатав первую за № П51/94, Дерибас прочел: «ЦК ВКП (б) предлагает всем секретарям областных, краевых организаций и всем областным, краевым и республиканским представителям НКВД взять на учет всех возвратившихся на родину кулаков и уголовников с тем, чтобы наиболее враждебные из них были немедленно арестованы и были расстреляны в порядке административного проведения их дел через тройки, а остальные менее активные, но все же враждебные были бы переписаны и высланы в районы по указанию НКВД. ЦК ВКП (б) предлагает в 5-дневный срок представить в ЦК состав троек, а также количество, подлежащее расстрелу, равно как и количество подлежащее высылке».
Разодрав скрепляющие листки края второй директивной телеграммы за №266/15545, он прочел и ее: «…Всем начальникам НКВД СССР. С получением сего возьмите на учет всех осевших в вашей области кулаков и уголовников, вернувшихся из мест отбытия наказания и бежавших из лагерей и ссылок. Всех учтенных кулаков и уголовников подразделите на две категории: первую – наиболее враждебные элементы подлежат аресту и расстрелу в порядке административного проведения их дел через тройку; вторую – менее активные, но все же враждебные элементы подлежат высылке в районы по указанию НКВД СССР.
К 8 июля телеграфом донесите мне количество лиц по 1 и 2 категориям с указанием отдельно кулаков и уголовников. О времени начала операции и порядке ее проведения указания дам дополнительно. Ежов».
«Ну, вот и началось, – подумал он. – И опять всех под одну гребенку. Для дальневосточных крестьян в приграничных округах нет исключений – только войной на них на полное истребление. Зря я там у него на приеме о крестьянах так распинался, только упрямо свою линию гнет, – думал он о Сталине и о предстоящей «операции».
Директива была подписана Ежовым, но отправителем являлся Фриновский. Вероятно, ему было поручено выполнение этой «операции». Ясное дело, что эти шифротелеграммы были разосланы по всем регионам СССР.
Москва требовала уложиться в пять дней. Понятно, что это было репетицией, подготовкой центра к чему-то большему, масштабному. И понятно, что уложиться в пять дней было немыслимо.
В этой же директиве говорилось и о подготовке мест массовых захоронений будущих казненных «антисоветских элементов».
Дерибас звонком вызвал секретаршу и попросил ее соединить с Кессельманом.
– Семен Израилевич, ты читал новые телеграммы из центра? – спросил он его.
– Только что прочел, вот размышляю, – ответил Кессельман.
– Что ты об этом думаешь?
– Хлопот теперь не оберешься, крови будет много. Будем готовиться к худшему.
– Ты вот что, Семен Израилевич, поручи кому-нибудь по данным имеющейся в НКВД картотеки составить списки всех, кто состоит на учете из вернувшихся из мест заключения кулаков и уголовников.
– По уголовникам надо в милицию запрос делать, они ведут полный учет, а по вернувшимся из мест заключения на законном основании и по бежавшим из ссылок и поселений кулакам никакого целенаправленного учета нет, – отвечал ему Кессельман. – Не все по возвращении встают на учет как положено, многие отсиживаются, прячутся…
– Значит, так: отправь в милицию запрос на уголовников, пусть дадут сведения по ним, а по кулакам, значит, поручи ответственному оперативнику, пусть соотнесется с райотделами, а там пусть оперативники прошерстят свои районы, возьмут всех на учет и составят списки.
Не прошло и пяти минут после окончания разговора, как секретарша, просунув голову в дверь, спросила:
– Товарищ Птуха звонит, соединить?
Птуха – второй секретарь Далькрайкома. Вероятно, первый секретарь Варейкис поручил Птухе отработать приказ из центра и заниматься составлением списков врагов народа. Поздоровавшись, Птуха сразу же начал с места в карьер:
– Довожу до вашего сведения, товарищ Дерибас, что Далькрайкомом получена директива из Москвы за подписью товарищей Сталина и Молотова о подготовке к проведению массовой операции по репрессированию антисоветских элементов. Нужно…
– Знаю-знаю об этом! – с нетерпеливо перебил его Дерибас. – Работаем над этим, работаем!
– Когда вы сможете составить списки и подать на просмотр и обсуждение Далькрайкомом? Центр отпустил нам всего пять дней.
Дерибас как старожил края, знавший его, что называется, вдоль и поперек, сам исходивший пешком не одну сотню километров, побывавший во всех его уголках, кроме севера, ненавидел и презирал всю на сегодняшний день сложившуюся руководящую партийную верхушку Дальневосточного края, его первых лиц – Варейкиса, но в особенности Птуху, которого он за глаза называл «птахой» – этих «бабочек-однодневок», услужливых выскочек, готовых сваливать все сегодняшние неудачи в делах на предшественников, отрицать их дела и вклад в строительство края и доносить, доносить, доносить: и на вышестоящих, и на всех подряд, упреждая свою персону от гнева Москвы и САМОГО.
– Сообщите в Москву, что в пять дней мы не уложимся, край у нас не с гулькин нос, они там этого не представляют, – ответил он Птухе.
– Сколько органы безопасности предполагают выдать центру списочного состава по кулакам и уголовникам для определения будущего лимита по категориям?
– А какое количество удовлетворило бы Далькрайком? – спросил он Птуху с большой долей яда в тоне.
– Тысячи три по первой категории и пять по второй, – ответил Птуха, не почувствовав ядовитого тона Дерибаса.
– У Далькрайкома аппетиты крокодильи товарищ Птаха, то есть, извините, товарищ Птуха, – тем же ядовитым тоном продолжал Дерибас (он намерено исказил его фамилию, чтобы уколоть второго секретаря). – На Дальнем Востоке с кулаками довольного туго, вам бы следовало историю края изучить, его освоения и заселения. А тех, кого в двадцать девятом и в тридцатом записали в кулаки, всех извели по «тройке», остальных рассеяли по лагерям.
– Но многие же вернулись и теперь ведут в своих местах проживания контрреволюционную и вредительскую деятельность!
– Безусловно, недовольство в целом у крестьян большое, у всего крестьянства, а не только у вернувшихся, тех, кого мы называем кулаками, я докладывал недавно об этом товарищу Сталину в том смысле, что мы пожинаем те плоды, которые посеяли. Но чтобы столько набрать по первой категории, товарищ Птуха, нужно и нас с вами вместе с товарищем Варейкисом, и всех далькрайкомовцев в списки зачислить, а остальных коммунистов по второй категории.
Птуха так не почувствовал в его тоне ядовитой иронии.
– А сколько по вашим предположениям есть в крае активных врагов народа из бывших кулаков, белых и прочих антисоветских элементов?
– А сколько в районах оперативники умудрятся накопытить, – ответил Дерибас тем же тоном.
– И еще, товарищ Дерибас, мы с товарищем Варейкисом посоветовались и решили, что «тройка» остается в прежнем составе: первый секретарь крайкома с заменой вторым секретарем, вы, как начальник УНКВД края с заменой вашим заместителем Западным и еще товарищ Федин, скорее всего, или кто-то из других крайкомовцев вместо исключенного из партии Чернина.
– Что ж остается в прежнем составе, так остается, пути господни неисповедимы.
– Что вы этим хотели сказать? – спросил Птуха с недоумением.
– Да так, к слову пришлось.
На этом разговор был окончен.
Но не успел он положить трубку, чтобы перекурить и осмыслить происходящее, как секретарша снова, просунув голову в дверь, сообщила:
– Краевой прокурор звонит, соединить?
– Соединяйте.
Прокурор Дальневосточного края Чернин, давний «соратник» по «тройке», был уже исключен из партии на собрании коммунистов прокуратуры и боролся за свое восстановление, подав протесты в городской комитет партии и в КПК (комитет партийного контроля), и еще не был автоматически уволен с работы.
– Поздравьте меня с новой должностью, Терентий Дмитриевич, поздоровавшись, первым делом произнес он саркастическим тоном.
– С какой? – удивленно спросил Дерибас. – Вы получили новое назначение? Поздравляю!
– Да, получил новое назначение, – тем же тоном иронии продолжал он, – должность свадебного генерала. Вся прокуратура получила это новое назначение, пора ее уже упразднять. Меня ознакомил товарищ Варейкис с новой директивой из центра.
– А, вот вы о чем! – сразу же догадался Дерибас о том, что первый секретарь Далькрайкома ознакомил краевого прокурора с новой шифровкой из центра.
– Как же так получается, Терентий Дмитриевич? Советская власть, которой скоро исполнится двадцать лет, дожила до такого позора, как аресты и судопроизводство по категориям? Начнутся аресты и суды по принадлежности к социальным группам, а не по содеянным преступлениям и даже не по компрометирующим материалам, а просто…за здорово живешь Советская власть будет избавляться от людей самым беззаконным образом! Да есть недовольные люди, их немало, но недовольство еще не является преступлением и основанием для ареста, товарищ Дерибас!
– Я вам на это ничего не могу ответить, Михаил Яковлевич, кроме того, что этот указ и то, что за ним последует, добавляет органам страшных хлопот и сплошной головной боли.
– А для чего же Советская власть шла к Конституции? Зачем мы торопились тогда ее принимать, если не уверены в результатах выборов наших людей? Зачем нам такая Конституция, когда государство сразу же грубо нарушает ее? – продолжал сыпать вопросами Чернин. – Приняв главный закон страны, Советская власть дала равные избирательные права бывшим белым, кулакам, церковникам, торговцам, царским чиновникам. А предоставив им по Конституции права, вдруг опять вспомнила о том, что они все бывшие, которых надо вычистить из советского общества. Гражданская война давно закончилась, главные враги вышвырнуты вон из страны и уничтожены. Я не согласен с товарищем Сталиным в том, что они никогда не врастут в социализм. Во-первых, наша власть не имеет права лишать тысячи людей права на жизнь, а во-вторых, нужно доказать преимущества нашего строя перед капиталистическим не насилием и расстрелами. Сейчас не война. Неправосудные методы и насилие не годятся. Мы спешим на выборы по будущим трупам людей.
