4 жизни и 2 казни. Книга 1, часть 2
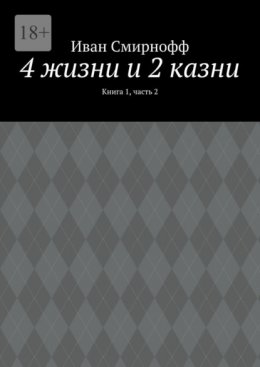
© Иван Смирнофф, 2025
ISBN 978-5-0065-2093-6 (т. 2)
ISBN 978-5-4493-5858-5
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
ЧЕТЫРЕ ЖИЗНИ И ДВЕ КАЗНИ
Часть II
Читателю
Автор, эмигрант из России, опирается в своей работе на имеющийся немаленький опыт жизни в современной России и в Европе, а также на архивные документы, ранее никогда не публиковавшиеся. Предлагаемое читателю сочинение состоит из двух книг, связанных общей и не самой значительной по объёму линией героев потустороннего Земного мира, совершающих путешествие, вмешивающихся в события нашего бренного мира и попадающих иногда под его влияние.
Книга I охватывает период с 1970-х по 2010-е гг.
Первая часть содержит описание жизни в современной России на основе биографий двух людей, Юрия и Юлии. Читатель видит обыденные ситуации в российской глубинке и столичных городах, показаны участие героев повествования в событиях, имеющих общественное значение, или их сопричастность к ним. К таковым относятся, в числе прочих, Чеченская война, Марш несогласных в 2007 г. и прочее. Юлия своим главным делом жизни считает яхтинг, и походы на яхтах дают читателю возможность понюхать солёного ветра морской романтики.
Вторая часть также описывает жизненные условия современной России на основе биографических данных двух людей, Емельяна и Алёны. Биография Емельяна связана с морем, путешествиями на парусном корабле, соответственно раскрыта и тема морской романтики. Главная героиня этой части влюбляется в женщину и имеет с ней отношения, одновременно наиболее резко входя в противоречие с действительностью современной России. Все четыре героя гибнут, вопросы о причинах неустроенности жизненного пути находят ответ во второй книге повествования.
Книга II основана на биографиях предков героев первой книги и связана с нею той же линией повествования о героях потустороннего мира. Двое из предков были казнены во время Большого террора в 1937—38 гг., что имело непоправимые и тяжёлые последствия для последующих поколений. Надо сказать, что эта третья часть представляет интерес не только как популярная или художественная литература, но и как имеющая значение для историков – в ней цитируются ещё никогда не публиковавшиеся материалы архивных дел относительно т. н. заговора Тухачевского. Из этих материалов можно сделать некоторые выводы, в т. ч. о том, что катастрофические карательные репрессии сталинизма имели своим ключом провокации агентуры глубинного оседания ВЧК-ОГПУ-НКВД.
Любые совпадения имён, названий и иных обстоятельств повествования являются случайностью, не имеют никакого значения для реальной жизни и не касаются живущих сегодня.
3.
– Емельян
Мы – рулевые, стоящие у компаса,
и должны смотреть только на стрелку,
и как бы привлекателен, как бы соблазнителен
ни был приветливый берег, но если по дороге к нему
есть подводные камни, то курс мы будем держать стороною…
Пётр Столыпин
Сибирь.
Мои родители жили в те годы в сибирских посёлочках с такими причудливыми названиями – Ванзеват, Ванзетур. Я практически ничего не помню о том времени, какие-то смутные образы всплывают в сознании. Наверное, некоторые важные вещи тогда уже были заложены в него, а может быть, и в подсознание.
«Ох какая ж ты недобрая и неласковая! Альпинистка моя! Скалолазка моя!» – песня играющей пластинки окончательно выводит меня из относительно спокойного состояния, я езжу на трёхколёсном велосипеде, который мне кажется огромным, кругами, тоже, конечно, огромными, по комнате. «Скала-лала-лала-лала-ласка!» – вероятно одно из первых сложных выученных мною слов, что-то такое я выкрикивал нарезая круги на своём стальном коне. В окна комнаты между тем светит тусклый сибирский зимний день.
Вы наверняка знаете это ощущение детского внезапно возникающего восторга, когда 3-4-летний ребёнок начинает как переполошенный бегать, носиться, прыгать. Что-то подобное произошло со мною и в тот раз.
Несколько позже, уже более спокойно, мы о чём-то разговаривали с сестрой, вернее, я учился разговаривать, с пластинки лилась волшебная сказочная музыка, которая тоже врезалась мне с тех пор в память на всю жизнь: «Много неясного в странной стране! Можно запутаться и заблудиться…» Потом пришла наша мама, и они с сестрой о чём-то разговаривали, кажется, о том, что я выучил ещё какие-то новые слова в тот день. Так начинался жизненный путь моей души в этом телесном мире.
Хорошо помню ещё белый-белый сугробистый снег, его скрип под ногами, наверно это было впервые так в моей жизни, что я сам топтал ножками этот вот белый снег. Ухо привыкало к новому звуку – скрипу снега.
Помню, мы возвращались как-то откуда-то с отцом уже вечером, было темно, в первый раз у меня было ощущение, что кругом, в удаляющейся белесой зимней темноте, в отдалённых чернеющих силуэтах леса или далёких домов находится чужая холодная Вселенная, что наш мирок – это вот мы двое, мой отец и я.
Мы идём по железнодорожному полотну, вдали видны огоньки, как мне кажется, огоньки не то каких-то преследующих нас страшных существ, не то поездов, хоть я и маленький и ничего ещё толком понять не могу, тем не менее, возникает беспокойство, почти переходящее в страх, что нас догонит и может задавить паровоз, и не надо бы нам идти по железной дороге. Свои ощущения я сообщаю отцу. Он отвечает, говорит, чтобы я не боялся, поезд ещё далеко, мы можем спокойно идти по дороге. Мы продолжаем наш путь, беспокойство, тем не менее, ещё остаётся у меня некоторое время.
Дома горит свет, вода уже приготовлена, мне предстоит купание. Это дело я страшно не любил, и если от света и тепла натопленного дома было ощущение уюта и спокойствия, то от перспективы предстоящего омовения было совсем не по себе. Тем не менее, родители это мероприятие осуществили, не смотря на мои отчаянные и слёзные протесты. После этой «экзекуции» я перемещаюсь в комнату, под одеяло, черно-серое, рубчатое, толстое, с бахромой по краям, оно ещё долго будет у нас дома – в разных квартирах и общежитиях, которых мы сменим ещё немало. Тепло, темно и уютно, через щель прикрытой двери ещё доносятся звуки какой-то деятельности на кухне, в щёлке света мелькают время от времени тени. Потихоньку я засыпаю.
Как-то дома я во что-то упоенно играл, и моё внимание привлёк непонятно откуда взявшийся паровозик. Чёрный, с колёсиками, трубой, кабинкой, смотрелся он замечательно, таких игрушек ещё не доводилось видеть. Он казался настоящим произведением искусства. Рядом ввысь уходили необозримые массы шкафов, на их полках были составлены книги, пластинки, что-то ещё, мне тогда неведомое, но огромное. Тогда сестра и отец мне что-то объяснили, что точно уже не помню.
А паровозик был маленький, и это не он меня мог бы задавить, а я его. И вообще был день, было светло и никакого беспокойства не возникало.
На рыбалке
Мы тогда были в Новосибирске, погодка выдалась в те выходные что надо, если уж не Божественная, то Божеская – солнышко, тепло, вот мы и выбрались с нашими гостеприимцами на рыбалку. Никогда я не был рыбаком, ни тогда, ни сейчас ещё по сию пору. А желание есть. Когда-нибудь сбудется. Где-нибудь.
До места мы добрались на машине, ехала с нами собачка, тощенькая, худенькая, маленькая, ножки-спички, глазки навыкат, вероятно тойтерьер. Вот только не припомню я, чтобы ушки у неё были вислые, нет они были стоячие. Был это добрый, общительный пёсик, живой, любознательный.
Когда мы приехали, то он так и ожил, забегал по салону, радостно заметался. И как-то в этой суете, в разговорах, которые возникают обычно сразу на новом месте, не обратил никто внимания на то, что из леса выходил человек, может грибник, с собакой. У него был большой пёс – немецкая овчарка. Не на поводке. Вот дверь открывается и наша крошка кидается вперёд – не помню уже с лаем или с дружелюбными намерениями, но очень быстро, быстрее пули. Что там далее произошло, не успел никто толком разглядеть. Помню только мелькавшую с добычей морду овчарки. Добычей был наш пёсик… Он мотался из стороны в сторону, совсем так, как это бывает с кошками, которых давят псы в припадке охотничьего азарта и зверской ярости. Мы бросились к месту трагедии. Хозяин овчарки оттащил своего пса. Было слишком поздно: наш тойчик с мутными глазами еле стоял на ногах, недруг вспорол ему брюхо… Склизкие кишки рваной лентой тянулись из живота наружу. На траву… Все были в шоке.
Хозяин овчарки извинялся, переживал, наши говорили, что во дворе пёсик всегда со всеми собаками был дружен, привык к тому, что с собаками он нормально всегда общался. Взрослые о чём-то ещё говорили, а мы, я и сын наших гостеприимцев, лет семи-восьми, были немного поодаль, разумеется до слёз было обидно и жаль нашего пёсика. Он ещё пару часов жил. Было уже невозможно что-то сделать: его прикрыли фуфайкой, которая оказалась в машине, он умирал ещё час-полтора. Страшная, мучительная смерть. Не всякому врагу такое пожелаешь.
Мы рыбачили, само собой, все были подавлены, долго мрачно молчали, отрывисто переговаривались, нас, детей, старались как-то чем-то отвлечь от страшного события. Мой товарищ сказал мне тогда, что он не должен видеть его, их пёсика, Карло, не должен думать сильно много о нём. И объяснил почему – чтобы не расстроиться ещё больше.
Там же в лесу и похоронили тогда весёлого пёсика. На могилке стоял вырубленный из деревца крест с надписью «Карло». Карло отправился в невиданный путь, глядя на нас суетных из своего нового мира спокойно и уверенно, летя быстрее света и в то же время неспешно и обстоятельно вспоминая свою дорогу жизни. Его примут в стаю гордых Симарглов.
У нас на рыбалке тогда выдались караси, наловили мы их действительно много. Дома мы ели их со сметаной. Было это впервые в моей жизни, караси со сметаной.
В тот же самый день мне приснился сон, который позднее временами повторялся. По коридору идёт человек, вернее, его ведут конвойные, а рядом идёт белый Единорог, никому его не видно, только мне и ведомому. Единорог похрапывает и переступает копытами по полу, заглядывает сбоку человеку в глаза. Оба они знают, что сейчас произойдёт. Единорог нашёптывает: «В годину смуты и разврата не осудите братья брата». Раздаётся грохот, и далее куда-то во вселенскую вечность уходит только один Единорог, человека более нету.
Перелом
На улице печёт солнце, нещадно, по-летнему и знойно. Я иду за квасом. Жёлтая пузатая бочка, у которой никого особо и не видно. Вернее, не видно вообще во дворах детворы, вот что необычно. Смели их прочь поляхи, полудницы, полевики да полудники, устроив себе раздолье для шабаша? Но откуда им взяться среди асфальтовых полей города, если только налётом, они уже давно беспризорные. Совсем недавно ещё каждый день в это время бегали по городу все мы с самодельными луками и стрелами, все посмотрели по телевизору «Робин Гуда» многосерийный фильм производства Великобритании. Музыка из этого фильма тогда нам очень нравилась, звучала она необычно. Записали мы её на магнитофон, на кассету. Был у нас магнитофончик, «Соната-211».
Луки и стрелы массово изымали у нас тогда общественные активистки (помню хорошо одну, Кутузову, она нам читала лекции по политинформации, о происках ЦРУ и тлетворном влиянии Запада, а почти сразу же после перелома вслед за дочерью уехала в Канаду) – было обидно, такие произведения искусства имелись у пацанвы на руках, и всё это богатство пошло на слом, в мусор. В общем, как-то пресекли эту нашу тогдашнюю повальную «моду» на Робин Гудов, в принципе и правильно – некоторые виды нашего дальнобойного оружия были действительно опасны для жизни и здоровья.
Теперь вот возвращаюсь с бидоном кваса назад, домой, по опустевшим улицам. Но стоп-стоп-стоп, обычно на улицах всегда именно в это время было достаточно шумно и людно именно от детворы. А тут никого. И вдруг я понимаю ПОЧЕМУ: сразу добавляю ходу-ходу-ходу, скорее домой. Причина «великой тиши» – показ американских мультиков, их тогда регулярно в районе пяти-шести часов вечера показывали, «Скрудж Мак-Дак», «Чип и Дейл», «Чудеса на виражах». Все мы их смотрели тогда, как заворожённые. Такое было недоступно раньше, смотреть это было приятно и тянуло опять и опять увидеть очередную серию приключений отважных хомячков и бодрых гусей. Это как кока-кола или жвачка в цветной обёртке, как белые кроссовки, массово появившиеся в обиходе в те годы, – легко и приятно. Это символы красивой и лёгкой жизни. Да, а видеомагнитофон – это был вообще тогда предел мечт. И уж совсем круто было «Звёздные войны» посмотреть, крутили их полулегально крутые же кооператоры по видеосалонам.
Нет, пожалуй, ещё и иномарка, из Японии их тогда начали массово возить, их стало всё больше и больше на улицах, даже первые тогдашние в Союзе джипы, жёлтые «Ниссан Патрол», мелькали они в потоках машин. В одной комсомольской газете тогда попалась мне новость: задержан житель Кавказа с крупной суммой наличных денег, 400000 рублей (тогда это в голове как-то не очень укладывалось – у человека в СССР такие деньжищи, оказывается, могут иметься). Органы милиции выясняют откуда у него такая крупная сумма денег. Со слов задержанного он ехал на Дальний Восток для приобретения иномарки.
Кто-то уже тогда в конце 80-х годов понял всё, понял, чем дело пахнет. Из нашего городишки семья одного нашего приятеля уже тогда эмигрировала в США. Это казалось невообразимым пределом мечт: вот кому крупно повезло в жизни, уж он-то наверняка попал в рай, он конечно же был в наших глазах идеалом самого успешного, удачливого и везучего молодого человека.
Что такое парусник для человека?
Доводилось ли Вам когда-нибудь ходить под парусом? Если нет, то советую попробовать это дело. Если это «Ваше», то Вы найдёте под парусами свежий ветер, яркое солнце, морской простор, дальние страны, необычных людей, романтику – и ещё что-то. Сложно это описать словами. Заманивают ли русалки своими неслышными пениями или влекут с собою берегини в дальний путь, но нас таких глотателей широт немало. Пожалуй, великий поэт правильно определил это нечто встречей безмерности мечты с предельностью морей. Когда-то и я решил поискать мечтательную безмерность в морских пределах.
Справедливо будет сказать, что если главная сила не в учреждении, а в людях, то и корабль силён людьми. А люди были на корабле очень разные: интересные и серые, тщеславные и умные, честные и великодушные, добродушные и учтивые, завистливые и щедрые, скаредные и хитрые, наглые и злобные, глупые и внимательные, светлые и добрые. Я и сам был иногда одним, иногда другим. В одном я уверен: на палубе, под парусами есть настоящая жизнь.
Если Вам тяжко, если на жизненном горизонте не маячит ничего хорошего или маячит только что-то нехорошее, то попробуйте сходить в моря. Когда-то я так же для себя решил и не жалею о том.
- Питер-Калининград.
- Ремонт.
Наш корабль выходит сегодня из Питера. Наконец-то. Сколько раз откладывали дату. Дождались льда. Теперь приходится вот идти следом за ледоколом, который прорезает нам путь. На руле стоит Ник, матрос с приличным опытом рулевого. Мы были заняты на швартовке. Вдруг второй помощник капитана вызывает меня с палубы, по его тону понимаю – что-то неординарное происходит. Действительно, он и учебный помощник, Марио, нервно объясняют мне, что старший боцман, Слон, никакой. Идея их такова: я его должен бы успокоить и проводить в каюту. Для меня, новичка в экипаже, эта мысль кажется провокационной. Видимо, она исходит от капитана.
Слон стоит, опёршись о переборку коридора, в проходе клинкетной двери, его голова мотыляется из стороны в сторону, глазки туповато смотрят в пол, иногда – хитровато по сторонам. Командиров беспокоит то, что его голова постоянно мелькает у стальной двери клинкетки. Говорят, что когда-то курсант во время автоматического закрытия дверей хотел проскочить через дверь и не успел – его голова «застряла», прижатая дверью. Он остановил эту дверь, есть там рычажок тормоза, его отправили на лечение, но говорят, что с головой у него после этого инцидента было совсем не всё в порядке. Физических мер к Слону применять не пришлось, он поддаётся словесным уговорам и фактически сам отправляется в каюту. Я возвращаюсь на палубу.
Мы движемся на выход из северной столицы.
Прощай, Петербург! Следующий порт нашего захода – Калининград, «сухопутный авианосец» на Балтике.
После вахты обед – и на боковую, подводные лодки слушать. Моментально проваливаюсь в иной мир, где Сирин заливается трелями и я слышу его песню: «…а я смотрю в окно, скучаю без тебя. Люблю ли я тебя или нет – ищу в душе своей ответ». Эта песня забудется, если я не скажу себе прямо сейчас – запомни. Я запомнил, я её запишу, когда проснусь. Птица взлетает, испуганная грохочущим топотом тысяч ног – слоны и носороги продолжают свой неистовый танец, в такт немудрёному ритму вытаптывая поля и луга. От них в ужасе разбегаются во все стороны житные и зализные, межевики, поляхи, луговики и полевики. На самом крупном слоне сидит краснорожий упырь, вцепившись в его мотыляющиеся во все стороны уши-лопухи. Звон колокольный настораживает всё стадо слонов и носорогов, они разом и недоумённо смотрят в сторону. Упырь этим недоволен. Но звон не прекращается, я протягиваю руку в сторону, нащупываю мой телефон и выключаю на нём будильник. Встаю с кровати и собираюсь на вахту.
Погодка выдалась свежая, мы «ехали» все эти несколько дней по «неровной дороге». Вахты текли своим чередом. В ночные вахты я выходил на десять-пятнадцать минут загодя – подышать воздухом да сон согнать.
Смена вахты. Заданный курс, нулевое положение, вахту принял. Рулежка. Вахтенный смотрит временами на радары, АИС. В рубку, несмотря на закрытые двери, пробивается запах жжёной солярки – выхлопные газы выходят по бортам, носовее рубки, и встречные потоки ветра впрессовывают их в рулевую рубку. Пьём чай. В ночные вахты ещё бывали бутерброды для нас. Вот подходит к концу вахта, вахтенный меняет меня на руле, я иду вымыть кружки, вытряхнуть пепельницу и затем готовлю чайник, вода вскипает, четыре часа миновало. Приходит смена: заданный курс, нулевое положение. Вахту сдал, вахту принял. Разрешение вахтенного покинуть рубку. После ночной вахты, вахты грота, сразу спатиньки.
В этот раз из уст птицы Гамаюн льётся игривая песня: «Встречу я тебя, любовь моя, да поцелую крепко, и с тобой вдвоём пойдём гулять в наш дивный летний вечер!» Перерыв между ходовыми вахтами 8 часов, за это время надо отоспать своё, поесть, умыться, помыться, уладить стирально-побривальные дела.
Старшего боцмана за всё время нашего пути не видно и не слышно было. Позже он упомянул, что за его выходку при отходе получил внушение от капитана и указание всю «дорогу» заниматься мытьём клозетов и прочих мест общего и частного пользования. Раз он ко мне подплыл с «просьбой» помочь ему – надо было расставить обратно в салоне капитана убранные по-походному сувениры. Я не злопамятный и не люблю отыгрываться на людях за прошлое, взял да помог ему. Только вот Слон не из таких, шаги навстречу в памяти у него не откладываются.
Про Калининград всю «дорогу» ходили нехорошие слухи – тамошние пограничники и прочие полицейские учреждения особенно любят чего-нибудь на лапку вымогать. Это всё заботы не моего заведования. Комиссия при входе в порт наносит визиты к капитану.
В док мы входили на буксирах. Вот парусный мастер заметался на юте. Расторопность производит впечатление, так и делается всё на военных кораблях, а он из бывших военных. Бегает так, что не всякий курсант такую прыть способен проявить. Локтями отталкивает меня в сторону от кнехта – «иди отсюда!» – обязательно сам хочет везде поспеть. Он тоже новый человек в экипаже и старается протолкнуться вперёд. Не знаю уж, что ему про меня напели, но ко мне у него стойкое отвращение. Ладно, дорогой вы мой, шустрите. Я под чужие дудки плясать не намерен. Вот он заводит буксирный конец на кнехт, потом спешно переговаривается о чём-то с радиоинженером, старым парусником, который расписан тоже на ют, и так же стремглав перекидывает шлаги на кнехте. Предполагаемый результат – распределить шлаги на два кнехта. Только вот он на кормовой кнехт столько же шлагов наметал, сколько и на носовой. Вообще-то по правилам в этом случае положено на кормовой один-два шлага накинуть, а на носовой – уже все остальные, тогда тяга буксира будет равномерно распределяться на оба кнехта. А так толку от его суеты – ноль, тяга по-прежнему рвёт только кормовой пад кнехта. Но он зарабатывает авторитет и хочет здесь сделать карьеру. Вот и блещет познаниями в морской практике. По-русски говоря, пускает пыль в глаза. У меня такого желания нет, если есть возможность, я «курю», как и положено «ленивому» матросу. Мне такие игрища ни к чему. Далее продолжал он в том же духе, швартовки с его участием были небезопасны, все эти метания по палубе с криками не способствовали рабочей атмосфере.
***
В доке мы стояли месяца три-четыре. Основным мероприятием была замена фекальной установки. Новую заказали в Польше – удобно, под боком. Были ещё по мелочи залатки-ремонты. Мы починяли двери, подкрашивали рубку и вообще всё, что можно.
Вахты тянулись своим чередом. В какой-то момент стукнули холода. А капитан-то, действительно, жлобистый: валенки вахтенным матросам он покупать очень не хотел. Ник, матрос из Питера, нашёл в этом очередной повод для бунтарских заявлений, в меру возможностей я его поддерживал в выступлениях против наших скаредных начальничков. Как и следовало ожидать, парусный мастер остался в стороне: нельзя же самому себе портить карьерне перспективы. В этом нашем с Ником случае предприятие увенчалось успехом – капитан Г. выделил деньги из кассы на эти несчастные валенки, и в холода мы были как-то обувью обеспечены. Были у нас ещё и другие стычки с дорогими нашими начальничками – по поводу вахтенного расписания, например. Если я в основном поддерживал Ника, может быть, не всегда деятельно, то парусный мастер, как бывший военный, «привышный» к выслуживанию, никогда своего голоса не подавал, мнения по поводу климата в палубной команде не выражал, а старался протереться наверх, подыгрывая старшему боцману или помалкивая в его присутствии. Временами однако ж он нам что-то подсказывал, что-то супротив слоновьих идей. В целом эта наметившаяся конкуренция между Слоном и парусным не предполагала положительного разрешения, когда-нибудь она должна была привести их обоих к открытому препирательству. А пока что они играли в основном роли крутых мореманов, стараясь не задевать друг друга, но по поводу и без повода пеняя время от времени нам, матросам.
Вообще, в Калининград никто из экипажа не стремился, все хотели отсидеться в отпусках да на больничных. Был один кадр из механиков, который после Нового года упал «с сердечком» – ежу было понятно, что он разыгрывает комедию, отсиделся товарищ, теперь вот пришло ему предложение на выгодный контракт, надо было срочно рвать когти из этой дырени, потому и сказался он болезным не в мочь. Отпустили сердечного. Сейчас он, может быть, где-нибудь Атлантику на железной коробке пересекает. С Самары он, механик, на Новый год после официальной вечеринки, выпивали мы у него водку, хвалёную «Зелёную марку». С неё ли или ещё с чего, но на следующий день меня очень капитально воротило наизнанку.
С работягами на доке у меня нормальные отношения сложились. Сам когда-то доковым работал, знаю работёнку эту. Десять дней корабль в доке стоял, а это значит, что никакого водоснабжения не было. Т. е., например, надо было бегать с корабля по сходням в ближайший туалет на доке. Я Слону предлагал, чтобы он договорился с доковыми насчёт сауны, а там она была, да чтобы мы хоть туда на помывку ходили. Ни в какую. Ни сам он не мылся все эти десять дней, ни людям ничего не организовал. Я сам с доковым механиком Анатольичем договорился, ходил в сауну тогда да и позже, когда уже у нас душевые работали, по желанию. Всего-то делов было – бутылку старшему механику поставить. И то он от неё отказывался.
***
Мы стоим на палубе, Слон вещает некую баечку. Я её слушал не сначала, подошёл уже после затравки разговора.
Суть его истории следующая, и по этой истории у меня лично масса вопросов возникает. Из его слов следовало, что «как это у нас обычно бывает» (у кого у нас? – ты же ответственный за палубные работы, значит у тебя конкретно!) всё скорее, скорее надо делать, и отправили (кто конкретно отправил?) курсанта на штаг, без обвязки, т. е. страховочного ремня. Высота – 3—4 метра. Типа невысоко. Но это высотные работы, выше 2 метров, выше человеческого роста. Вообще-то это самая подлая высота, когда человеку кажется, что не опасно, что прыгни, и ничего тебе не будет. Это не пятидесятиметровый топ мачты, где автоматически держишься всеми четыремя лапами как следует. В общем, упал этот курсант. На кофель-нагельную планку. Перелом бедра, кричит, больно. Все метаются, а наш боцман, скомандовал другим курсантам быстро принести обвязку и одеть его в обвязку. Якобы был он в обвязке. «Сам упал, сам дурак». Эту-то вещь и объяснил боцман с видом весьма самодовольным и особенно подчеркнул, что по итогам разбирательства, не было ему, Слону, ничего, отвертелся он благополучно. Хотя, это была его прямая ответственность: не соблюдаются правила техники безопасности – не посылай людей на высотные работы. И по закону, и по человеческим понятиям должен он был отвечать за то, что курсанта покалечил.
Парусный в продолжение темы порассказал кое-что из его опыта на другом паруснике, где курсанту грузовая стрела на голову упала – совсем чуть-чуть, на двадцать сантиметров вниз ушла, «слегка» пристукнув его по макушке, но этого было достаточно. Курсантик на всю оставшуюся жизнь ненормальным сделался, инвалидность получил, обитает теперь рассудком наполовину в ином мире. Только в том случае покрывать боцмана не стали, может быть, родители курсанта взялись выяснять, что с их сыном произошло, скорее всего, имели какие-то связи. Был суд, и боцман получил условно четыре года за нарушение правил техники безопасности. Условно, потому, что он коллегам по экипажу во время следствия пригрозил, что если капитан и вахтенный не будут его выручать, то он показания на них даст, и они тоже сядут. Вот капитан с вахтенным и скинулись, чтобы дать судье взятку, потому и смягчили боцману приговор.
Слон после этого высказался ещё весело и молодецки на предмет того, что он это понимает, что тоже, если что, может и всякие-разные показания давать. Но этот пример из его трудовой биографии он преподнёс в качестве неотразимого и горделивого доказательства его всесильности на этом паруснике. Что-то после этого он ещё рассказывал, не помню уж точно, но уже из его комсомольского прошлого, в армии, где он был вожаком комсомольской пятёрки.
Да уж, верю, что такие горлопаны и пролезали в советское время наверх. Поскольку он ума невеликого был, есть и будет, а Советский Союз приказал долго жить, то прыгнуть успел он не выше комсомольского вожака. В постсоветское время вот пристроился он тоже на руководящую работу, не самым главным начальником, но прыщом на ровном месте быть – это уж точно его амплуа. Хотел он, видать, коммерсантом стать, как большинство бывших руководящих работников комсомола, а получилось только бугром на палубе: из «бизнесов» только и возможно, что казённого цемента подворовать да пластиковые бутылки двадцатилитровые из-под воды для кулера сдавать за деньги. Всё что-нибудь в таком духе.
***
Я стою на трапной вахте по береговому расписанию. Это восемь часов, после которых следует отдых, 16 часов, вахты идут по береговому расписанию. Матрос на трапе должен контролировать вход на судно, вызывать вахтенного помощника капитана, если пришли какие-то посетители, вести учёт в журнале посещений. Должен вести наблюдение за состоянием швартовных концов. В том числе, заведены ли на швартовые концы накрысники, эти круглые щиты против крыс, которые по концам могут забежать на корабль, щиты должны надёжно преграждать им путь на корабль. Также под ответственностью матроса на трапе сам трап – он должен быть безопасным для спуска-подъёма по нему, подтрапная сетка должна быть заведена. Вдруг пьяный боцман например упадёт с трапа? Тогда он упадёт не в воду между судном и причалом, а в сетку. Никакими судовыми работами матрос на трапной вахте не должен заниматься. У него ответственность за корабль.
Только вот наш старший боцман, Слон, очень уж любит злоупотреблять своим руководящим положением и статусом капитанова любенчика в палубной команде. Он регулярно пристаёт с претензиями на предмет того, что матрос на вахте должен ещё что-то делать. То скобы от ржавчины зачищать да красить, то подметать палубу, то барашки иллюминаторов смазывать тавотом.
В тот раз он мне предложил заняться вот этими вот барашками. С ним не очень-то поспоришь, тем более, если ты – всего лишь матрос, а капитан Г. матросов ненавидит и наоборот любит всеми фибрами души своего пухлого боцмана. Я включаюсь в это мероприятие, в котором также занят и Ник, другой матрос, который всегда был не прочь «постоять за правду». Как-то я ему объяснил, что у него горб вырастет, пока он будет доказывать, что он не верблюд, такие порядки заведены у капитана Г. и боцмана, да и вообще в Академии, а в принципе и в Росфедерации. Вот и в тот раз Ник спросил у меня, как же трапная вахта. Я ему что-то ответил, но злоба против боцмана, копившаяся уже давно приводит всю нашу кампанию к следующему примечательному казусу.
Я расхаживаю барашки на лючках средней тамбучины, сверху, на надстройке, на высоте где-то двух, двух с половиной метров. Слон внизу что-то тоже в таком же духе ковыряет, прямо подо мной. Он пристаёт с какими-то придирками к Нику, бестолковыми, в общем-то, чем ещё больше заводит меня. Далее он перемещается на другую сторону тамбучины. Аккурат после того карщётка выскальзывает у меня из рук и падает вниз. Я про себя отмечаю, что она парой минут раньше угодила бы боцману в голову. Не смертельно, но неприятно.
На парусниках любят, особенно боцманы, отпускать шутки по поводу высотных работ – что-нибудь типа того, что с мачты может что-то упасть, какая-нибудь железяка или ботинок без шнуровки да кому-нибудь в голову. Последствия могут быть череповаты.
Вот выкатывается наше сокровище со своими неизменными придирками к Нику. Тут я решил вставить пару слов в этот, так сказать, разговор.
– Слон, а почему у тебя инструмент не остроплен, а? Мы сидим тут на тамбучине, а карщётка не остроплена, а высота больше двух метров? Вообще-то это высотные работы называются.
Он что-то выговаривает, в общем-то неубедительное, вопрос поставил его несколько в тупик. Я ему говорю, что буквально пять минут назад у меня карщётка выскользнула из рук и упала как раз там, где он был. Если бы она чуть пораньше упала, то угодила бы ему в голову. Он начинает кричать что-то в духе того, что надо остропить карщётки. Я ему отвечаю, что вообще-то матрос на трапе должен трапную вахту нести, а не судовые работы делать да бегать в поисках штертов и стропить инструмент, для таких вещей есть рабочая бригада. В ответ на его психи добавляю, что же делать с молотком, который имеется у Ника и тоже не остроплен. Намёк доходит до него не сразу, но тем не менее, он сразу же ретируется, поскольку ответить ему по большому счёту нечего. Мы с Ником кричим ему вслед тот же вопрос, что же с молотком делать. Он издалека что-то пробормотал.
Через пять минут прохожу мимо тамбучины и вижу его несколько растерянный взгляд – до него наконец-то дошёл смысл намёков. Более в тот день он нас не доставал своими психами. Однако таких встрясок бывшему комсомольскому вожаку хватает ненадолго, максимум на одну вахту. На следующий день он возвращается к своей обычной манере поведения. Тем не менее, такие вот стычки были полезны – иной раз он задумывался, что кому да как говорить. На следующий же день, для закрепления урока, я ему напоминаю про случай с карщёткой – говорю ему, что щётка у меня выскользнула, потому что он не выдаёт новых рабочих перчаток, а старые уже все в тавоте, скользкие.
Свинтил Слон с ремонта в Калининграде до дому быстро, ещё в январе, мы остались под дотошным руководством парусного мастера.
Ник уехал из Калининграда в феврале, его конфликт с капитаном Г. обострялся и не мог быть исчерпан, а это означало, что кто-то должен был уйти. Разумеется, капитан Г. хотел остаться.
***
В феврале приехали курсанты из Архангельска, двадцать ребятишек 17—19 лет. Ещё недели через две прибыл другой боцман, Конрад Карлович, дабы принять бразды правления от парусного. Как и со Слоном, с Конрадом у парусного наметились поводы для споров и разногласий. В ряде случаев был прав он, в ряде случаев – кто-то из боцманов. Но все они при этом думали прежде всего о себе, о своих выгодах, и отнюдь не о подчинённых. Если они о нас что-то и думали, то, как правило, только худое.
Были мы в Калининграде как раз, когда проходили выборы президента Российской Федерации. Все на выборы! Это было требование, доведённое до нас Марио, учебным помощником капитана. За кого голосовать, сказано не было. Я жду на причале коллег, парусного мастера и четвёртого помощника, Наталью, мы пойдём на выборы. Жду пять минут, десять, полчаса, по-моему почти час уже прошёл и я пошёл на корабль искать моих компаньонов, но тут-то их и увидел. У парусного мастера под кепкой голова замотана бинтом, давясь смехом, он рассказывает, что побежал уже почти бегом по коридору догонять нас. Но кепка с козырьком делает в таких случаях своё маленькое подлое дело: взгляд наверх чуть-чуть закрыт этим козырьком. И он не увидел верхнего среза в проёме клинкетной двери, а это, читатели, не абы что, а металлическая и весьма толстая переборка, о которую он и ударился со всей дури головой. Говорит, упал, из глаз искры, встаю, ничего не вижу. Оказалось, расшиб голову так, что кровью залило глаза. Пришлось идти к доктору, которому пришлось оказывать первую помощь раненому.
В том же марте было мне предложение поступить в экипаж моторной яхты. Судовладелец был в Москве, и я туда летал на собеседование, на один день. Судовладельцы, отец и сын, из Украины, состоятельные коммерсанты, «владельцы заводов, газет, пароходов». Результат собеседования был неясен, самое удивительное для меня было то, что с моими документами никто не захотел ознакомиться.
В конце марта мы отчалили по маршруту с портом назначения Варнемюнде, в Германии.
Варнемюнде, встречи с гармонистом
Наш корабль стоял в Варнемюнде, первый порт в этом заграничном рейсе, на этом паруснике. Нас перевели на стояночные вахты. Мы, матросы, меняли друг друга, тем не менее, по графику 4 через 8, как в море. На трапе не только вахтили, но и занимались «бизнесом» – не своим, чужим, на паруснике наше начальство как могло «зарабатывало» деньги. В частности продажей входных билетов, а также «пожертвованиями». Выставлялся прозрачный плексигласовый ящик, на котором было написано, что-то типа «Спасибо за Вашу помощь кораблю».
Входной билет стоил, насколько я помню, 2 или 3 евро. Вот эту-то наличку мы, матросы, и должны были принимать у пожелавших посетить корабль немцев, выдавать им билеты, опрятным и улыбчивым видом «привлекать» на корабль туриста. Вахты шли, турист шёл тоже, но не совсем и не всегда на борт. Я бы лично не пошёл на такой корабль, где требуют за вход плату. Позорищем смотрелась и эта попрошайническая коробка.
Куда шла вся эта наличность? Наверное, наивные немецкие граждане предполагали, что эти деньги пойдут на ремонт судна. Или на зарплату экипажу. Примерно такие же сказочки усиленно распространялись на борту и нашими начальничками – вы старайтесь давайте, туриста надо привлечь на борт, из этих денег вы получаете ваши коммерческие. Коммерческие – это деньги, которые выплачиваются на парусниках под флагом РФ в рейсах, обычно это где-то 8 евро в сутки, деньги эти проходят чёрной кассой, никаких налогов или страховок с них работодатель не платит. Обычно капитаны и их подручные устраивают игрища с этими деньгами, они же не учтены нигде, вот и стараются капитаны и проч. как-то эти деньги прикарманить, если не полностью, то хотя бы отчасти. Кое-кто верил басням, распространяемым исподтишка по научению капитана Г. – некоторые из немцев, по молодости лет один из наших матросов, проштрафившийся курсант Академии, Саша, попозже уже и он понял, в чем суть этих афер.
Вообще, такие формы «банановых» бизнесов практикуются парусниками Росфедерации. Пошло это, наверное, со времён не лучших, когда было непонятно не только то, что случится с парусниками, но и «что случится с Родиной и с нами». С тех времён повелось и то, что эти деньги шли куда-то в неизвестном нам, простым работягам, направлении, но уж явно не через зарплатные ведомости. Если Вы посещаете корабль, и с Вас требуют плату, 99 шансов из 100, что эти деньги будут потом пропиты «дорогими нашими начальничками». Все в Росфедерации старались стать «бизнесменами» во времена не столь далёкие. Далее по ступенькам вниз – «менеджерами», это на паруснике была в ту пору пятая помощница капитана, например, стармех, артел. Потом – «супервайзерами», это помощники капитана, механики, в общем, те, кто в «доле». И теми, кто не вышел башкой или ещё чем – «мерчендайзерами», это разного рода боцманы. И уж те, кто совсем не по нраву начальству – им предлагалось быть «промоутерами»: на улице при попрошайнической коробке стоял вахтенный матрос. Вот примерно эта пирамида египетская и функционировала на паруснике во время того визита в Варнемюнде.
Город этот был первым немецким, который я посетил в своей жизни. Как-то в нём не было заметно того же благородства и аккуратности, которые украшают Швецию.
Артел мне посоветовал посетить рыбный рынок, который в этом городе с его слов лучший в Германии. Я так и сделал – копчёная рыба, которой я закусывал пятьдесят грамм водки, принятой после промозглой погоды во время вахты, действительно была если не самой лучшей в Германии, то самого отменного качества. Там рыбаки, маленькие рыболовецкие судёнышки, привозят рыбу, рыбку эту тут же наготовят, прямо у набережной, где стоят эти рыболовы. Запахи стоят изумительные! Свежая сготовленная рыба тут же продаётся.
Я бродил по городу, там и сям попадались синие непромоканцы курсантов, взятых судовым агентом для размещения рекламы в городе – здесь у судна предполагался дейли-трип, однодневный выход в море с туристами, желающими прокатиться на борту.
Вдруг в толпе я услышал звук гармони – если я правильно помню она выводила мелодию из «Бриллиантовой руки». Подошёл, послушал пожилого мужчину, сыпанул ему мелочи из кармана. Разговорился с ним:
– Вы русский?
– Да, вот играю здесь, а Вы откуда?
– Я с парусника – вон стоит. Говорят, сюда, в Германию, часто заходят наши парусники?
– Да частенько, в прошлом году стоял «Крузенштерн», я на нём с Константинычем так здорово выпил, помню, играли мы там с ребятками чего-то.
– Константиныч – это старшина рулевой команды который?
– Да, он самый, старшина, самая известная личность на нем.
– Пардон, так Константиныч же на «Седове» в экипаже!
– На «Седове»? Ну, может быть и на «Седове», они оба сюда заходят часто. Один тут стоял и не одну зиму подряд. Ох, мы с ребятами там квасили!
– Послушай, старина, а как тут снять с карточки деньги, у меня «Маэстро», где тут банкомат находится?
– А, так вот по улице пройдёшь прямо, метров через сто увидишь стеклянную дверь, вот там Маэстро принимает банкомат.
– А, там ещё вывеска какого-то банка?
– Да, точно, вот там.
– Так я туда подходил уже, там дверь закрыта.
Гармонист объяснил мне, как открывать дверь – надо карточкой открыть электронный замок сбоку. Я тогда этого нюанса ещё не знал. Поблагодарив его и пообещав ещё прийти к нему, я отправился в банк. Следуя инструктажу, вошёл в банк. Вставил карточку и по памяти набрал код.
Стоп! Так мы не договаривались – табло банкомата показало мне форменный отказ из-за ошибочного кода. До меня дошло, что телефон, в котором тогда у меня был для верности в память забит код, я оставил в каюте, на корабле. Идти туда – значит потерять карту, банкомат хоть и недалеко от стоянки судна, но минут двадцать-тридцать пройдёт точно, пока я бегом обернусь. Собрался с мыслями, выматерил себя и набрал код своей «новой» карты, которую выдали на работе. В первый раз я, очевидно, набирал код старой карты, с предыдущей работы. Этот заход был удачен. Я получил нужные мне деньги.
В эти дни мне названивали менеджеры «новых украинцев» из Москвы – они спохватились через три недели после нашего собеседования. Стали вызывать меня: владелец яхты принял решение по Вашей кандидатуре! Однако они поздно начали звонить – корабль был в море, уже вышел из Калининграда, и все их звонки были напрасны, мой телефон был вне зоны действия сети. Здесь в Варнемюнде, они дозвонились до меня, т. к. я включил международный код на своей СИМ-ке. Несколько слов – я ответил, что мне надо подумать, в итоге вылетела с моего счета почти вся сумма имевшихся на нём денег.
Вот в следующую встречу нашу с Сашей, так звали гармониста в очках, я ему и рассказал о том, какие бывают предложения – работать на моторной яхте на Майорке, зарплата 2300 евро. Такие условия в обычной жизни, на берегу, встречаются крайне редко:
– Конечно, надо ехать, соглашайся. На такие деньги можно жить здесь. У меня таких денег не выходит. Я вот тут с голоду не помираю, но так надоело уже всё это дело – раньше было нормально, туристы в сезон валом валили, не жадные были. Сидишь вот – приходит пароход, большой такой, на нём туристов полно. Если это пароход из Америки, так вообще красота – они зеленью так и сорили. Я даже на маяк выходил встречать такой пароход.
– На маяк? Это как?
– А так вот – отсюда не видно, но вот в том направлении ходил?
– Да, ходил.
– Маяк, значит, должен был видеть, вот туда я и выходил. Закатишь им что-нибудь типа «Амурские волны» или «На сопках Маньчжурии» – они все с парохода ещё меня фотографируют, кричат мне, радуются. Вот. А если я им что-то из ихнего закачу, да того же Армстронга хотя бы, так они вообще аж визжат от счастья. Ну, а потом с причала им ход вот сюда и есть – через мостик, прямо мимо этого вот моего места. Тут уж самая работа и идёт, только успевай отсчитывать деньги. Там вон, видишь, через перекрёсток, там казачий хор тоже выступал, не знаю, сейчас где они – уехали куда-то, по деревням, наверное гастролировать. Да и правильно, тут вообще тяжко стало: туристов нету почти, сейчас разве пароходы заходят сюда? Нет, это так мелочь, настоящих лайнеров пассажирских и не видно тут. И правильно сделали, там в деревнях они больше денег поднимут.
О чем-то ещё мы с ним говорили: про самолёты из Саксонии, которые тоже на эти курорты привозят богатых туристов, про то, что на все эти вот уличные выступления, оказывается, нужна лицензия, и стоит она сколько-то денег и терпения, про налоги и сколько вообще уходит на житьё-бытьё там. В целом же его резюме было таково:
– Эта земля считается самой нищей в Германии, это территория бывшей ГДР, здесь же сделали после падения Стены то же самое, что и в России – всё разворовали, разграбили, предприятия все, какие были остановились. Вот и пожалуйста – сейчас единственная промышленность, которая работает здесь, это туризм. Они тут выживают только за счёт денежного туриста. А экономику тут специально загробили, так же, как в России. Что-то типа колонии сделали…
Гул и гогот в Земном мире. Носятся с воплями ночницы, мары, мавки и криксы, буйствуют некошные кровососы, красноплешие полуверцы, костоломные шишиги и нечистые мертвяки. Они чуют разор и зависть нашего мира и радуются как полоумные. Они вносят суету и смуту в подсознания людей, в наше подсознание. В этом море неуверенности погрязают как в болоте наши стремления и идеи. И только те, кто открывают свои души настежь, пуская в них яд зависти и наживы, пролезают наверх в через эти топи.
Наш переход в Ларвик не был ничем примечателен: показушки с парусами для трейнизов, вахты, рулежка. Нет, было кое-что, были вылазки с туристами на мачту. Были симпатичные женщины и их взгляды на сопровождавших их. Моряки всегда вызывают интерес прекрасного пола.
Ларвик – городишко на берегу моря.
Парусник подходил к причалу. Мы на корме готовились подавать концы на берег, когда я, держа шлаг на шпиль, каким-то боковым зрением и краем уха уловил лёгкую суету в рядах туристов и членов экипажа, докатившуюся эхом с бака. Что-то случилось там, но, судя по слабой реакции толпы, не очень серьёзное. Там чего-то сделали не так, но я был занят своим делом и потому быстро отвлёкся от этой мысли. Концы мы заожили на кнехты, повесили накрысники, установили трап и пошли на свой законный ужин. На причале стояли норвежцы и провожали нас взглядами со сдержанными улыбками. К капитану поднималась делегация встречавших – грузных и даже толстых норвежцев – в лицах было что-то знакомое. Уже нырнув в среднюю тамбучину и спускаясь вниз по трапу, я вспомнил, что видел этих массивных норвегов в ноябре ещё в Петербурге. Они приезжали договариваться о вопросах приёма в Ларвике.
Городишко этот маленький, на берегу моря. Там находится фирма «Jotun» – когда-то она взялась оказывать спонсорскую помощь паруснику, и вот в обязательство за материальную помощь «капиталистов» Академия направляла парусник в этот маленький портик почаще и он оставался там подольше. Этот наш заход растянулся на целый месяц пожалуй.
Нам объяснили, что будет организована культурно-массовая и развлекательная программа.
Во вневахтенное время я имел достаточно возможностей изучить этот городишко. Днём он представлялся «вымершим» поселением – на уличках ни души, машин не видно и слышно только, как где-то далеко на главной улице изредка движется транспорт. Кое-где во двориках, бывает, выходят местные жители и чем-то занимаются по хозяйству. Это случается весьма редко.
Бывали мы и в известном в Ларвике Seamen’s club, Клубе моряков, есть там такое заведение местного масштаба. Раз-другой там банкеты заделали, я туда заходил иногда, пропустить сто грамм винца. Народ там собирался любопытный в своём роде, местная интеллигенция, так сказать, интересующаяся морем. На стенах портретики, рисунки председателей клуба. Может быть, за все последние двести лет. Благородное общество.
Сименс клаб здесь совсем не то, что в Гамбурге, Бремерхафене или где ещё в большом порту. Нет номеров хостельного типа для морячков на берегу, нет кабака. Присутствует бар, где можно заказать выпивку, кофе, чай, в холле биллиард и некоторые старинные вещи и самоделки в духе «морского макраме» – заплетки из тросов, верёвочек. Кнопы, мусинги и прочие репки. Висит большущая сабля в кожаных ножнах. Мы с Владиком, матросом с парусника, с любопытством рассмотрели это «варяжское» оружие. Серьёзная штука. Салон разбит на две комнаты – в основной, где обычно по вечерам я и бывал, есть какие-то книги, все почти на норвежском, многие – про парусные корабли. Некоторые меня весьма заинтересовали, я знакомился с иллюстрациями, сидя на диване между этих шкафов.
А вот мой вид прилежного читателя заинтересовал присутствующих – они время от времени посматривали в мою сторону, сидя за своими столиками и обсуждая что-то на своём скандинавском наречии. Через какое-то время, когда я поставил на место книгу, в которой были весьма занятные иллюстрации парусников разных эпох, один из толстяков, которые были в Питере и потом встречали парусник при заходе, предложил мне по-английски присоединиться к их столику, за которым сидело их несколько человек, пожилых в основном мужчин, оживлённо беседующих за рюмкой чая. Поскольку времени до начала вахты у меня было достаточно, а вино по предложению Бергена (так звали толстяка) было поставлено мне за счёт заведения, да ещё и красное полусухое, я решил вступить в ряды дружелюбной кампании.
Час-полтора прошли в неспешном распитии вина или пива, смотря по желанию компанейцев, а также в обстоятельных беседах, которые так любят европейцы, пожалуй, любой страны устраивать по вечерам за столом.
Начали с того, что прокомментировали моё внимание к книгам, на это я отвечал, что книги действительно интересные, про корабли, хоть я и не знаю норвежского, однако иллюстрации в них имеются весьма занятные. Обсказывалась конечно тема парусника – и от моих-то собеседников я и узнал, что фирма «Йотун» как раз и является основным спонсором парусника, парусник потому и бывает здесь частенько, а также задерживается подольше при любой возможности. Временами речь касалась настоящего этих общительных стариков – один, сказал, что когда перестал ходить в море, взялся на берегу работать пожарным.
Не обошлось, конечно, и без политических тем, которые были обозначены в довольно безапелляционной манере: Норвегия является союзником США, и потому разговоры о том, что штатовцы были не всегда правы в Ираке, не очень-то принимаются в сием обществе. Временами они говорили о чем-то на норвежском, Берген переводил мне общий смысл сказанного.
Вспомнились рассказы Татьяны, директора одного музея в Архангельске, о том, что норвеги, по крайней мере приезжавшие туда в командировку, действительные любители выпить. Видимо, это так и есть, глядя на них в тот момент, у меня создавалось впечатление, что мужчины такой массивной комплекции вероятно должны выпивать бутылку водки на нос без проблем. На прощание один из норвежских товарищей пожелал мне найти дорогу до судна, напрасно он поддался сомнениям.
Вино слегка гуляло в крови, и я чувствовал, что оно ускоряет мой ход, да наверно уж и берегини постарались, подхватив меня под руки с двух сторон и вынеся верной и ровной дорогой к корабельному трапу. В каюте отоспался перед вахтой и заступил на свои четыре часа.
***
Город смотрится с причала как бы подъёмом в горку, которая переходит затем в норвежские горы – они совсем как сопочки в Приморье. Несколько фотографий, бывших у меня с российского Дальнего Востока, больших и хорошего качества, с видами на море или на сопки, я подарил при случае Бергену, он взял их, сказал, что их можно будет разместить в салоне клуба.
Салон оформлен в духе почитания старины – на стенах висят портреты джентльменов, возглавлявших в разные столетия его, этот клуб. Судя по ним, история его начинается в XIX веке. Кажется был в их ряду и Колин Арчер, любой сколько-нибудь знающий яхтсмен должен быть знаком с этим именем. Родился этот конструктор яхт и лоцманских ботов в этом городке. Здесь-то в Ларвике находится и музей на том месте, где была расположена когда-то верфь этого конструктора знаменитого «Фрама». Музей оформлен частично на свежем воздухе, частично в здании. Вид на парусник со стороны музея, расположенного на берегу бухты, романтичен.
Его пятидесятиметровые мачты не кажутся такими величественными на фоне огромного пассажирского лайнера, отчаливающего с другой стороны причала. Здесь одна из точек какой-то большой пассажирской линии, есть специальное здание пассажирского терминала, таможня, причал позволяет принимать такие немаленькие кораблики.
С нашей стороны причал поряпан – при подходе к нему наш корабль зацепился за него скулой и на его белом борту были видны протиры, а на причале были трещинки и выбоины бетона. Этот инцидент и был причиной лёгкого волнения и сдержанных улыбок в массах при нашей швартовке. Полагаю капитан Г., лично командовавший при подходе, был нетрезв.
Романтический вид открывается с колокольни – в массе домиков она не сразу видна. Однако если ты знаешь как на неё выйти, получишь действительно удовольствие от обзора, типичного для портовых городов: как и в Фуншале домики спускаются волнами крыш к зеркалу моря. У причала стоит парусник. Прямо девятнадцатый век. Орудия на колокольне тоже из тех времён. Смотрят строго и грозно чугунными стволами в морской простор. Вся картина как бы окаймлена листвою деревьев, в ветках коих поёт свою песню Сирин: «В наш парк пришла весна, растаяли снега, а вместо снега расцветают уж луга, листва шумит, письмо лежит…» Надо будет сюда прийти с дамами – вид-то романтический!
Осло, Гражданин мира
Желающие поехать в этот город – члены экипажа и курсанты – сели в автобус, нам организована экскурсия в музеи Осло.
Проезжаем дорогой, идущей через скальники, они стенками обрываются перед лентой дороги. Стенки зашиты в сетку-рабицу, в скалы вбиты шкворни, на которых держится сетка. Сделано грамотно – у нас на родине бывали случаи, когда вот примерно с таких же скальников срывались каменюги и, бывало, «бомбили» мимопроходящие машины. Может произойти весьма опасный инцидент. Но здесь – Европа, можно ехать спокойно. Я впадаю в дремоту.
Мокошь идёт по Земному миру и птицы летят вокруг неё. Каждый её шаг – это спасение сотен тысяч душ, бережно собираемых птицами, успокоение страстей, подогреваемых анчутками и беспятными. Они пытаются сделать из нас горделивых сластолюбцев, блудливых обжор, завистливых лодырей и просто злобливцев. Они неустанно стараются из Земного мира вмешаться в ход вещей нашего мира. Иногда им это удаётся, тогда горе тем, кто пойдёт за ними вслед, спотыкаясь о всякий придорожный камень и упрямо расшибаясь о каждый встречный угол.
Просыпаюсь от того, что автобус останавливает свой бег – мы на месте. Этот музей многие из нас, яхтсменов, хотели бы посетить, вот и я вхожу в него – посередине установлен «Фрам» – по-норвежски это означает «Вперёд». Да уж, дубовый корпус производит впечатление массивности и солидности – верно, у него толщина бортов под метр. Такой не раздавит во льдах. На палубу можно подняться: шпиль, штурвал, рубка – всё как на фотографиях, которые я когда-то видел в книгах. Сделано добротно.
В помещении по периметру на стенах стенды – всё посвящено Нансену. Великий человек был. Гражданин мира. Вот фотографии детей, опухших от голода, людей, тощих, как скелеты из Освенцима. Все это было – было на нашей с Вами Родине, читатель. Миллионы людей погибли. За одно это надо судить тот преступный режим, который допустил ли или организовал ТАКОЕ задолго до всяких гитлеров. Приговор так и не был вынесен, а он должен быть самым суровым. Многие в Европе не понимали или не хотели задумываться вообще о сути явления, произошедшего в те страшные годы в России. Горе тем, кто в страстях пойдёт за горделивым злобливцем. А ведь адмирал Колчак на допросе немало интересных вещей порассказать успел, в том числе он же резонно заявил на допросе, что на территориях Белой армии не бывало никакого голода, хотя имелись те же самые проблемы и трудности, и те же люди на этих территориях жили. С приходом же Советской власти моментально возникли проблемы с продовольствием глобального масштаба. Протоколы допроса Колчака остались безвестными, были запрятаны на долгие десятилетия в подвалах ВЧК-ОГПУ-НКВД-КГБ.
Те из европейцев, кто задумывался в то время над проблемами России, большей частью ошибались. Но они искренне хотели помочь людям, они призывали к помощи, они не молчали и не усмехались в своём благополучии над нищими дурачками. Так вот искренне хотел помочь людям и Фритьоф Нансен.
Мы возвращаемся к автобусу, где нам выдают бутерброды, что-то попить типа кока-колы или фанты на выбор.
Далее проходим в следующий музей: Тур Хейердал – национальная гордость Норвегии. Гражданин мира.
Я слышал только о его путешествии на Кон-Тики, а он путешествовал и на других лодках, все экспедиции были исследовательскими, много дали исторической науке. Все эти экспонаты, стенды с описаниями походов были бы весьма интересны моему приятелю, Вите, однако, меня лично не столь интересует вся эта коллекция редкостей.
Перед нами выступает Тур Хейердал – нет, не тот знаменитый путешественник, он уже, конечно, почил. Это его сын, уже очень пожилой человек, оказывается, в их роду Хейердалов все носят имя Тур. Он говорит на английском. Его речь понятна. По каким-то маленьким, едва уловимым подсознанием намёкам, приметам я вдруг осознаю, что человек этот слишком уж высокого мнения о себе, он болен тщеславием. Моя догадка подтверждается позднее, когда я вижу стать его поведения на судне, он с нами путешествовал из Норвегии в Германию. Какая-то дистанция отчуждённости присутствует в его поведении. Читается в его лице. Мне кажется, его отец был несколько иным человеком.
После этого музея мы сразу же садимся в автобус и отъезжаем обратно. Могли бы дать время на прогулку по городу. Всё-таки Осло, столица Норвегии, когда ещё доведётся здесь побывать?
Ларвик, месяц в Норвегии
Вообще, Ларвик – традиционный порт захода парусников из России. Даже нередко это регатный порт захода. В тот раз мы зашли туда сразу после Варнемюнде, на отстой, месячишко поболтались там. Вахты шли одна за другой. На вахтах были и курсанты, не одни матросы, было полегче.
Это очень маленький городишко, посёлочек. Чуть в сторону отойдёшь – и на тебе, лес. На сопочках, прямо, как на родине, можно даже грибы собирать, чем и баловался иногда артел.
Достопримечательностей очень немного – в центре города тюрьма, небольшое кирпичное зданьице. Есть в городе бассейн, куда нам организовали выходы. Привлекает внимание церковка, у её подножия стоит пушка, наверное, XIX столетия. Оттуда хороший вид открывается, на гавань, на спускающийся по взгорью к морю город. Есть на берегу укрепления времён Второй Мировой войны, блиндаж, дот, они соединены траншеей. Говорят, немцы построили.
Пожалуй, главная достопримечательность, которую я лично открыл, это местная библиотека, где есть бесплатный доступ в интернет. Эта новость вызвала всеобщий интерес, все туда регулярно ходили проверять интернет. Марио, курсантов ментор, довёл до них ЦУ, чтобы никто там не злоупотреблял временем, что надо блюсти рамки гостевого приличия.
Далее мы переходим из Ларвика в Гамбург. Короткий, ничем не примечательный переход. Вахты, руль, паруса. Море. Погода была преимущественно пляжная.
Гамбург
В Гамбург надо заходить по Эльбе, это мощная река со стремительным течением. На поворотах это течение порывисто и привередливо. Капитан первой яхты, на которой я выходил когда-то в море, именно на Эльбе неправильно оценил силу течения и «впечатался» в латеральный буй. Когда я пришёл на яхту, то на её скуле была огромная вмятина, один шпангоут был сломан, бимс был с серьёзной трещиной. Игорь, помощник капитана, тогда кувалдой отрихтовал борт. Сварные швы, выполненные предшественником капитана, выдержали эти невзгоды, сделано было добротно.
Сейчас под моим контролем курсанты стоят вахту на руле. Один, вечно выделывающийся молодой человек особенно невнимателен и привередлив, на течениях судно серьёзно поводит в стороны, а он ни в какую не желает слушать советов. Кое-как он отстоял свой час, затем был сменён другим курсантом. Этот был уж получше на руле.
В Гамбурге мы стояли недели две. Там была у нас на борту парусная школа, человек двадцать-тридцать парусных романтиков, занимающихся на курсах, чтобы получить немецкие яхтенные права. Интересные люди. Симпатичные женщины. За общим доброжелательным настроем временами чувствовалась со стороны некоторых парусников-немцев прохладца, некоторая сдержанность в общении.
Был у нас там и дейли-трип. Показушки с парусишками да верёвочками, трейнизы вперемешку с кадетами бегают по палубе. Мне выпало на руле постоять, полтрипа где-то рулил. Капитан Г. спрашивает второго помощника, моего вахтенного: «Ну что этот жидёныш там ещё свои сказки вещает?» Второй помощник что-то отвечает с улыбкой и вежливо, как всегда. Читатель, речь идёт о немце, который в качестве ли трейниза или в качестве друга судового агента явился с инициативой провести на корабле выставку каких-то материалов о Холокосте, вообще говоря, тема очень больная для немцев. Не присутствовал я при этих переговорах-договорённостях, но думаю, что ни судовой агент, ни его друг-антифашист, ни многочисленные трейнизы не подозревают о том какими гадкими словами навеличивают их порою наши толстячки-начальнички. Видимо, это «жидёныш» не имеет точного перевода на немецкий, а будь таковой в немецком, так уж наверняка признали бы такие речения запрещённой пронацистской пропагандой. По крайней мере, в Росфедерации за подобные публичные выходки профашистского толка некоторых политиков пытались привлечь к уголовной ответственности за разжигание межнациональной ненависти. Наш пузатый капитан любит такие вот заспинные разговоры-шипения по адресу людей, которым в лицо он будет улыбаться и болтать что-то любезное.
В городе были празднества, в начале мая там большой фестиваль, День города, на котором множество народа, много там и маленьких парусников и корабликов побольше.
Боцман организовал нам покрасочный «аврал». Все красят все металлические части судна, вообще-то это называется «подкрашиванием», краску изводят на «косметику», кроем ею неподготовленные поверхности. Всё согласно указаниям боцмана и прочего начальства. Все курсанты занимаются этим бестолковым занятием.
Во время такого вот подкрашивания один из курсантов замирает, уставившись на берег с улыбкой любопытства. Там, за контейнерами двое особей мужского пола, сняв штаны делают друг другу «массаж» своих пятых конечностей. Такое шоу в нормальной жизни конечно не увидишь. Толерантное общество. В данном случае это ещё и признак близости небезызвестного Риппербана, гамбургского пристанища блуда и разврата, наверняка обиталища чертей и бесов в Земном мире.
Был в Гамбурге и такой примечательный случай с нашими курсантами. Сидит их парень на вахте, «на тумбочке» почти что, в коридоре, где курсантские кубрики находятся. По судну ходят туристы – немцы же! – и курсант чувствует себя раскованно. В голос сообщает своему товарищу своё мнение относительно проходящей мимо девицы: «Них… какие тёлки ходят тут!» Проходящий мимо «немец» говорит на чистейшем русском языке: «И не стыдно вам, молодой человек?» Другой «немец» из толпы откликается: «А это они тут вместо того, чтобы мореходные науки учить, учатся курить, пить и материться!» В конце концов, та самая «немка», по поводу которой был отпущен «комплимент» разворачивается и говорит: «А знаете, так приятно, когда на тебя молодые люди внимание обращают!» Дежурный курсант покрывается густой бордовой краской и, закрыв лицо руками, спешно под гвалт смеха удаляется со своей позиции. По статистике эмигрантская диаспора из бывшего СССР в Германии уступает по численности только туркам.
Наше дальнейшее путешествие имело портом захода опять Ларвик. Не бросал я тогда в воду монетку – доведётся ли ещё раз побывать в этом маленьком городишке? На колокольню ходил я в тот раз, с туристками. Они действительно оценили вид, и в самом деле романтический.
Переход в Травемюнде был примечателен всеобщим интересом к мостам, под которыми мы прошли, они соединяют Данию и Швецию. Когда-то по этому мосту я ехал из Мальмё в Европу. Теперь под мостами все усиленно фотографировались.
Травемюнде
В этом порту был у нас «дейли-трип»: туристы платят деньги, покупают билет на вояж, и весь день катаются на корабле. Ничего особенного, я бы не стал тратиться на такое «удовольствие», тем не менее, здесь эта услуга, как говорится, была востребована, народу набралось прилично.
Возвращаемся назад, подходим к причалам Травемюнде. Вопреки обычаю Марио, руководитель кормовой группы, вдруг заявляет мне, чтобы я готовился подавать выброску.
Выкладываю бросательный кольцами, вяжу к гаше. Остальные укладывают концы, курсанты, дурачатся понемногу, парусный мастер вопреки моим ожиданиям тих и спокоен, что-то готовит. Я не очень обращаю внимание на происходящее вокруг, занят своим делом, а его я задумал сделать с некоторой творческой инициативой (вопреки ходячей приговорке мореманов, гласящей, что инициатива на флоте наказуема), которая незаметна постороннему глазу, если прямо не привлечь внимание – буду подавать из-под руки бросательный. Мимо пробегает «главный» по бросательным, матрос Влад, суетливо тараторит мне под руку – «не так выкладываешь!» – я отругиваюсь, ссылаясь между прочим на парусного, что, мол, тот так всегда делал, на планширь несколько бросательного конца выкладывал. Тот пробегает обратно, что-то тараторит, типа «смотри сам, но так не делается». Марио хранит молчание, смотрит куда-то в сторону. Хорошо, что больше советчиков не было, обычно, из-за всех этих советчиков маленькое, но серьёзное дело идёт на смарку. Корму всё ближе подтягивают к причалу. Однако буксир не может работать «на укол», потому на меня с подачей бросательного возложено достаточно ответственное дело – обычно неудачный бросок провоцирует нервишки на мостике и вызывает довольно много ехидных комментариев. Мы ждём, визуально кажется, что мы близко к причалу, движение относительно воды усиливает эту иллюзию. Марио изрекает своё традиционное: «подавай выброску» – негромко и невнятно, если бы я не был привычен к его голосу и не ждал именно от него этой команды, то момент прохлопал бы.
Беру в руку выложенную бухту, аккуратно, чтобы шлаги не спутались, не спеша, зацениваю расстояние, ёкает лёгкое сомнение, и я ещё немного оттягиваю время своим комментарием: «Далековато однако. Ну ладно, х… с ним». Замах, не суетливый, не торопливый, но спокойный, уделяя внимание тому, чтобы не было слома линии руки и линии бухты с грушкой бросательного на конце. Школа «Алмаза» даёт о себе знать, хоть я и не имел практики подачи бросательного уже долгое время, но руки помнят своё дело, груша с бухтой постепенно набирают скорость обратного хода – броска, подсознательно мозг определяет момент, когда надо выпустить бухту, которую груша увлекает вперёд и немного вверх. Бросок получается точным и достаточно сильным, все смотрят как груша в солнечном свете описывает дугу по направлению к шавртовщику. В голове мелькает мысль: «Забыл крикнуть аttention!» – но это уже не важно, у пала только швартовщик, толпа встречающих держится на некоторой дистанции от него.
В это время все, безусловно, смотрят на полёт бросательного, на то, как раскручиваясь вытягивается тощим удавчиком бухта, многие следят со скрытым злорадством, заготавливая что-то в тоне поучительного «ну, вот не получилось, я так и знал», некоторые, не понимая особенно сути происходящего, просто смотрят на это, как на развлечение. Кольца бухты за эти доли секунды вытягиваются одно за одним в полёте.
Вот груша шлёпается о причал, в полуметре от швартовщика, в метре-двух от среза причальной стенки, отбивая от асфальта заметный столбик пыли. Швартовщик, кажется, не совсем был уверен, какую-то долю мгновения он выждал, как будто специально давая возможность бросательному концу, вытянувшемуся полностью в направлении с судна на берег, утянуть её обратно, в воду. Специально они что ли тоже тупят?! – «Ну вот не получилось! Я так и знал» – Но нет, груша уверенно лежит, обычно в таких случаях на конец наступают ногой, хватают рукой, как угодно, но стараются быстрее забрать себе это маленькое несъедобное «счастье» – пока оно не «убежало» обратно. Специально он что ли тупит?!..
«Выброска летит один раз» – вспомнилось речение Петровича с судоверфи (Царство ему Небесное!), это правда – намокший в воде конец гораздо труднее заново выложить аккуратной бухтой, он будет тяжелее, кольца мокрой бухты будут цепляться друг за друга, шансы на удачный повторный бросок уменьшаются с каждым неудачным. Плюс теряется время. Плюс на мостике будет неудобно – о капитане судят по тому, как он умеет швартоваться. Швартовщик выдерживает эту предательскую долю секунды. Специально он что ли тупит?! Потом хватает грушу и начинает выбирать бросательный. Швартов следом за ним уползает в воду и на берег.
Все наши старые «морские волки» молчат, все делают потихоньку своё дело. Парусный выдавливает из себя, проходя мимо, – «Молодец, хорошо бросил», – по лицу его видно то, чего ожидали видимо в душе все, повода для традиционного для этой публики самовлюблённого поучения, как надо было сделать, «не получилось, я так и знал» (естественно в других выражениях и других тонах). Им сказать нечего и это означает неохотливое признание факта, я иду к шпилю, на ходу отвечаю парусному, что обычно я подаю бросательный «с руки», сегодня вот решл попробовать «из-под руки подать» – он молча кивнул головой, на лице его читалось что-то ещё более кислое. Наверное он понял меня, «главный» по бросательным, как и остальные, не только не поняли, но видимо и не обратили внимания на мои слова. Швартовка между тем шла своим чередом как по писанному.
Травемюнде, это небольшой портовый городишко. Вдали виден парусник с чёрным бортом. Прямо как «Крузенштерн», это его собрат из серии «летающие П», «Пассат», теперь он тут в качестве музея.
Давал я шефу немецкой парусной школы гитару, он своим подопечным организовал небольшой творческий вечер, с участием некоторой активной группы они исполняли песенки, зачитывали рифмованные выступления-куплеты. Далее была Abschlusspraty, в одном местном кафе, посидели мы также и там, я и моя новая симпатичная знакомая, немочка.
Пятая помощница как умеет стряпает козни и злобные выходки против меня и против прочих нелюбимых-неугодных – даром, что пятая, капитан лелеет её так, что старпом и второй помощник только ей и поддакивают. Один из курсантов позже даже по наивности всерьёз предположил, что пятая помощница – это капитанова жена, даже может быть и по должности. Я бы предположил, что на деле он – её жена, а она – его муж.
Капитан тайно плетёт интрижки: понукает своим подручным-приспешникам, чтобы они против нас, «нелюбимых», устроили травлю – сами оне, телеса колыхающиеся, конечно на высотах недосягаемого Олимпа, якобы «вне политики». Старается поспевать, как умеет, в этих делах-делишках и наш боцман, облако в штанах.
Вся эта компашка имеет помимо личной неприязни ещё и персональный интерес – на места «нелюбимых», выдавленных с борта парусника, они хотят пристроить в рейс своих жён-сватов-братов и прочих блатов. Напишут в судовой роли, что это матрос, а что там на самом деле творится, никого не должно интересовать. Пассажирки капитановы получат ещё и денег за халявное путешествие. Такие вот в Росфедерации капитаны.
Нильс, немецкий мальчишка, лет десяти, с родителями был тогда на борту трейнизом, видно, что парень он смышлёный, родители говорят, что он хочет на капитана учиться. Я показал парню несколько заплёток – кнопы, репки, что-то подарил на память. Наверняка, станет он хорошим капитаном, не то, что наше пузо в кепке.
Начинается рейс назад. Щемящее душу расставание с нею – я с нею познакомился ещё в Норвегии, она была трейнизом. Симпатичная женщина, интеллигентная. В голове рой мыслей, основной лейтмотив – а что если мы не увидимся больше? Увидимся. Обязательно. Ведь не зря же шествует по Земному миру Мокошь, и её внимание касается и таких душ, как наши.
А капитан, похоже, изволют быть весьма недовольными. Как это водится, устраивает всякого рода пакости руками подручных. Ну ничего, мы и не такое в жизни видали. Не нравится мне капитан. Как обычно. Таких в иное время некоторые под винты бы с удовольствием спустили. Такой у меня характер, видимо, – всегда «проблемы с начальством». Не всегда, но весьма нередко.
Говорят, в советское время на каждом судне был первый помощник капитана – не только старший был, но и ещё один, самый главный. Это тот, кто должен был следить за политической чистотой в экипаже, куратор шпионажа от КГБ, в общем. Народ таких ненавидел. Судя по байкам, имеющим хождение в народе, такие типы обычно ничего не делали полезного, а всё выискивали повод для «дела» против кого-то неблагонадёжного. Например, мотористов арестовывали, если в Ла-Манше замечали их вымазанными в смазке. Обоснование было такое – человек хотел выпрыгнуть с судна и доплыть до «проклятой капиталистической Европы» – до Франции, Великобритании рукой подать. Но вода холодная, все знали, что для сокращения потерь тепла в холодной воде надо намазаться смазкой, чем-нибудь жирным. И бывали, говорят, такие случаи – прыгали иногда через борт такие вот беглецы. Вот и стали первые помощники при малейшем подозрении в «покушении на подготовку к побегу» оформлять дела. Говорят, что даже дела до тюрьмы доводили – на 3—5 лет сажали людей, и никого не интересовало, что человек должен был в машине ковыряться и без чумазости «маслопупу» никак не обойтись. У первых помощников своя отчётность о проделанной работе! Не всегда сажали, но первые в любом случае могли если не судьбу, то трудовую биографию человеку своими пакостями испортить. Толковал мне такие речи «дед», стармех, на одном ледоколе, про времена минувшие. Крепко он ненавидел бывшего первого помощника капитана, который на «Красине» в постсоветской России пристроился экскурсоводом: скольким же -людям эта с…а судьбу сломала в Балтийском пароходстве! Вот с такими «первыми» у меня в советское время были бы проблемы. Или у них со мною.
А капитан наш, судя по всему, был молодечиком, карьеру сделал в советское время, хорошо устроился и в постсоветской Росфедерации. Не раз хвалился тем, как он хитро обставлял различных прохвостов-проверяющих. Сам прохвост, хвалится этим.
Что-то в духе «заведования» первых помощников он мастерит за кулисами и против меня. Обычно, такие провокации преследуют одну цель – выгнать неугодного человека. Капитановы подручные в команде парусника подпевают этой поганой песенке. Только не все спешат прыгать в эту компашку подручных, это радует.
В Питер мы приходим с намерением недельку постоять и – обратно, в Германию, в Киль, на Кильскую парусную неделю. Этим планам не суждено было сбыться.
Петербург, эпопея с Алыми парусами.
Отход откладывается и откладывается. На корабле уже полный комплект экипажа, все готовятся к походу по «европам». Все, кто отсиживался во время калининградского ремонта по тёплым домашним местечкам, выползли на свет Божий. Вот и облако в штанах, старший боцман. Слон. Он покинул корабль в январе. Теперь вот Слон мне хитренько улыбается, даже создаёт видимость сочувствия – я же полгода с корабля не сходил.
Корабль наш запланировали к участию в «Алых парусах», петербургском празднике выпускников школ. Смена курсантов – архангелосы уехали, к нам поступили курсанты из Академии, сто человек. Руководимые «горячо любимым» Айсменом, их инструктором по дисциплине, из бывших военных.
«Алые паруса» – это дело суетное. Надо было завести на место штатных парусов сеточки розового цвета, вооружив их все шкотами, гитовами, горденями, фалами. А это почти три десятка парусов. На каждый надо закрепить 3—10 вервий-цепей. Налазились мы тогда по мачтам-реям. Изрядно подупотели.
Боцманы продолжают делать мне мелкие пакости: раз полезли со мною два курсанта. Один высоты боялся, такое бывает, и по этому поводу не стоит болезному сильно волноваться, все мы человеки, и понять человека можно. Когда на рее его товарищ объяснил мне, что напарник не работник, да я и сам это увидел, то я ему внятно разъяснил, что ему надо не спеша спуститься вниз, сказать боцману, Конраду Карловичу, а самое главное объяснить ему, что в таком разе надо отправить ко мне сюда ещё одного курсанта, не то мы тут упеткаемся вдвоём верёвки таскать. Курсанта мы так от боцмана и не дождались, хотя было у него их предостаточно. Не станешь же с высоты 50-метровой мачты с боцманом разбираться, почему да как такое безобразие. В общем, потихоньку мы делом занялись, само собой, продвигалось оно у нас медленнее, чем у другой группы в составе 3-х человек.
На берег где-то две недели ходу не было, корабль поставили на якорь в Неве, напротив Зимнего дворца. Из-за этих «Алых парусов» и не получилось на Кильскую неделю вырваться.
Вот прошли эти «паруса», фейерверки, выступления, музыка, масса народу на набережных. Выпускники. Золотая молодёжь. И прочая, прочая, прочая. По моему скромному мнению лучше бы все эти деньги, которые на эти «алые паруса» махнули, вложили в помощь бездомным да бомжам. Не то время. Не то государство. Не те люди при деньгах и власти. Не те люди засели в рулевых рубках – и кораблей и корабликов истории.
Радуется упырь на том свете, вертится в своём ложе, вокруг него пляшут в неистовой пляске ледихи, студенки, косматые полудницы, навки, мечется во все стороны волкодлак и прелестник. Некошные водилы и водовики бесятся, бегая кругами вокруг упырского ложа. И он шлёт приветы и указания массам слонов и носорогов, топчущих поля в не менее неистовом плясе.
Из-за этих «парусов» мы тогда не попали в Амстердам и на парусную неделю в Киль. А это для меня означало, что я не увидел её, хотя мы рассчитывали на эту встречу.
После фейерверковых торжеств на Неве вернуись мы на штатную стоянку. Хоть какая-то возможность схода на берег образовалась.
Как-то ко мне зашли в гости друзья. Витя да его приятели, музыканты, пара, Андрей и его вторая половина. Зашли посмотреть корабль, да может знакомство завести с вахтенным, Мишей, который весьма серьёзно занимался в то время музыкой. К нему ещё его какие-то друзья пришли, он с ними ушёл, а мы остались кампанией в гостевом салоне, пообщаться да пива попить.
Соседи мои, парусный мастер и один из боцманов, молчаливым видом своим выражали неудовольствие, хотя мы перенесли наше заседание из каюты (напротив каюты парусного и боцмана), в общественное, так сказать, помещение, да и с согласия вахтенного, кстати говоря. В общем, соседей моих не видно и не слышно было. Спали они. Спал тихонько и вахтенный боцман, Конрад Карлович.
Мы сидим в салоне, болтаем о том, о сём. Попиваем пиво. В какой-то момент в дверь заглядывает вахтенный матрос, Руслан, новый персонаж в экипаже, из курсантов, проходивших за год до того практику на паруснике, спрашивает, здесь ли вахтенный, и ретируется. Через какое-то время заглядывает вахтенный курсант с тем же вопросом. По его лицу видно, что он чем-то весьма озабочен. Я предупреждаю своих гостей, что сейчас схожу проверить обстановку. В коридоре встречаю того же курсанта и спрашиваю его, в чём дело. Ответ отрывистый: «Шлюпка взорвалась». Из его комментария не понятно, что к чему, он добавил ещё про шлюпку на реке и побежал искать вахтенного.
Так, это интересно! Выбегаю на палубу. На реке, выше по течению виден полыхающий катер, на котором мечутся люди, как черти в пляске перед адским огнём. Катер потихоньку течением сносит вниз. На нас. У нас уже какое-то движение заметно на палубе. Бегу к борту – там вахтенные спускают шлюпку на воду. Матрос, Серёга, кстати, тоже просто ночевавший на корабле, не вахтенный, готовится в шлюпку спуститься. Говорю ему, что я с ним еду. Вот мы в шлюпке. Кричу ему подождать, сейчас заведу мотор. Серёга мне кричит, что быстрее надо. Так всегда кажется при экстремальных обстоятельствах. При прыжке с парашютом или спасении утопающей – кажется, что всё происходит медленно, неспешно. Вот мотор завёлся. Я кричу ему, что можно отцепляться. Правлю в сторону катера. Он спускается по течению вниз, к нашему кораблю. От катера сильно тянет жаром. Огонь на нём нешуточный. Людей уже не видно. В воду они что ли попрыгали?
Серёга кричит что-то типа того, то надо попробовать толкнуть катер. Момент был не для колебаний, а для решений. Шестым чувством моментально понимаю – никаких толканий. Наша шлюпка резиновая, отпорника, огнетушителя у нас нет, кошки тоже. Нет и спаскругов, спасжилетов. Такое геройство гарантированно закончится плачевным «геройским» неуспехом. К тому же в любой экстремальной ситуации надо в первую очередь думать о спасении людей. Где они, метавшиеся на катере? В воде? Тоже плывут вниз по течению? Без сознания? Я отворачиваю в сторону и делаю круг там, куда кого-то предположительно могло снести. Серёга дёргается: «Куда?!» – услышав мои крики: «Эй, на воде! Есть кто-нибудь?!» – понимает смысл моего манёвра. Всё это длится секунды. Катер, естественно, за это время сносит ещё ниже по течению, он втыкается аккурат между причалом и скулой нашего парусника. Благо он железный.
Мы возвращаемся к месту аварии, причаливаем к бонам. Я кричу Сереге, что надо на корабле найти кошку, верёвку, они в правой боцманской, тогда мы можем попробовать отбуксировать горящий катер. Он кивает и несётся в сторону корабля.
Сбоку подъезжает какой-то катер. С него меня спрашивают что-то, но я поглощён зрелищем того, что происходит на борту, а самое главное под бортом. Катер под бортом горит, видно, как потихоньку швартовные концы с нашего парусника начали гореть, занялась краска на борту. На палубу потихоньку выбегают курсанты. Но я не вижу, чтобы кто-то что-то организовал, какие-то действия по тушению пожара. На палубе суета, мельтешения, крики. Кто-то начал бить в колокол. У меня в голове проносится: «Б..дь, б..дь, б… дь!» – это вырывается само собой и вслух. Риски и опасности надо знать и идти на них сознательно, в этот-то момент я и осознал и риски и опасности, и сознательно, и подсознательно – выскакиваю на бон и бегом мчусь к кораблю.
На бонах, у горящего катера курсант, Дед, это кличка у него такая была, что-то пытается делать – оказывается у него огнетушитель. Но он не работает! Я хватаю его, пытаюсь сам пшикнуть – толку ноль! Он говорит, что один огнетушитель уже весь пшикнули в огонь. Эффекта не было! Я кричу на борт, где уже изрядное количество курсантов, чтобы они выкатывали шланги – и бегом туда, к ним. Шланги моментом выкатываются, втыкаются в гидранты. Хотя несколько из них изъяты под приёмку питьевой воды – с дебаркадера на судно тянется тугая, наполненная водой красная кишка. Её тоже отсоединяют, и мы начинаем лить воду на катер. То я, то курсанты из двух-трёх шлангов поливаем катер водой. Кричу курсанту рядом: «Под рубку, под рубку ему е… шь!»
Наверх всё выбегают люди. Вот мелькнул судовой плотник, Андрей, неспешный и такое впечатление, что неуверенный в себе товарищ. Он ещё не совсем сообразил, что происходит и что-то говорит курсантам. Я судорожно вцепился в шланг и поливаю катер. Кругом гомон и крики. Вот опять курсант льёт, Иван, ему – в паре метров от меня – удобнее это делать. Какое-то время эта борьба продолжается, я кричу, чтобы полили и на конец – носовой шпринг начал тоже гореть. Горит и краска, даже не верится, что краска на железном борту может так гореть – сворачивается в трубочку и отваливается. Камбузный иллюминатор открыт. Как там, внутри? Непонятно. Может там тоже уже горит что. Вода льётся и льётся. И вот мы видим, что затухающий катер потихоньку осел, приспустился вниз, ещё немного осел и медленно затонул! Остаточный огонь был поглощён водами Невы, катер пошёл на дно.
Ура! Мы победили! Облегчение скатывает долой тяжесть, висевшую на плечах всё это время.
На палубу всё ещё выскакивали курсанты. Вот показался вахтенный боцман. Он сам ещё не проснулся, не очень понимает что к чему, но пытается что-то сказать не то распорядительное, не то шутейное, заявить, скомандовать. Я спускаюсь в свою каюту. Дверь напротив открывается, оттуда выходят мои соседи, наши признанные морские волки. Ещё один боцман, Скинхед, по случаю заночевавший на судне, спрашивает, что происходит, на ходу обуваясь. Я ему говорю, что пожар у нас под бортом. Он слушать ничего не хочет, язвит с улыбкой, что никакой это не пожар. Препираться с ним у меня нет ни времени, ни желания, я разыскал моих гостей, объясняю ситуацию: «Вас здесь не было!» – провожаю их до выхода. С вахтенным курсантом договариваюсь, чтобы он сказал, что никого не было у меня в ту ночь. Наш хитрый капитан мог бы этот повод использовать в своих ловких целях, конечно же против меня.
Тут к нам поднимают под руки плачущую женщину, это она с катера. У неё ожоги. Вот я увидел Мишу, вахтенного, я ему говорю, что надо вызывать скорую помощь, у нас на борту женщина с ожогами. Мы начинаем нервно вспоминать номера телефона (их только-только переменили с традиционных 01-02-03 на какие-то «сотые», долго не можем вспомнить какие же сотые точно), по которым можно вызвать скорую. Звоним. На бонах стоят пожарные в защитных костюмах, спрашивают нас, где и что горит, я им кричу, что всё в порядке уже, мы сами утопили катер. По палубе выхаживает боцман Конрад Карлович с полуулыбкой, пытается распорядительные меры изобразить. Сейчас уже всё состоит только в собрании и построении курсантов. Что-то он пытается задорно-поучительное произнести.
Вот по бонам опрометью промелькнула спешащая тень капитана с чемоданчиком. Я высказываю вахтенному боцману моё мнение о текущей ситуации: «Ну что, всё, да? Можно идти спать, я думаю?» Он что-то с полуулыбкой же говорит. Я ухожу спасть.
Через немыслимые перекрёстки мироздания, по дорожкам Земного мира идёт Мокошь, направляя свои стопы в Занебесный Ирий. Туда, где уже Гамаюн поёт свою песню: «Встречу я тебя, любовь моя, да поцелую крепко, и с тобой вдвоём пойдём гулять в наш дивный летний вечер…”. Там, где раскинулись луга, покрытые плотным ковром напитанных жизненными соками трав. Там гуляет Единорог, и Гамаюн только-только прилетел к нему с вестями от Мокоши. Единорог прядает ушами, прислушиваясь к трелям Гамаюна.
На следующий день Слон молодецки руководил покрасочными работами – курсанты красили борт, где краска была подгоревшей. Слон же давал интервью тележурналистам, лихо позируя перед телекамерой. В его физиономии и фигуре я сразу угадываю комсорговскую стать.
Мне Слон с усмешкой сказал, что надо было катер вытолкать шлюпкой, чтобы он дальше по течению сам стащился, да там где-нибудь сам сгорел. Ещё комментарий с его стороны был по поводу шлюпки, что надо сливные пробки вытаскивать, когда шлюпка убирается по-походному. Читатель, если до тебя не доходит смысл всей бестолковости его непутёвой говорильни, то я объясню тебе конкретно, что я не был на вахте, оказался там по случаю, а вообще должен бы был спать где-нибудь дома на берегу. К уборке шлюпки я вообще касательства в ту ночь не имел фактически. Все эти вещи были заботами и ответственностью вахты – боцмана Конрада Карловича, вахтенных матросов и курсантов в его вахте. Если бы во время этого инцидента с катером что-то произошло конкретно со мною или с Серёгой, который тоже не был на вахте, а только заночевал там, то ещё вопрос какие были бы последствия, скорее всего в бумагах написали бы, что не при исполнении трудовых обязанностей покалечились, и никаких страховок ребятам не положено. Боцман и капитан Г., как я подозреваю, только бы порадовались такому неприятному исходу дела.
Говорили, что катер был милицейский, что пьяные менты выехали на служебном катере на реку покататься с девушками. Спьяну что-то не так сделали, вот и взорвался у них двигатель. Слон спросил у парусного мастера сильно ли горело. Парусный мастер ответствовал, что он, как и все остальные, проснулся только по объявленной пожарной тревоге, и когда вышел на палубу, дело было уже сделано, потому и ничего про катер сказать не может, как и ответить на такой слоновий вопрос.
В общем и целом, могу сказать, что все наши лелеемые и пестуемые «морские волки» в ту ночь благополучно спаслись. Вернее были спасены, главным образом курсантами. Да нами, матросами, которых так ненавидит наш товарищ капитан Г. и его подручные. Все крутые мореманы во время происшествия отсыпались, в каютах ли или дома, но на местах и во время событий они не были замечены. Очень характерный для реальной, не показной телевизионной действительности факт.
Мы стояли в Питере ещё два-три дня, а затем отчалили в поход на Руан, во Францию. За эти дни корабль был подкрашен кое-как, а также мы переставлялись ниже по течению, дабы прибывшая спецкоманда могла поднять со дна реки катер. Его покорёженные обгорелые останки производили впечатление. На отчаливании обгоревший конец лопнул. Хорошо, что никого не убило. Плохо то, что товарищи боцманы и вообще начальники не позаботились о том, чтобы конец заменить во время стоянки на новый, не порченный огнём.
В тот поход мы как могли погоняли курсантов по мачтам-реям, на верёвках, чтобы они пообвыклись на палубе да в работе с парусами.
Руан, Армада
Входим в Руан, Сена потихоньку втекает в бетонные одеяния берегов. Вахты на руле по реке обязательно проходят под проводкой лоцмана. Звучат команды: «Starbord twenty!», «Midships!» Репетовка команды, джойстик гоняет стрелку аксиометра соответственно, доклад по выполнении: «Starbord twenty now!», «Midships now!» Команды лоцмана-француза на английском понятны, мы оба «неносители языка», говорим на интернациональном акценте. По реке нам надо следовать строго в рамках судового хода, потому на руле стоим мы, матросы, курсантов отправляют на крылья мостика, «вести наблюдение».
Моя вахта подходит к концу, всё-таки не думал, что эта река окажется довольно длинной и немаленькой, день ушёл на то, чтобы пройти Сену. Сдаю вахту на руле: «Заданный курс 180, магнитный – 176, нулевое положение – 5 градусов левого борта. Руль сдал». Принимающий повторяет цифры, берет руль. Мой последний вопрос: «Разрешите идти?» Старпом выдерживает двухсекундную паузу строгости, едва заметным кивком и ещё менее заметным движением губ даёт «Добро». Капитан молчит отстранённо и хмуро. Лоцман на крыле мостика цепко отслеживает обстановку и громко и чётко отдаёт команды, судовой ход достаточно извилист, течение реки вносит поправки в управление судном, скорость которого под двигателем совсем не гоночная.
Я ухожу с мостика, на палубе курсанты готовятся к швартовке: «Швартовым командам по местам швартовки стоять!» – традиционный пролог захода в любой порт прозвучал устами старпома по «громкой» минут за пятнадцать до конца моей вахты. Мы смотрим на город, медленно, по мере движения нашего парусника, «вползающий» в пейзаж береговой линии, эта береговая линия здесь уже украшена другими гостями «Армады» – парусного фестиваля, который проходит в Руане каждые пять лет.
«Америго Веспуччи» привлекает внимание кадетов, красавец-корабль из той серии, которая была заложена в Италии в двадцатые годы. Эти парусники принципиально были построены с максимальным соблюдением технологий восемнадцатого столетия – дерево, растительные канаты, не говоря уже обо всех остальных элементах и характеристиках судна, обводы корпуса которого своей выпуклостью, белыми пушпортами, а также грациозными узорами, украшающими княвдигед, форштевень, корму, создают на фоне современного города красивый образ элегантного сеньора, остановившегося передохнуть от нелёгкого столетнего путешествия по оказии у причальной стенки неподалёку от изящной Нотр Дам де'Руан. Их было три в этой серии, однотипных. После поражения в войне Италия отдала по репарациям два из этих парусников, остался у неё один вот этот «Америго», который используется и по сегодня в качестве учебного парусника для «маринеро» – курсантов военно-морских учебных заведений. Дух корабля витает где-то среди них, передавая им крепость духа десятков поколений курсантов, освоивших на его палубе мореходные премудрости.
Содержать корабль в полном соответствии с технологиями XVIII столетия – удовольствие весьма и весьма дорогое, канаты, тросы из манилы, сезали, пеньки (но не из синтетики) в достаточном количестве, регулярно обновляемые во всём такелаже судна. Дерево (а не металл и пластик) в корпусе, паруса из натурального (а не искусственного) волокна, нагели, блоки соответствующего стандарта и множество прочих мелочей, которые в промышленном масштабе и количестве давным-давно не производятся – всё это судовое снабжение особого свойства, по нынешним временам раритетного характера, дело затратное, а значит и дорогое. Корабль – большой, потребности в таком снабжении у него немаленькие, очевидно, для бюджета Италии это было слишком уж большим удовольствием. Потому корабль перестроили, корпус теперь из металла, верёвки и паруса – из синтетики. Наверняка ещё много чего перестроили, корабль живёт, обновлённый, но в формах своих и внешнем виде сохранивший стать времён парусного флота «эпохи Просвещения».
Не повезло его собрату «Христофору Колумбу», доставшемуся по репарациям Советскому Союзу. Корабль был в СССР переименован в «Дунай», планировали его использовать тоже для курсантов, тоже военно-морских. Также такой редкостный тип судна было затруднительно содержать, потому его практически не использовали, стоял он в основном где-то на Чёрном море (а в XVIII столетии подводную часть корпуса против древоточцев и прочей нечисти крыли медью, чего, конечно, в наши дни советские моряки позволить себе не могли), где в 60-е годы корабль тихо-мирно и догнил до конца. Как и большинство кораблей морской славы России, кстати говоря.
А итальянский его собрат живёт и здравствует и по сей день, привлекая во всех портах захода массы туристов на борт. Помню, как впервые увидел его в Питере летом 2006 года, длиннейшая очередь из желающих попасть на него отбила тогда у меня охоту потерять час-другой времени. Теперь вот довелось его ещё раз повстречать.
Я надеваю каску и рабочие перчатки, на корме боцманы уже готовят выброски, у курсантов весьма приподнятое настроение, это для них первый порт захода в эту навигацию.
Запомнились мне дни стоянки в Руане регулярными корпоративными вечеринками у нас на борту. Постоянно какие-то фирмы там что-то отмечали. Все французы, я их языка не знаю, о чём они толковали там, было не понятно. Запомнилась пара – был там на борту у нас джаз-банд, а пара танцевала и как профессионально! – под эту музыку. Она француженка, он – чернокожий парень спортивного сложения. Он отлично говорил по-русски, как оказалось. Интересные люди, жаль, что познакомиться не удалось.
Каждый день были массы посетителей. Огромные толпы. Позорный ящик с просьбой о помощи отсутствовал с тех пор, как в Академии был новый начальник, с которым наш капитан Г. не ладил, судя по всему, капитально. Вероятно, и из-за этих вот «капиталов», которые новый начальник запретил собирать, и капитан лишился одной из своих кормушек, а за деньги такие люди, как капитан Г., готовы и нос и уши и ещё много чего другим оттоптать.
Идёт наша вахта, мы натянули тент. На борту толпень туристов. Вдруг одна старушка из толпы подходит ко мне. Она действительно старушка, но улыбается очень по-доброму, молодо как-то, приятно смотреть на эту её улыбку. Она говорит на чистом, но необычном русском, что-то неуловимое в её речи отличает её говор от моего, от нашего. Не помню уже, что она спросила, но она продолжила тем, что парой слов представилась – дочь белогвардейцев, эмигрировавших из России после поражения в Гражданской войне.
Тут я понимаю, что она говорит на «том» русском, дореволюционном. Но я всё равно не могу никак понять что же в нём особенного, акцент ли, диалект ли, речевые обороты или какие-то слова – всё звучит так же, как и я мог бы сказать. Но в её речи есть что-то особенное.
Она говорит, что для них, для русских, которые помнят ещё «ту» Россию, совершеннейшей дикостью звучат все новости, которые они слышали из Советского Союза, из нынешней РФ. Содружество независимых государств, война в Чечне, расстрел парламента, приватизация, коллективизация, индустриализация – все эти слова не из того русского языка и не из того русского мiра, который она и её родители потеряли.
Иная эпоха заглянула мне в душу её глазами. Щемящая тоска по прошлому закралась в сердце и затаилась в нём, наверное на всю оставшуюся мне жизнь. Как же наши предки не додумались все взять винтовки в руки и не вышвырнули безрогого чёрта лысого, усевшегося в Кремле? Какой позор они опрокинули на себя самих и все будущие поколения, включая меня? Как этот позор смыть? Да были бы мы с нею равного возраста, спел бы я её цыганочку, да не хуже того Гамаюна, что нынче поёт её в Занебесном Ирие: «Что за чудный вечер, выйду погулять я…» Наши судьбы, разделённые континентами странствий и целым веком времени требовали встречи, участия друг в друге, и это было невозможно, немыслимо. И тем не менее, мы увидели друг друга в этом мире, погрязшем в затопях лжи и тщеславия. Это была краткая встреча, ничего не означавшая ни для меня, ни для этой старушки. И в то же время она значила для меня так много, как вряд ли бывало до того.
