Атаман всея гулевой Руси
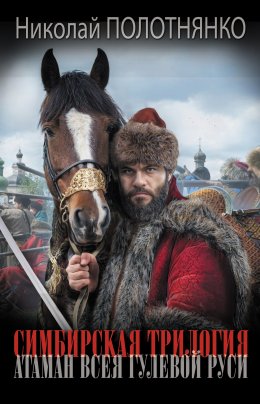
© Полотнянко Николай Алексеевич, 2014
© ООО «Издательство АСТ», 2014
- Русь была некрепка.
- И казак Стенька Разин
- Поманил голытьбу на удачу и риск.
- И свирепого бунта пошли метастазы
- На Москву,
- Но запнулись о верный Синбирск.
- Город был возведён
- Как форпост на востоке,
- От набегов разбойничьих стража и крепь.
- Он стоял на обрыве, крутом и высоком,
- И сторожко глядел на немирную степь.
- Стенька Разин поджёг
- Русь святую низовий.
- Пал Царицын,
- Саратов, Самара – вослед.
- И дохнуло пожаром и запахом крови
- На Синбирск,
- И крутым приближением бед.
- – Вор у стен, —
- Доносил своему государю
- Князь Барятинский, —
- Выжжен посад.
- Сдан стрельцами острог,
- Но снесём эту кару,
- Уповая на Бога
- И строй иноземный солдат.
- Но Господь не помог.
- И бежал по Казанской дороге
- Князь, и с ним недобитая рать.
- На казацком кругу,
- В синбирянами сданном остроге,
- Решено было крепость осадою брать.
- А пока
- Распустил Стенька Разин загоны
- По округе, чтоб гнёзда дворянские жгли,
- И казачьи повсюду вводили законы,
- И рабов превращали в хозяев земли.
- И стекались к Синбирску
- Несметные толпы.
- И кипели, как брага,
- От хмеля и зла:
- Казаки, бурлаки, бобыли и холопы…
- Жажда мести и воли
- Их на приступ вела.
- Целый месяц Синбирск
- В круговой был осаде.
- Но не дрогнул державный
- Двуглавый орёл.
- А в Казани Барятинский новые рати
- Собирал
- И на выручку городу шёл.
Глава первая
Соловый конь, оставленный Максиму верным человеком, оказался крепким и привычным к лесу: шёл, сноровисто обходя поваленные старостью и буреломом деревья, не лез в чащобу, а выбирал путь попросторней среди мелколесья и остерегался болотин, откуда несло гнилью и сыростью. В первые дни пути убеглый холоп не стремился попасть на проезжую дорогу, останавливался часто и подолгу. Думы о потерянной Любаше разрывали его сердце отчаяньем. Во всем, что с ней случилось, Максим винил только себя, и от этого ему становилось ещё горше. Несколько раз он порывался вернуться в Воздвиженское и сжечь усадьбу Шлыкова, но бессильный гнев понемногу отгорал в нём, хотя, и это ему было ведомо, память о Любаше всегда будет тлеть в его сердце незатухающей болью, как угли под пеплом.
Назад пути не было, и, проснувшись от шума вековых сосен, он умылся в роднике, разгрыз сухарь, запил водой и, свистнув бегавшего в кустах пса, пошел к высокому холму, чтобы оглядеться. Скользя по лиственной опади, Максим взобрался на вершину и увидел, что вокруг него, куда ни кинь взгляд, простирается дремучий лес, без малейшего намека на присутствие человека. На вершине ярко сияло солнце, а внизу лес был затенён и сумрачен, из него ещё не ушла ночь, но мало-помалу верхи деревьев уже начинали светлеть и отсвечивать молодой листвой.
Внезапно отчаянно забрехал Пятнаш, и чёрная тень скользнула по земле. Пёс выскочил из-за дерева и прижался к ногам хозяина. Рядом снова промелькнула тень, и Максим понял, что своим появлением он обеспокоил орла, свившего громадное гнездо в ветвях могучего дуба. Орел сел на толстую ветку и, втягивая голову в плечи, неотрывно смотрел, готовый броситься на пришельцев в любое мгновенье. Максим сбежал вниз, схватил лошадь за повод и поспешил укрыться в частых зарослях молодых дубков. Вдогон раздавался шип и клёкот разъярённого хищника.
«Царь-птица! – восхитился Максим, чувствуя, как в ногах и руках утишается дрожь ознобного испуга. – На такой чудо-птице в один день домчался бы до Волги-реки! Вольно ему летать, где похочет. А тут ползи, как червяк, и не знаешь, куда выползешь».
Этот случай убедил его, что в лесу смертельного подвоха можно ждать отовсюду. Максим отошел от холма, привязал Солового к дереву и рассупонил вьюк. Достал из кожаных ножен выкованный им самим клинок, полюбовался матовым блеском металла, коротко размахнулся и срубил, как былинку, в руку толщиной березку. Приладил оружие к поясу, сел на коня и направился в сторону восходящего солнца.
К полудню Максим вышел на поросшую сосновым редколесьем гриву, остановился и посмотрел назад. На самом краю неба он едва отыскал холм с орлиным гнездом на дубе, а впереди перед ним простирался все тот же бескрайний лес.
Спустившись с гривы, Максим обрадовался ключевому ручейку, быстро текущему в меловом ложе, напился воды и напоил коня, который измаялся отбиваться от комаров. Было жарко, и они качающимися столбами висели в воздухе, лезли в рот, уши, глаза, забивали ноздри. Максим с надеждой посмотрел на небо, но на нём не было ни облачка. Перейдя ручей вброд, он вошёл в ельник, сырой и тенистый. Земля под ногами мягко пружинила, колючие ветки хватали его за одежду, было душно, но Максим упрямо шёл вперед, пока ельник не кончился и начался светлый, березы и осины, лес. Солнце уже клонилось к земле, и он, выбрав небольшую сухую поляну, остановился. Сняв с коня вьюк, удлинил повод и пустил Солового пастись. Пятнаш упал на траву и тяжело дышал, высунув язык.
К вечеру Максим преодолел еще верст с десять пути и, когда начало смеркаться, отыскал родничок, напоил коня, набрал котелок воды и ударами ноги разломал гнилую березу на кострище. Развел огонь, вскипятил воду, насыпал в неё три горсти толокна, перемешал, остудил варево и поел.
Костер догорал, и Максим решил, что огонь нужно поддерживать всю ночь, и поджёг толстый березовый обломок, положив рядом ещё несколько, чтобы пламя переходило с одного на другой. Он плохо знал лес, но осторожность подсказывала ему, что вокруг немало бродит зверей, которых следует опасаться. Пёс тоже чего-то боялся, жался к хозяину и сторожко прислушивался к лесным шорохам, скрипам и вздохам.
В чащобе ухнул филин. Пятнаш приподнял голову и насторожился. Максим отвернулся от света костра и огляделся. Вокруг никого не было, лишь тревожно пошумливали верхушки деревьев. Он сгреб в кучу сухие листья, сделав из них мягкую и пахучую лежанку, и лёг, положив под голову шапку. Крупно вызвездило, небесные огни, казалось, висели совсем близко над землей, почти касаясь верхушек деревьев.
Утром Максим вошёл в зрелый вековой бор, где сосны были столь высоки, что, казалось, подпирали небо. Громадные деревья не теснились, а стояли в почтительном отдалении друг от друга, прогонистые стволы увенчивали редкие ветки крон, кора понизу, у комлей, была тверда, как камень, темна, и только где-то с середины ствола начинала светлеть и золотиться, отцеживая пахучие капли янтарной смолы.
Но величавые сосны не были одиноки в этом лесу. Чуть ниже полога хохластых сосновых вершин на фоне синего утреннего неба выделялись острые верхушки елей. Тёмная, почти чёрная их хвоя стремительно скатывалась во все стороны вниз, в полусажени от земли резко обрывалась, открывая чёрно-лиловый ствол и космы лишайников, свисающих с ветвей.
В прогалинах стояли кущи менее теневыносливых деревьев: рябины, клёна, липы, кустарники крушины и жимолости. Где-то неподалеку стучал дятел, падали сверху пересохшие сосновые шишки, сыпалась хвоя. Пахло грибницей и особым крепким настоем сосны, от которого у Максима закружилась голова. Он сел на поваленное дерево, и его охватила дремота и слабость.
Из этого полусумеречного состояния Максима вывел лай собаки. Пятнаш лаял часто, с повизгиванием, который выдавал страх. Соловый тоже забеспокоился и захрапел, вырывая из рук Максима повод. Он вскочил и с ужасом увидел, что перед ним – медведь. Ноги подкосились, и Максим опустился на бревно. Медведь покачался из стороны в сторону и тоже присел на задние лапы, а передние раскинул, будто хотел кого-то обнять. Максим выпустил повод, конь убежал в кусты, следом за ним кинулся и Пятнаш.
«Как же мне с ним совладать?» – вспотев от страха, подумал он и хотел взяться за рукоять сабли, но решил оставить эту затею. Два десятка шагов медведь преодолеет в одно дыхание и замнёт его, как муху. В горле запершило, и Максим осторожно кашлянул.
– Что тебе надобно, дедушка? Иди своей дорогой, а я своей. Ты не голоден, не шатун, зачем пугаешь прохожего человека? Я тебе зла не сделал. Отпусти меня…
Максим встал и осторожно шагнул вперед. Медведь тоже встал и шагнул ему навстречу. Максим отступил и сел на бревно. Медведь тоже вернулся на старое место.
Максим долго разговаривал с медведем, рассказал, кто он, откуда и куда идет. Медведь слушал его и кивал, будто что-то понимал. Максим вконец измотался и уже решил было пойти на хозяина леса приступом, будь что будет. Но его выручила сорока-стрекотуха, она так раскричалась над елью, под которой сидел медведь, что тот не вытерпел, рявкнул, махнул передней лапой и побрёл, не оглядываясь, в заросли рябины. А сорока, прыгая с дерева на дерево и стрекоча, последовала за ним.
– Слава тебе, Господи, ушёл! – Максим перекрестился и побежал искать коня.
Тот спокойно пасся неподалеку, а Пятнаш дремал на сухой, разогретой солнцем кочке.
– Хорош сторож! – Максим легонько пнул пса. А тот виновато юлил вокруг ног хозяина и радостно лаял. Немедля Максим вскочил на коня и рысью направился от опасного места.
«Может, это и не медведь был, а оборотень, – думал Максим. – И место это заклятое».
За купой высоких осокорей Максим увидел ручей, напоил коня, осмотрелся и, увидев слабо заметную тропу, пошёл по ней, держа коня в поводу. Вскоре пахнуло дымком, затем показались колья ограды, в которой были узкие ворота.
– Есть кто живой? – крикнул Максим.
Вскоре послышались неторопливые шаги, ворота растворились, и Максим увидел старого монаха, который, подслеповато щуря глаза, оглядывал гостя. Одежда на нём была ветхая, заплата на заплате, на плечах зипун, на ногах поскрипывали лапти.
– Доброго здоровья, батька, – сказал Максим. – Прости, коли тебя потревожил.
– Заходи, – молвил монах. – Коня за изгородь привяжи. Здесь лихих людей нет. Да и что тут им делать? Лихие люди меж обычных людей шныряют, чтобы была выгода.
Он закрыл ворота, подпёр их крепкой палкой.
– А забор тебе для чего? – спросил Максим.
– Звери балуют. Любопытства в них много. Одна лисица забралась в келью, я захожу, так она, бедная, чуть со страха не померла. Пришлось уйти, чтобы она выбралась.
Войдя в келью, Максим увидел складень, прикрепленный в углу, и перекрестился. Сруб кельи был на полсажени заглублен в землю. Низкий закопченный потолок лоснился от сажи. Волоковое оконце, видно, никогда не затыкалось и обросло паутиной. Вдоль стены была приделана лавка, на которой лежала рогожная подстилка и полено вместо подушки. Воздух в келье был сырой и зольный.
Снаружи раздался заливистый пёсий лай. Максим с отшельником вышли во двор и увидели, как Пятнаш, упершись лапами в ствол ели, кого-то облаивает наверху.
– Белка, видать, – промолвил монах. – Звери здесь непуганые.
Максим, смущаясь, рассказал ему о встрече с медведем.
– Эка невидаль, что испужался. Никогда не поймёшь, что у него на уме. Вроде улыбается, а на деле скалится. В старые времена медведи отшельников чтили, о том в житии преподобного Сергия Радонежского сказано. Этот медведь ко мне захаживает, потрясет колья, а я молюсь, чтобы живу остаться. Но во всю свою силу никогда городьбу не ломал, побалует и уйдет.
За кельей была видна обработанная земля.
– Сажу каждый год капусту, репу, морковь. Этот год тыквы посадил. Хлебца и соли мне привозят из Ардатова, мои дети духовные, Кирилл и Фёдор.
– Давно здесь бытуешь?
– Годов десять. Поначалу страшно было, особенно в непогоду: ветер воет, деревья стонут, кажется, бесовское войско обступило келью и ломится на приступ. Аз, грешный, возглашаю имя Божие… А ты куда бежишь от отца с матерью? На лихоимца вроде не похож, от тех чад, как от головни, исходит. А ты чист душою, только, чую, не все у тебя ладно, парень.
– На вольные земли иду, а найду ли их, не ведаю. На прежнем месте мне было держаться не за что: ни земли, ни избы, была Любаша, да и та на себя руки наложила по злой воле сластника барина.
Отшельник молча выслушал Максима и потянул его за рукав в келью. Там взял с полки сухарь, вяленого леща и положил на стол.
– Не надо мне угощенья, батька, у меня все есть, – сказал Максим. – Ты мне лучше скажи, как такому, как я, жить дальше на белом свете?
– Это должно быть тебе известно сызмала, – сказал отшельник. – А если ты того не ведаешь, то знай: не переступай заповеди Господа нашего, утишай свою гордыню и беги от уныния.
– Куда бежать? – в отчаяньи вымолвил Максим. – От себя не убежишь, а в монастырь или в такую келью, как твоя, я негоден: хочу жить с людьми.
– А что тебе мешает, живя среди людей, сохранить душу? – ласково произнес монах. – Я по твоим рукам вижу, что ты с огнем и железом навык работать, вот и трудись с зари до зари людям в радость и себе в утешенье, в этом твое счастье.
– Может, я на Волге его найду, – сказал Максим. – К тебе путники забредают, знать, ты ведаешь, что меня ждет на синбирской украине?
– Не вовремя ты побежал, парень, – вздохнул отшельник. – Ведомо мне, что скоро на Руси начнется смута, какой не бывало. А ты не прилепляйся к бунту. Кто ты? Мужик, кузнец. Вот и держись за свою работу, детей плоди… А теперь ступай, мне время становиться на молитву.
Монах повернулся к образам, перекрестился и опустился на колени. Первые же слова молитвы унесли его душу к горним пределам от земного и суетного мира.
Максим вышел из кельи, осторожно притворил за собою дверь и, ведя за собой в поводу коня, пошел вдоль ручья, который тёк, понемногу раздвигая берега, проталкиваясь через лес, и становился ещё малой, слабосильной, но настоящей речкой. Внезапно она раздалась вширь, и Максим вышел к небольшой запруде, устроенной бобрами. В этом месте речушка была перегорожена плотиной из деревьев и сучьев, и вода, тихо плескаясь, перетекала через ее верх.
Максим поднялся повыше и остановился, оглядывая бобровые владения. Хозяева плотины особо не таились, в кустах ивняка послышался тяжёлый плеск, из камышей выплыл бобр, сплавляя за собой только что срезанную его зубами осинку. Не доплыв до плотины, он выпустил деревце, и оно по течению прибилось к перемычке, видимо, там, где это было нужно. Вынырнули ещё несколько бобров из своих подземных нор и поплыли к берегу. Вскоре там послышался размеренный хруст: бобры делали извечную, определенную им природой работу…
За несколько дней до масляной недели приказчик привёл в кузницу монаха.
– Максимка! – велел Емельяныч. – Господин посылает тебя в монастырь, у тамошнего игумена случилась великая нужда в кузнечном умельце. Гаси огонь и скоро одевайся!
– Снасти с собой брать? – спросил Максим.
– У нас добрая кузня, только вот кузнеца нет, – сказал монах, опасливо взирая на пса, который неотрывно на него глядел.
– Возьми меня с собой! – пискнул сирота Егорка, что помогал Максиму по мелочам и жил в кузне.
– А ну, кыш! – прикрикнул на мальца Емельяныч. – Поторапливайся, Максимка, и смотри мне там – не балуй!
Утром на дворе завывала метелица, а к обеду распогодилось: небо прояснилось, воссияло солнышко, снега вокруг лежали чистые, белые, немятые, белизны добавляли атласнокорые берёзы, которые тесно стояли вдоль узкой, в одни розвальни, дороги. Вокруг было празднично тихо, только изредка раздавался сорочий стрекот, да ёкала селезенкой старая монастырская кобыла и позванивала обмерзшей сбруей.
Максиму была ведома эта дорога: поздней осенью он шёл по ней в монастырь по вызову, гадая, какую работу припас для него игумен. Путь был непростым, через глубокие овраги и крутые взгорки, а вокруг глухоманное чернолесье. Минул Покров, и к вечеру крепко подморозило, Максим был в домотканом армяке и озяб так сильно, что, когда его привели к игумену, губы у него дрожали мелкой дрожью. Настоятель это заметил и велел налить ему липового взвару с медом. Испив сбитню, Максим заметил, что на стольце, рядом с лавкой, стоят чудные часы немецкой работы.
– Слышно, ты не здешних мест человек, – сказал старец. – Откуда явился? Где кузнечному умению научился?
– По весне умер брат моего барина и по духовой меня отписал ему, – сказал, низко поклонившись, Максим. – А кузнечному ремеслу научился в Туле, куда меня покойный господин определил десяти лет отроду.
– Туляки добрые умельцы по железу, – сказал игумен. – Тогда не дивно, что ты князю Муромскому шведский мушкет исправил. Вот теперь погляди часы, сможешь ли починить?
– Не ведаю, батюшка. Поглядеть на часовые хитрости надо.
Часы были сделаны из бронзы и покоились на мраморной подставке. Максим повернул их к свету, снял заднюю крышку и подивился, какого мусора там только не было: всякие букашки-таракашки и махонький паук, которого умелец застал врасплох за плетением паутины. Он сильно дунул и напылил вокруг. Игумен расчихался до слез, Максим тоже.
– Осилишь работу? – спросил старец.
– Попробую. У моего покойного барина, который был приставом Посольского приказа, были часы вроде этих. Прикажи, благодетель, дать мне чистую тряпицу, чарку двойного вина и плошку деревянного масла.
– Отец эконом! – велел игумен. – Выдай умельцу просимое. И приглядывай за ним, чтобы не утёк. По делам и расчёт ему будет – батоги или шуба с моего плеча!
Скоро всё нужное для работы было доставлено. Максим тщательно промыл по три раза шестерёнки, запустил часы. Старенький игумен обрадовался, как малое дитя, даже в ладоши захлопал. С сияющей улыбкой слушал часовое тиканье, смотрел на подвигающийся незаметно для глаз цифровой круг и восхитился:
– Чудо великое! Я едва до ветра сходить успел, а четверти часа как не бывало!
Утром игумен пожаловал умельца ношеной овчиной шубой и отправил восвояси.
– Слушай, батька, и давно стоит твой монастырь? – спросил, наскучив долгим молчанием, Максим.
– А тебе что за дело? Но коли спросил, так внемли. Вскоре по нашествии поганого Батыги был Муромским епископом благочестивый пастырь Василий. Вёл он жизнь праведную, но ослеплены были миряне бесом и стали его чернить. Тщетно праведник доказывал невиновность свою, эти безрассудные хотели убить его. Тогда Василий и возгласил: «Отцы и братья! Дайте мне малое время до утрия, до третьего часа дня!» Кротость епископа и произнесенные им слова поразили народ, и тот мирно разошёлся по домам. Благочестивый архипастырь молился всю ночь в храме, затем, возложив надежду спасения своего на заступницу Богородицу, Василий приял чудотворную икону и подошёл к Оке. Провожавшие его чада хотели дать ему судно для плавания. Святый же, стоя с образом Богородицы на берегу, снял с себя мантию, простер её на воду, ступил на неё и был унесен против течения до того места, что ныне зовётся Старая Рязань. Место, где архипастырь ступил на воду, с того часа почитается святым. Со временем там возникли первые ветхие келейки монахов, затем монастырь. А вот он сам!
Монах снял шапку и три раза перекрестился. Максим последовал его примеру.
Над белизной заснеженных полей ярко вспыхнули золотыми брызгами купола собора.
Возле стен богатой обители шумело торжище. Через множество спешащих людей, пеших и конных, они протолкнулись к отверстым воротам монастыря, въехали через них на площадь, там оставили лошадь у коновязи и вошли в покои. Розовощекий отец эконом поморщился от угольного запаха кузнеца и повёл Максима в сарай, где находились телеги, сани выездные и розвальни. Обочь от них, на помосте из брёвен, стояла коляска, чёрная, с вычурными изгибами, на ажурных колесах, с окошками и приступками для ног. Для кучера имелось кресло, над ним козырёк от дождя и также приступка для ног.
– От самого князя Черкасского дар обители. Везли из Польши – цела осталась до Москвы. А у нас на переправе вздумали тащить через яму на руках. Уронили, ироды, и ось сломали.
Утром, съев на скорую руку кусок хлеба с квашеной капустой, Максим поспешил к иноземной коляске. Долго ходил вокруг неё, присматривался к узорной работе и прикидывал, с чего начать. Надо было идти за снастями в кузницу, и первый же монах, не удивившись просьбе мирского человека, провёл его к чёрной избе, отпер засов и ушёл. Максим зажёг лучину, закрепил её в поставце и стал осматриваться. Снасти в кузне нашлись: молотки, щипцы всяких размеров, выколотки, в углу Максим разобрал кучу железа и нашёл четырехгранный брусок подходящей длины, из которого можно было выковать ось. Раскрутил точило, попробовал находку на искру, оказалось подходящее железо, прокалённое, без раковин. Пошёл в другой угол и поразился: там были свалены кольчатые оковы, многие с длинными зазубренными стержнями, которые забивались в огромные неподъёмные столбы или колоды, чтобы удержать узников. Посмотрел, потрогал, послушал кандальный звон.
Хотя заготовка и выглядела прочной, Максим решил её ещё проковать в несколько заходов. А для этого требовался подсобник. Максим вышел из кузни и, увидев отца эконома, поспешил к нему.
– Спирька! – окликнул отец эконом рослого парня. – С сего часа будешь у него в подсобниках.
Максим хотел разглядеть Спирьку получше, но увидел Любашу. Она вышла из владычьего терема и направлялась к воротам.
– Иди в кузню и разведи огонь на горне. Я сейчас приду, – сказал Максим и бросился за Любашей. Догнал её уже в торговых рядах, тронул за плечо. Она живо обернулась и заулыбалась.
– Максим! Мне в последние дни всё казалось, что я тебя встречу.
– Я и не ведал, что тебя здесь найду.
– Барыне сильно неможется. Кашель её забивает, исхудала. Боярин на неё злобится. Знахарка сказала, порчу на неё навели. Вот и пришли на богомолье. Барыня с постели не встаёт. Попросила купить сладенького.
К ним подкатился разбитной мужичонка с коробом, полным бус, лент и других девичьих радостей.
– Заплети, соколик, красной девице ленту в косу – век твоя будет!
– Врёшь, поди?
– А ты оглянись, милый! Все, кто у меня ленты брали, счастье обретали!
– Ну, ладно! Давай пару.
Мужик выдернул две красные ленты, ловко подхватил брошенную Максимом денежку и убежал.
Он протянул ленты Любаше.
– Не умею я вплетать ленты в девичьи косы. Но считай, что вплёл.
Любаша засмущалась, но ленты приняла.
– Ой, тороплюсь я! Боярыня ждёт.
– Приходи меня навестить, Любаша. Я целый день в кузне монастырской буду. Мне тебя видеть – радость!
Спирька разжёг на горне огонь и веником подметал пол. Максим показал ему, как работать мехами, сделал первую засыпку угля, взял снасти и пошёл разбирать заморскую коляску.
Спирька скоро усвоил, как держать молот, и наловчился ударять по тому месту заготовки, на которые кузнец укажет своим молотком. Под ударами самородное железо усаживалось, выплескивая окалиной вредные для его крепости примеси.
– Когда постриг примешь? – спросил Максим.
Спирька метнул на него испытывающий взгляд и нехотя ответил:
– Какой мне постриг. Я тут в работниках зимую.
– Что, разве и так жить можно?
– Ещё как! Зимой здесь тепло, еда есть, работа легкая. Вот зашумит дубрава зелёными листьями, и уйду на волю.
– Так поймают! – Максим пнул оковы. – Забьют в железо.
– Пока не поймали. Сызмала по монастырям шатаюсь, кое-где уже по два раза побывал. Я человек смирный, людей живота не лишаю. Вот взломает Оку и Волгу, уйду с купцами на Низ, до моря.
– И не страшно? Уйдешь, и родные не узнают, где запропал.
– Это на Москве страшно, а на Волге вольготно! Соберутся в кучу две сотни дощаников, насад, стругов: государевых, патриарших, боярских, иноземных, наших купеческих, и айда! Распустят паруса по ветру, кормщик на кормиле только успевает ворочать веслом из стороны в сторону, чтобы на мель не напороться, и несёт всех высокая вешняя вода на полуденное солнце. По берегам странники бредут, а куда? Всё туда же – волю ищут!
– Разве есть место, где можно жить вольно? – сказал Максим, крепко заинтересовавшись словами подсобника.
– Как не бывать! Только снег сойдёт, и побежит народишка от тягла да долгов на юг. Кто к донским казакам норовит пристать, но те не всех берут, молодых только. А с Дона выдачи нет. Сейчас больше бегут на засечную черту, на волжскую Украину. Кто ты, откель, больно не спрашивают, лишь бы человек был. Землю занимай, какую хошь, паши, и никого над тобой. Одна опаска – ногайцы налететь могут, и избу спалят, и самого уволокут. Сейчас больше по Волге селятся. Новую крепость поставили – Синбирск. На высокой горе стоит. К ней новожители и жмутся. Чуть что, ударят в сполох, и все за ограду прячутся. Рыбы там много, дичи лесной, земля добрая. Своим умением работать по железу тебе цены там не будет. Бегут кто? Нищета, голи кабацкие, они и топора в руках не держали.
Рассказы бывалого монастырского жителя разбередили душу Максима.
Ночью его поднял ото сна крепкий тычок в спину.
– Ты кузнец? – сказал стрелец и череном бердыша опять ткнул в бок.
– Я, а что? – спросонья Максим не понимал, что происходит. Ему только что снилась Любаша, а наяву обнаружилось мурло, заросшее волосяной ржавью.
Стрелец поволок Максима за собой, ступая сапогами прямо на спящих богомольцев. На монастырской площади возле невысокой каменной палатки стояли розвальни, и в них, гремя цепями, бился в корчах человек.
– Никониане! Блядино семя! Мните, взяла ваша диавольская сила! Аз не един страдалец за веру Христову! Кажете Богу трехперстный кукиш и на спасение надеетесь? А ты кто есть, никонианский выблядок, козел толстобрюхий, каким саном нарек тебя диавол в этом вертепе?
Отец эконом, к которому обращался скованный человек, закричал:
– Закройте ему пасть! Волоките в подклеть! Где кузнец?
Максима вытолкнули вперед. Раскольника поволокли вниз по ступеням, в каменный мешок без окон, с крепкой входной дверью.
– Кузнец! Закуй его так, чтобы сидеть не мог! Распни его по стене!
Стрельцы обвязали раскольника вокруг подмышек цепями, и Максим тяжелыми ударами вбил аршинный железный клин в каменную кладку. Отец эконом попробовал прочность крепления.
– До утра пусть повисит, а завтра мы его на Москву направим. Там его не по-нашему расспросят, а с пристрастием.
Остаток ночи Максим провёл без сна. Сидел, нахохлившись, в углу трапезной, думал. Отчаянный раскольник не выходил у него из головы. Тщедушный мужичонка, щелчком перешибить можно, а духа великого!
Утром за Максимом припёрся тот же стрелец: узника надо было освобождать из оков. Конвойные стрельцы, видимо, испробовав монастырских медов, были веселы и благодушны.
– Иди один, чай, не забоишься дохляка. Это они на глотку сильны, а на другое не годны.
Максим поджёг смольё от костра и спустился в подвал. Колодник встретил его разъярённым взглядом, но, увидев, что перед ним всего лишь мужик, а не монастырские никониане, успокоился. Максим взял в руки кольцо цепи и, крякнув, разорвал его.
– Силен ты, парень! – удивился раскольник. – Чей будешь?
– Боярского сына Шлыкова холоп. Сюда послали кузнечить. Коляску игумену делаю.
– Вижу, верный ты человек! Не сробеешь передать грамотку?
– Не сробею!
– Если что, кричи – бес попутал!
Раскольник сунул ему в руку бумагу.
– На торге найди купца Автонома Евсеева, он в мясном ряду стоит. Ему и отдашь. Скажешь, что от верных людей.
– Сделаю.
Вдвоем они вышли на свет. Стрельцы повалили узника в розвальни, залезли, отягчённые трапезой, на коней, и поезд двинулся из стен обители. Они поехали через торг. Узник вскочил на розвальнях, что-то закричал, народ оцепенело ему внимал, а стрельцы начали стегать коней и толпу, чтобы скорее выбраться на безлюдье.
Переждав, пока народ успокоится, а стрельцы со своим узником скроются из виду, Максим неспешно пошёл в торговые ряды. Торг кипел, волновался. Приближалась масляная неделя, и все, кто хоть сколько-нибудь имел достаток, пусть даже гривенник, спешили его истратить, чтобы встретить праздник с полным брюхом.
Автоном Евсеев владел большей половиной мясного ряда. Он торговал без весов целыми тушами, частями туш, связками рябчиков, гусями, курами. Для бедноты имелся рубщик мяса, рыжий детина, который стоял возле колоды с воткнутым в нее широкощеким топором. Подходили нищие, пожелавшие отведать мясца, выплевывали из-за щеки сбереженную деньгу. Молодец, не поморщившись, бросал денежку в кошель и одним ударом отваливал от ноги быка щепку мерзлого мяса.
Ловко работал парень, весело, с прибаутками. Максим загляделся на него и обратил на себя внимание кряжистого мужика в овчинном полушубке.
– Много берёшь, купец? Убоинка свежая.
– Не купец я, а кузнец. Мне Автонома Евсеева надобно видеть.
– Я – он и есть. А ты кто, добрый молодец?
– Максим… Я от верных людей, ваша милость.
Купец незаметно, но зорко огляделся по сторонам. Успокоился.
– От верных людей, говоришь? Где они сейчас, верные люди? Иной обниматься лезет, а норовит ухо откусить.
– Увезли сейчас одного слуги царские. От него грамотка.
Максим полез рукой за пазуху.
– Погодь! Не сейчас, на торге ярыжки промышляют. Враз завопят «слово и дело». После обедни подойдёшь к рубщику мяса, он отведёт тебя, куда надо.
Спирька протянул Максиму кусок мяса и хлеба.
– Это, – сказал он с улыбкой, – красна девица озаботилась.
– Любаша! – обрадовался Максим.
– Чего не ведаю, того не ведаю! Баяла, что ещё забежит.
День прошёл за работой, и когда монахи и мирские стали выходить из храма после обедни, Максим отпустил своего Спирьку, притворил двери кузницы и пошёл на торг. Детинушка мясоруб уже ждал его, перетаптывался на хрустком снегу и поглядывал по сторонам.
– Иди за мной, – шепнул он Максиму, – да поотстань чуток.
За углом монастырской стены, через овраг, начинался посад, выстроенный по-московски, улицей. Жили здесь люди достаточные: избы на подклетях, большие дворы, за которыми была видна заснеженная Ока, а на другом берегу стоял непроходимой чашей черный лес.
Во двор зашли не с красного входа, а через маленькие воротца в бревенчатой ограде, а затем тропкой подошли к избе, где их ждал Автоном Евсеев.
– Заходи, верный человек, – сказал Автоном. – А ты, Игнатий, походи по двору, погляди, чтобы чужих глаз да чужих ушей не было.
Он пододвинул Максиму чашку с калёными орехами.
– Давай грамотку! Сам-то грамотный?
– Учился одно время. Буквы все знаю, а в слова складываю плохо.
– В любом деле навычка нужна.
Автоном развернул свернутую в трубочку грамотку, склонился поближе к свече и, шевеля потрескавшимися от постоянного пребывания на морозе губами, начал читать послание. Он, видимо, грамотей был тоже неважнецкий, и чтение потребовало от него таких усилий, что прошиб пот.
– Цены нет грамотке, – вздохнул Автоном и перекрестился. – Се вопль наших верных братьев из никонианских узилищ, страждущих за истинную веру.
Пристально и строго посмотрел Максиму в глаза.
– Тебя выбрал и послал с грамоткой святой человек. Он никогда не ошибается в людях. И я о тебе своих верных людей порасспрошал. Чую, что манит тебя уйти от своего барина, да и Любаша хороша, но пока ты холоп, ей не ровня.
– Откуда ты всё ведаешь? – изумился Максим.
– Не велика тайна сия. К Николину дню придёт к тебе от меня верный человек. Ему и поведаешь, надумал ли ты уходить на Волгу. От этого человека возьмёшь то, что я тебе пошлю.
В тот вечер Максим не виделся с Любашей, а на другой день узнал, что она с хозяйкой уехала домой. Теперь и ему нужно было спешить в Воздвиженское, и, за два дня справившись с работой, он, получив от отца эконома гуся на масленицу, с тем же монахом, что доставил его сюда, уехал домой.
Дверь кузницы была завалена снегом, на котором виднелись собачьи следы, видно, Пятнаш не забывал навестить дом хозяина. И точно: едва Максим убрал снег от двери и растворил кузницу, прибежал Пятнаш и начал радостно лаять и подпрыгивать. Вскоре появился и Егорка.
– Как жили-поживали? – весело спросил Максим. – Не оголодали? Вот отец эконом мясцом нас пожаловал. Разводи, Егорка, огонь, неси воду. Я тебе, малец, баранок купил, а Пятнашу кость припас.
Кузня осветилась огнём, и в котле скоро закипела вода. Максим отрубил половину гуся и бросил её в воду. Остальное мясо завернул в рогожку и подвесил к потолку.
– Ну, что на деревне? – спросил он.
– Масленица началась. Боярин разрешил пива сварить. Мужики с утра сидят весёлые. Задирают соседей с той стороны Теши. Завтра, должно быть, на кулачки выйдут, стенка на стенку.
– Да ну! Вот это новость. Откуда и прыть взялась. Всю зиму как медведи в берлоге лежали, а тут на такое дело решились!
– А ты, Максим, пойдёшь?
– Куда мир, туда и я! Али я не воздвиженский? Пойду! Пора поразмять косточки.
– Зареченские – здоровые дяди. Прошлый раз нашим намяли бока.
– Раз на раз не приходится. Ещё поглядим, чья возьмет.
Гуся ели большими кусками, бросая Пятнашу кости. Отвар, чуть остудив, выпили из деревянных кружек, пред тем накрошив туда лука. Егорка довольно похлопывал себя по пузу: «Потрескивает! Теперь можно с голодным наравне!»
От домов, что были близ кузни, послышался шум, треск, грохот, визг.
– Масленица гулять вышла! – восторженно закричал Егорка. – Я побегу! А ты не пойдёшь?
– Нет, отдохну. Что-то с дороги притомился. Да и гусь ко сну клонит. Ты вот что, Егорка, завтра сбегай во двор к боярину, может, Любашу увидишь, так шепни ей, что я приехал и жду её.
– Я, может, и сегодня шепну. Деревня на барский двор идёт разгуляться.
Масленица разбудила от зимней спячки деревню. Все, кто хоть чуть умел на чем-нибудь играть, достали ещё дедовские гусли, гудки, сопели, домры, волынки, медные рога и барабаны. Сначала дудели, бренчали, гудели всяк сам по себе, а потом вывалили на улицу и заиграли разом. К игрецам присоединились ряженые, и пошли скоки-подскоки, послышались скабрезные песни. Ряженный козлом затейник не давал проходу девкам, валил их в снег. Девки визжали, потом сами завалили ряженого в сугроб, заголили ему гузно и облепили снегом причиндалы. Все были в подпитии: мужики куражились, схватывались друг с другом в споре, матерный лай клубился над толпой, но всё это непотребство накрывалось грохотом барабанов и воем волынок и медных рогов.
На подходе ко двору боярского сына толпа присмирела, и раздался стройный хор мужских и женских голосов:
А мы масленицу дожидаем,
Дожидаем, душе, дожидаем.
Сыр и масло в глаза увидаем,
Увидаем, душе, увидаем.
Как на горке дубок зеленёнек,
Зеленёнек, душе, зеленёнек.
А Воздвиженский попок молодёнек,
Молодёнек, душе, молодёнек.
Попадьихи пили, да попов пропили во гуляньи,
Во гуляньи, душе, во гуляньи.
А дьячихи пили, да дьяков пропили во гуляньи,
Во гуляньи, душе, во гуляньи.
Пономарихи пили, да пономарей пропили во гуляньи,
Во гуляньи, душе, во гуляньи.
Во дворе Романа Шлыкова были выставлены столы, на которых горами высились блины, а в больших чашках стояли масло, сметана. Господский виночерпий каждому наливал крепкого ставленного меда. Мужики и бабы, испив хмельного, закусывали блинами и благодарили господина. И опять раздались разгульные масленичные песни. Хозяин благодушно смотрел на своих веселящихся крестьян. Порой его и самого подмывало пуститься в пляс, но сан боярского сына нужно было блюсти беспорушно. Время было непокойное, вокруг рыскали шиши-соглядатаи. Донесут властям, что такой-то дворянин занимался козлоплясием, презрел все указы на этот счёт великого государя, быть тому дворянину в ответе перед властью мирской и духовной.
Масленица покатилась от господских глаз к деревне. Была уже глубокая ночь, и тонкий месяц, выглянув из-за тучи, смотрел на разгульное русское озорство. А где месяц, там, известно, и черт. «Бесовская седьмица», – огорчались монахи, укрепляя свой дух стоянием на молитве.
Утром незлобно забрехал подле кузни Пятнаш, и послышался ласковый девичий голос, уговаривающий пса пропустить её к хозяину. Максим обрадовался, откинул овчину, соскочил с лавки и открыл дверь. Запыхавшаяся Любаша погрозила пальчиком мохнатому сторожу.
– Лаялся на меня? Я хотела тебя блином угостить, а теперь не стану.
Пес виновато завилял хвостом и принялся облаивать сороку, которая раскачивалась на березовой ветке и стрекотала взахлёб.
– Я тебя пришла с масленицей поздравить, – и чмокнула парня в щеку. – А это гостинцы – блины, масло, вареное мясо.
– Спасибо, Любаша! Я, признаться, не ожидал тебя в такую рань.
– Вчера боярин с гостями нахлебались пива да мёда, что долго спать будут. Дай Бог, к обеду бы поднялись. Моя боярыня всю ночь с гостями маялась. Пригубит с одним гостем чарку, идёт переодеваться в новое платье, потом опять новое, и так шесть раз. А я вокруг кручусь, одеваю, раздеваю.
Максим взял нежные руки девушки в свои опалённые раскалённым железом ладони и, вздохнув, тихо промолвил:
– Люба ты по моему сердцу! С первого раза, как тебя увидел, вот здесь. Снишься мне – мы живем с тобой в далёкой вольной стороне, у большой реки…
Девушка вздохнула и грустно посмотрела на Максима.
– И ты мне снишься, но себя я рядом с тобой не вижу…
– Быть того не может! Я знаю, мы рабичи, но у нас есть молодость, есть сила, уйдём отсюда на Волгу, в вольный край! Я в монастыре разговаривал с бывалым человеком. Он мне все обсказал, как пройти туда. Это дорога на полдень. Сначала дремучие леса, где живёт мордва, а за Сурой уже наша русская Украина, где все земли вольные, где хочешь, там и селись. И град есть сторожевой – Синбирск на Волге. Там и заживём. Запишусь в кузнецы, построим кузню, свой двор. Я буду работать, а ты по хозяйству хлопотать. Не гнить же здесь под пятой барина!
– Страшно мне, Максимушка! Далеко зовёшь ты меня. Там же басурмане окаянные живут. Как бы не попасть из огня да в полымя.
– О чём печалиться! Неровен час, завтра прикажет господин выдать тебя за лядащего смерда замуж, или подарит любимому псарю, или соседу продаст. Утечь надо, Любаша! Нет на нас никаких пут. Надо! Иначе сгинем мы здесь!
– Знал бы ты, Максимушка, как тяжко мне в господском терему. Страшно мне, но я согласна, уйдём искать свою волю.
И девушка крепко прижалась к Максиму.
– Утечём весной, как только залиствеют деревья. Я схоронку надежную в лесу припасу. Там сложим то, что нам надобно в дороге. И смотри, не говори никому, а то обдерут батогами, как липку, и в подклеть на цепь посадят. Никому, даже во сне бойся проговориться!
– Тяжело мне, Максимушка! Хозяин-то наш сластник, у него временницы-полюбовницы не переводятся. Те, что в мыльню его водят. Меня моя боярыня, голубушка, стережёт, а он нехорошо смотрит. Боюсь я!
– Держись своей боярыни, ни на шаг от неё не отходи. Если что, падай к ней в ноги, а не поможет – беги сюда. Уйдём махом, хоть босые по снегу.
– Я уже решила, если содеет надо мной боярин плохое, руки на себя наложу! Вот те крест святой, наложу!
– Бог с тобой, Любонька! Не делай это ни в коем разе. Это же грех! Потерпи ещё до Пасхи. И утечём…
– А ты не обманешь меня? Про тебя тут всякое говорят, ты человек пришлый.
– Ни за что в жизни! Хочешь, крест поцелую! Мы будем с тобой вместе до последнего часа!
Горячий разговор влюбленных прервал лай собаки, и они отпрянули друг от друга.
– Это Егорка бежит.
– Вот напужал, пострелёнок! – сказала Любаша. – Ажно сердце застучало.
Она взяла руку Максима и прижала к своей груди.
– Дядька Максим! Тебя воздвиженские мужики кличут. Вся деревня на Теше собралась, и зареченские с другой стороны.
– Сейчас! – ответил Максим. – На кулачках будем биться. Ты не ходи смотреть, а то ненароком выдашь себя.
– Береги себя, милый Максимушка!
– Я пойду с Егоркой, а ты потом выйдешь.
В один из погожих майских дней к кузне верхом на коне подъехал нездешний мужик. Максим вышел ему навстречу. Мужик строго посмотрел на него и пробасил:
– Челом, верный человек! Я от Автонома Евсеева. Как, надумал идти на Волгу?
– Ушёл бы уже, да тебя поджидал.
Мужик слез с коня, привязал поводья к колу и махнул рукой:
– Давай отойдем отсель, чтобы лишних ушей не было.
Они скрылись за кузню, сели на поваленную ветром сосну. Мужик достал из-за пазухи туго скрученные грамотки.
– Это передашь в Синбирске мельнику Андрееву. Вот тебе ещё три рубля на хозяйство. Попусту не трать. Грамотки пуще глаза своего храни. Передашь их кому велено. В остальном полагайся на свою сметку. Коня я тебе оставлю. Он хоть и мал, да удал: ногайских кровей.
Верный человек скрылся среди деревьев, а Максим вынес из кузни кусок хлеба, протянул коню. Тот мягкими губами коснулся ладони, принял хлеб и заржал.
– Как же тебя звать? Ладно, по масти – Соловый. Будешь пастись здесь. Если кто и спросит чей, скажу, что приезжие люди на время оставили.
Максим почувствовал, что уже ступил на дорогу, с которой нет обратного пути, и решил быть осторожным. Егорку он отправил с мужиками в поле, там нужны были огольцы, чтобы ходить в ночное, пасти и стеречь рабочих лошадей. Пятнаш был возле кузни, без собаки пускаться в путь нельзя, она и об опасности предупредит, и ночью разбудит.
Идти придётся долго, не меньше месяца, обходя стороной любое жильё. На себя он надеялся, что выдержит долгий путь, а вот Любаше придётся тяжело, хотя конь должен был выручить, но на нём чтобы ездить привычку надо иметь.
Рыбы купил у приезжих мужиков, что по Теше сплавлялись до Нижнего. Купил и соли, и сухарей, а ещё небольшой туес меда. Слышал от стариков, что если его понемногу есть утром и вечером, то крепче себя чувствуешь, да и от простуды помогает.
Ночью Максим погрузил припасы на Солового и стороной, опасаясь деревенских собак, отвёз всё в найденную заранее потаёнку – огромное дупло старой ветлы, что стояла саженей в сорока от дороги на Ардатов. Потом долго, до первых проблесков зари, сидел неподалеку, вслушивался в живую тишину леса, но никого не заметил и, сев на Солового, поехал домой.
Любаша, сердечко, видно, чувствовало, прибежала на следующий день. И когда Максим сказал ей, что завтра вечером срок уходить отсель навсегда, загорюнилась, закручинилась. Максим утешал её, говоря, что здесь им всё равно вместе не жить, а ждёт их воля, своя, только им принадлежащая, судьба. Высохли девичьи слезы, а когда Максим, осмелев, первый раз поцеловал свою ненаглядную, то о горе-злосчастии не было и помину.
Максим объяснил ей, где будет её ждать, наказал, чтобы не брала с собой лишнего, а только самое необходимое. Расставались долго, Любаша никак не хотела уходить, будто чувствовала, что завтрашний день будет для неё самым тяжким в её жизни.
На другой день вечером Максим запер дверь кузни, закинул за плечо суму и, свиснув Пятнаша, пошёл к месту встречи с Любашей. Село и барский двор он обошёл стороной, чтобы ни с кем не встретиться. Идти было легко, мох пружинил под ногами, сквозь ветви деревьев нежарко светило вечернее солнце, где-то неподалеку закуковала кукушка, и Максим посчитал это доброй приметой перед долгой и опасной дорогой. Схоронка была на месте. Осталось только ждать Любашу, которая должна была вскоре подойти, если только чего не случилось. Об этом Максим не хотел и думать, но не мог. Слишком всё удачно складывалось у них в последние дни, чтобы бес не позавидовал их удаче и не устроил какую-нибудь каверзу.
Он лежал под ветлой, жевал травинку и чутко прислушивался к звукам леса. Чу! Мимо проскакали двое вершных. Он поднялся на ноги и увидел, что это были воздвиженские мужики с топорами за опоясками. Что-то случилось, раз начались розыски. Где Любаша? Этот главный вопрос обжигал его огнём. Скорее всего, схватили, решил он, а теперь ищут меня.
Назад мужики возвращались неспешно, лошади шли шагом. Неподалеку от места, где схоронился Максим, мужики спешились и сели на землю. Один из мужиков злобно сказал:
– Маем коней, а завтра им в работу!
– Нет, молодец Максим, – сказал другой. – Сбег и Любашу увёл. Уйдут они в вольные края. Хошь на Дон, хошь на Волгу. Я слышал от бывалых людей, житьё там вольное, казацкое.
– Чего долдонишь, дурак! – огрызнулся постарше. – Снимут голову на той Волге с тебя полоротого, не татарин, так свой же брат! Воля, она в сказке хороша!
– И где же они сейчас? – не унимался молодой.
– Дурень ты, Митрий, да и к тому же глухой. Говорили же, что с берега в Тешу бросилась Любаша! Поехали, что ли, завтра ни свет ни заря опять в поле.
Известие о смерти Любаши омертвило Максима. Он сидел, прислоняясь спиной к дереву, ничего не видя и не слыша. В верхах деревьев подул сильный ветер, лес зашумел, застонал, заскрипел. Напуганные непогодой собака и лошадь жались к хозяину, но он не обращал на них внимания. Так он провел всю ночь. И когда стало светать, поднялся с земли, забросил на Солового вьюк и, держа его в поводу, пошел по лесу, не выбирая пути.
Максим шёл по меловому подножию гривы, отыскивая выход родника, чтобы отдохнуть. Солнце клонилось к вершинам черного леса, но ещё было беспощадно жарко. А на противной от него стороне неба поднималась огромная, как гора, сине-белая туча.
Вдруг Пятнаш остановился и тихо заворчал. Соловый тоже насторожил уши. Максим, положив руку на рукоять сабли, осторожно пошёл кустами и нечаянно заметил вьющуюся, тонкую, как нитка, струйку дыма. Возле костра на коленях стоял человек и старательно раздувал огонь.
– Бог в помощь! – поприветствовал Максим незнакомца.
Тот резко повернулся, но, увидев, что гость один, успокоился и сказал:
– Полбы Бог послал, хотел кащицу сварить.
– Так не медли. Огонь-то у тебя полымем пошел.
Костерок, действительно, разгорелся. Максим огляделся: вот и родник, который он искал. Подошёл к нему, напился.
– Прими к огоньку, добрый человек.
– Садись, казак!
– Почему казак? По чём видно?
– Видно. Вон и сабелька у тебя, и конь добрый, и от людей хоронишься. Разве не угадал? Тогда прости, мил человек.
– Не угадал. А ты сам-то из каких будешь, не монастырский?
– Монах я только с виду. А так переписчик книг, зовут Саввой.
Вода в котелке стала закипать. Максим вынул из сумы кус вяленого мяса, сухари и отдал Савве.
– Не знаю, идучи, какой сегодня день – постный или скоромный. Но всё равно, грех не велик, если и ошибёмся. А тебя как люди зовут?
– Максим. Кузнец я. Не пожилось мне за барином, вот и тащусь на Синбирск. Верные люди посоветовали.
– Такому молодцу везде дорога есть, – сказал Савва, помешивая варево в котелке. – Я, признаться, в те же края путь держу. Все ноги избил, от Москвы иду. Всё один. Вот, Бог попутчика послал.
– Знать, ты, батька, и дорогу на Синбирск ведаешь?
– А что её ведать? Вон она, рядом! Старая царская дорога с Мурома на Казань. Ещё царь Иван Грозный проложил, когда воевал с Казанью. Эта дорога идёт до Суры-реки, а за ней начинается Синбирская земля.
– И близко Сура?
– Две стороки осталось, сейчас их ямами зовут. Была бы у нас государева подорожная, покатили бы. А у тебя, мил человек, верно, грамотка на сабельке чеканена?
Максим недовольно посмотрел на Савву и взялся рукой за саблю.
– Что ты, окстись! Мне вольные да веселые люди всегда по сердцу. Пусть казакуют, но Бога не забывают. А то водятся промеж них такие каины. Кровь одному пустит и пойдёт всех резать подряд, ни старых ни малых не щадит. Правда то, что свои их сразу кончают, как окаянство почуют.
– Не казаковать я собираюсь, батька, – сказал Максим. – Хочу дойти до Синбирска, осмотреться, потом построить кузню и работать.
– Эх ты, простота святая! – засмеялся Савва. – Построить кузню, жить спокойно. Да кто тебе это позволит сделать? Это на Дону, на Яике тебя определили бы в кузнецы. А в Синбирске воевода Дашков сидит, как ворон, на Синбирской горе, выглядывает, кого сцапать да послать на государевы работы. Кого засеку валить, кого ров рыть. А тебе он работу точно найдёт – посадит на цепь в воеводской кузнице, и будешь ты ковать кандалы.
Максим помрачнел и задумался. Первая встреча за долгие дни с живым человеком – и такое огорчение. Он вздохнул, прилег на землю и уставился в небо.
– Ну, вот ты и закручинился, Максимушка, – ласково промолвил Савва. – А о чём кручиниться? Обойдёшь ты воеводу и слуг его, как вон ту лесину. Разве твои несчастья – это несчастья? Знал бы ты, что за беды кружат надо мной, ты бы усмехнулся своей кручине. Поэтому выслушай мою судьбу, может чем-то она и подскажет тебе, как дальше жить-поживать.
Родом я из Ростовской земли, где благостный свет просиял над нашим святителем Сергием Радонежским. Родитель мой был купцом, торговал рогожными кулями, берестяными коробами, всяким щепным товаром. Богатства у него не было, но кое-какие зажитки имелись. Отец трясся над своей казной, над торговой лавкой, жили мы мелочно, крохоборно. И родитель попрекал нас, матерь свою, мою матерь, брата моего старшего Степана и меня обжорством, расточительством и леностью. Меня, может, и за дело бранил, а Степан был послушен, перед старшими учтив, все работы в лавке справлял, пока батя без дела толкался между людей на торжище. И вот однажды он решил отдать меня в обучение грамоте, чтобы вывести меня в писцы или дьячки, а нажитое оставить Степану. Родительской воле не прекословь!
– Батька Савва! – сказал Максим. – Полба, поди, сопрела?
– Ах ты, Господи! Заболтался, ажно про хлебово забыл.
После еды, попив водички, Савва вернулся к своему повествованию.
– Училище в нашем городе было разрешено иметь протопопу Проклу. К нему батя и повёл меня, пред этим надавав как следует под ребра, поелику не хотел я учиться. Учение мне тогда казалось страшным наказанием Господним! Тем более что пришлось бы оставить голубей. У меня к тому часу десятка три турманов было. Так мой батя всех их продал, а деньги отдал протопопу за год учения. Отец Прокл был благочестивый иерей, это сейчас он в никонианство сверзился. Училище держал на своем подворье в отдельной избе. Набирал он не больше десяти неуков, ибо не за прибылью гнался, а хотел обучать людей добрых и прилежных. Ну, а для ленивых имел «Благослови, Боже, оные леса, иже розги родят на долгие времена». И ещё памятую: «Если кто ученьем обленится, таковый ран терпеть не постыдится».
В училище мы пребывали с рассвета до вечернего благовеста. Занятий не было только в праздники. Первый год учили грамоту и основы самого простого письма. Книги, чернильницы, перья – всё было от отца протопопа. К семнадцати годам я не только освоил не шибко разумное чтение священных текстов и творений отцов церкви, но и стал овладевать секретом уставного письма. Протопоп Прокл донес об моих успехах игумену Святой Троицы, и меня определили туда на послушание переписчиком книг. Я двадцать лет скрёб пером бумагу. Мои книги у самого великого государя есть, у патриарха. Вот кто был я! А сейчас скитаюсь, сир и наг, и где буду завтра, не ведаю.
Максима рассказ Саввы тронул. Он, видимо, попал в такую беду, что всю оставшуюся жизнь будет трястись, как осиновый лист.
– В конце концов слепнуть я начал. Издаля буквицы хорошо вижу, а сблизи всё точно молоко. А тут ещё мой благодетель окольничий Ртищев почил в бозе. Любил он мое письмо. Ты, говорит, Савка, самый лучший! Другие писцы рыла кукожат, начинают ковы под меня строить. Одно наладились листы подкладывать для переписки из других книг. Аз учил их, не бестолочью писаху, а со вниманием. И всегда памятовал написанное.
Как-то духовник государев Стефан Вонифатьев в Троицу припожаловал. Он мою работу чтил, я и низвергся к нему в ноги. Поднял он меня, расспросил и замолвил словечко перед Никоном. А тому потребны дельные писцы стали. Начали старые книги исправлять на новый лад. Чего ты на меня уставился?
– Да вот смекаю, – промолвил Максим. – Правду я слушаю или околесицу мелет прохожий человек.
Савва от удивления и неожиданности выпучил глаза, потом хлопнул себя по бокам и залился мелким дребезжащим смехом. Отдышавшись, он достал свою суму, развязал и достал из нее книгу в кожаном переплете с блестящими серебряными застежками.
– Дубина же ты, Максим! Во, зри! Это мое рукотворство. Читать умеешь?
– Буквы знаю, но давно их в слова не складывал.
– Вот и попробуй!
Максим бережно взял книгу, открыл застежки, развернул первый лист и, медленно выговаривая каждый слог, прочитал: «Казанская история…»
– Люблю я, брат, читать о делах минувших и славных. Эта книга о казанской победе Грозного Иоанна над басурманами. Мой дед побывал в этом походе и рассказывал мне, да аз, молоденький дурачок, слушал вполуха. Попалась мне эта книга на глаза в монастырском хранилище, вспомнил своего славного предка и сделал список. Изуграфия не моя… Так, чти, что в конце написано.
– Это я не осилю, – сказал Максим. – Но и без того тебе верю.
– Книги мои, Максим, многих рублей стоят.
– Что же приключилось с тобой, батька?
– Душно мне стало на Москве. Повидать восхотел иные края, среди людей пожить. Однако вышел за ворота, и до сих пор иду.
– Стало быть, и ты, Савва, волю ищешь?
– Не знаю, может, и её.
Утром они встали с восходом солнца и, помолясь, вышли на царскую дорогу, широкую просеку, которая была истоптана пешими и конными. Виднелись и глубокие колеи от телег, кострища на оставленных ночевках.
– Пойдём краем леса, – сказал Максим. – Можно будет в случае чего и за куст сигануть.
– Добро, пойдём по обочине.
– Знать бы, где оне, сторожа, – бормотал Савва. – Может, рядом. Слушай, Максим, давай свернем в сторонку. Надо тебе грамотку выправить, а то стрельцы на стороже схватят тебя.
– Ну и что?
– Назад, может, не отправят, а в кабалу точно продадут за водку.
– Это как? – возмутился Максим. – Я – человек, а не коза. Как же меня продавать?
– Эх, темнота! По велению последнего Земского собора все беглые людишки подлежат возврату туда, откуда бежали. Страже будет недосуг волочь тебя к твоему боярскому сыну. А сейчас в Синбирской окраине лютый спрос на крестьянишек. Землю царь-батюшка дворянам жалует, а людей крепостных они сами ищут-свищут. Понял, дитятко?
Найдя поваленное ветром дерево, Савва прочно уселся на него, развязал свой мешок, вынул оттуда чернильницу, перо, свиток бумаги и дощечку для писания.
– Вот-ка, сочиним мы тебе, добрый молодец, охранную бумагу от всякого шиша и лиходея. Видишь, Максим, бумагу? Это аглицкой работы бумага, только на ней государевы дела пишутся. Золото, а не бумага! Она и есть порука, что грамотка настоящая, приказная.
– Экий ты, батька, говорун!
Савва развернул лист бумаги, поскреб сухим пером в скомканных волосах на голове, макнул его в чернильницу и, заперев дыхание, начал строчить, писать.
Закончив работу вынул тугой кожаный мешочек, посыпал буквы мелко толченным песком, подержал на ветру, сдул и протянул грамотку Максиму.
– Храни пуще глаза! И меня, старого, не забывай.
– Не забуду, батька. Вот заведу кузню, и сделаю тебе добрую чернильницу из железа.
Они долго шли по пустынной дороге, пока не проголодались. Савва насобирал сухих листьев, веточек и достал круглое и толстое стекло.
– Гляди, Максим! Сейчас этим волшебным стеклом мы костер запалим.
– Да ну!
– Я его солнцеглазом зову. Мне его один ученый немец отдал за книгу. Оно буквы увеличивает. А если поймать солнечный луч, то оно любое дерево зажжет, а листья – плевое дело.
Максим пригляделся и увидел, что на растопке приплясывает крохотный солнечный зайчик. Через мгновение листья задымились, Савва дунул, и сучья охватило пламя.
– Вот это кресало! – восхитился Максим. – И железо может прожечь?
– Железа не прожжёт, нагреет, но не сильно. Для твоей кузни оно не надобно.
– А кому же оно потребно?
– Звездочётам, тем, кто звезды смотрит. Они от нас далеко, дальше солнца. Но это не для твоего ума.
Максим обиделся.
– Что, я не уразумею?
– Видишь ли, Максим, то, что я могу тебе открыть, дело, запрещённое святым православным собором. Но один польский монах спознал, что солнце стоит на месте, а земля вокруг него ходит, и от этого бывает день и бывает ночь.
– Как же земля ходит? Это солнце поднимается и опускается, а земля от века на одном месте.
– Забудь мои слова. Живи со своим понятием, нечего голову мутить.
Максим бросил в кипящую воду толокно, посолил варево, кинул сухарь Пятнашу. Пес съел его, обнюхал траву и опять уставился на хозяина. Потом насторожился, выбежал на дорогу и гавкнул. В ответ раздался недальний собачий брех.
– Ах ты, Господи! – забеспокоился Савва. – Уйти не успеем. Что за люди? Если стража или стрельцы, то не лезь наперёд, пока не спросят. Да саблю отцепи, сунь в куст, а то за вора примут!
По дороге, вихляя высокими колесами, ехали две запряжённые двуконь телеги. На них сидели две жёнки и ребятишки. Четыре мужика за ними следом. За последней телегой на привязи волоклись корова, две козы и теленок.
– Переселенцы! – сказал Савва. – Барин переводит мужиков на новые земли. Наши попутчики.
Не дойдя до костра несколько шагов, мужики сняли шапки и поклонились.
– Можно мы рядом пристанем, крещёные? – спросил степенный мужик, видимо отец семейства.
– Располагайтесь, мужики! – ответствовал Савва, зорко оглядывая каждого из новоприбывших.
– Мы из Патрикеевой вотчины, что близ Коломны, – снимая с коней латаную веревочную упряжь, объяснил старший. – Царь-батюшка пожаловал нашему боярину сто пятьдесят четвертей земли в Синбирском уезде. Летось две семьи уже уехали, теперь и мы волокёмся. Тут всё, что нажито. Кони слабы, а вот корова – чудо, ведёрница, что ни вечер, то полную лохань молока даёт. Возле неё и кормимся.
– Поздно идёте, – заметил Савва. – Крестьяне отстрадовались.
– Не по своей воле идем, а по барской прихоти. А на здешней земле на наш прокорм полоску засеяли. Так что с хлебцем будем. Боярин спешит взять землю, да мало кто хочет идти в незнаемые края, под бок к нехристям.
– А ты, стало быть, не боишься? – спросил Максим.
– Не было бы обузы, жёнок, да сыновей, да внуков, давно бы вольнул на Волгу, а может, дальше. А вы кто, добрые люди?
– Аз есмь инок смиренный, – ответил Савва. – А это Максим, кузнечный умелец. Тоже на Синбирск волокёмся.
Жёнки тем временем собрали на траве стол: сухари, лук, вяленая рыба.
– Присаживайтесь с нами, – предложил хозяин.
– Отказываться – грех, но мы отснедали, – сказал Савва. – Ты лучше скажи, кого как кличут?
– Меня – Власом. Это мои сыновья – Клим и Андрей, это – Климова жёнка Дуняша, это пострелята внуки, это моя жёнка Агафья. На новое место нас и захребетником пожаловал барин – Прошкой, что добре работает ложкой.
Здоровый парень Прошка широко осклабился, показывая кривые зубы.
Крестьяне, не торопясь, поснедали. Савва поглядывал на них, потом тихо промолвил:
– Вот и попутчики. Как мыслишь?
– А что, добрые люди, – согласился Максим.
Мальцы подружились с Пятнашом, бегали с ним взапуски. Пёс был тоже доволен весельем. Максим предложил Савве сесть на Солового, но тот отказался, сказав, что его седалище привычно к мягким подушкам, а на жёстком хребте мерина ему долго не усидеть.
Стали попадаться и встречные. Мимо них проскакали трое вершных казаков. Затем вскоре показался небольшой обоз в пять телег, груженных бочками. Вокруг обоза трусили трое ратников на мосластых конях.
– С Суры везут живую рыбу, стерлядь, к царскому столу, – промолвил всеведущий Савва.
– Пути-то! – поразился Максим. – Не затухнет?
– Уже целый век возят, научились. Надсмотрщики есть над каждой бочкой, воду меняют, траву кладут обережную.
Шли они нешумно, и разом все услышали какую-то возню в лесу, треск сучьев, сопение и ворчание.
– Стой, ребята! – велел Влас. – У тебя, Максим, как, оружие есть?
В ответ тот выдернул из-под вьюка саблю.
– Все остаются на месте и ждут нас. Мы скоро вернемся. – Влас взял из телеги рогатину. – Поспешай!
Они углубились в лес, двигаясь на звуки.
– Ветер на нас, не учуют, – шепнул Влас. – Там свиньи желуди роют. Посмотрим, где вожак.
На большой поляне между дубов усердно рыли землю кабаниха с полосатыми юркими поросятами и несколько довольно крупных подсвинков. Секача не было видно, но из зарослей осинника доносились звуки схватки. Скорее всего, в эту дружную семейку припожаловал непрошеный гость и сейчас хозяин прогонял его прочь.
Влас показал пальцем на подсвинка, который отошёл от стада и ожесточённо рыл землю, добывая вкусные корешки. Он был так увлечён своим делом, что не заметил приблизившихся охотников. Влас резко взмахнул рукой и бросил рогатину в зверя, угодив ему под лопатку. Подсвинок пронзительно завизжал, подпрыгнул и рухнул на траву.
– Добей! – Влас толкнул Максима вперед.
Тот в несколько прыжков достиг подранка, который уже поднялся на колени, и размашистым ударом вогнал клинок под лопатку рядом с торчащей рогатиной. Зверь рухнул замертво.
Максим достал клинок из туши, а Влас умело накидывал верёвочные петли на ноги подсвинка.
– Где секач? – хрипло произнес он.
– Никого нет. Все разбежались.
Влас просунул рогатину под веревки, и они поволокли добычу к дороге. Их встретили радостными криками, Пятнаш лаял и прыгал, стараясь укусить зверя, которого охотники положили на землю.
– Дойдём до первого же родника и остановимся на ночь, – решил Влас. – Нужно тушу разделать, да и отдохнуть следует: три седьмицы прём, как угорелые.
Удачная охота его возбудила, он сделался разговорчив.
– Хорошо, что секач увяз в драке, а то мог бы на нас броситься. Я ведь охотник. Но сейчас в наших местах мало зверя стало. Наш боярин никому проходу не дает, ему лишь бы бить, стрелять. Медведей собаками травит, в усадьбе у него целый загон для того сделан. Соберутся гости, напьются мёда, и пошла потеха. А мне медведей жалко, безобидные они и на людей похожи. Хотя и среди них душегубы встречаются. А разве среди людей их нет? А кабанчик хорош, даже не растерял за зиму сальцо.
К вечеру они набрели на родник, уже обжитый людьми. Вода из него лилась по деревянному желобу и была сладка на вкус.
Влас в душе был рад, что прилепившиеся к нему путники не суются со своими советами, и стал распоряжаться.
– Телеги ставь вплотную вдоль опушки. Прошка, за скотиной приглядывай!
Максим лег на сухую траву, закрыл глаза, и сразу в память вошла Любаша, весёлая, простодушная. Не уберёг он её и сейчас горько корил себя за это. Надо было не бежать сломя голову из деревни, а толком всё разузнать. Мужики могли и сбрехать, и теперь, если она жива, Любаша проклинает его как обманщика. Но что теперь поделаешь, слишком далеко ушёл он от Теши, говорят, Сура не сегодня-завтра покажется.
– Ишь ты! – воскликнул Савва, поднимаясь во весь рост с земли. – Кажись, к нам ещё гости пожаловали.
С дороги к их стану подворачивали телеги с поклажей, за которыми шли с десяток мужиков и жёнок.
– Что за людишки? – обеспокоился Влас. – Как бы пря с ними какая не случилась.
Первым к стану подъехал страховитый на вид мужик в красной рубахе и сапогах – знать, не холоп. За спиной у него болталась пищаль.
– Кто такие? Откель? Куда бежите? – строго начал допрашивать он мужиков.
Влас посмотрел на вершинного, почесал пятерней голову, отвернулся и сплюнул.
– Ты чего косоротишься? Отвечай, коли спрашивают!
Влас повернулся к сыновьям.
– Глядите, чтоб всё цело было. А ты кто такой будешь, чтобы сыск учинять? Я крестьянин с сыновьями и жёнками. Эти – по государевой надобности путь держат. А ты, может, лесной помещик? И крепостные твои дубинами пашут, а шестоперами боронят?
– Я приказчик князя Шелонского! А ты, зрю, Рязань косопузая?
– Коломенские мы, боярина Патрикеева.
– Тоды ничо… Мне велено крестьян доставить в новое поместье князя. А места здесь воровские, язычники христиан забижают.
– Это брехня, – вмешался Савва. – Здесь мордва да чуваши, смирнее народа нет. Многие крещены.
– Мы чуток в сторонке от вас заночуем.
– Земля здесь вольная. Только, чур, коней не мешать и коров не пугать.
– На чужое мои не позарятся.
– Бережёного Бог бережет.
Люди князя с неохотой покидали стан Власа: вода в казане бурлила, и воздух вокруг был пропитан запахом кабанятины.
Скоро на синем небе выпрыснули звезды, запели комары, которых нисколько не отгонял дым от костра. В стороне приезжие тоже развели костры, распрягли лошадей.
– У приказчика и рожа воровская, и навычки, – сказал Савва. – Ты, Максим, за своим Соловым приглядывай, ладный конёк, незаезженный. А с приказчика спрос невелик – угонят конька, пиши пропало.
– Присаживайтесь к огню, мясо упрело! – крикнул Влас. – А то от одного толокна животы свело.
Кабанятину брали руками с листьев лопухов. Кто подсаливал, а кто на чеснок налегал, после него ощущение сытости держалось дольше. Утром попьешь водички, и опять вроде сыт.
Поели, отвалились от котла, накидали псу гору костей.
– Повезло нам с тобой сегодня, Максимка, – рыгнув, сказал Влас. – Завтра такого случая не будет, это точно.
– Будем сурскую стерлядь исть, – ответил Максим. – Скоро Промзино Городище. А что, действительно Грозный царь здесь бывал? А, Савва?
– Иван Грозный на Казань несколько раз ходил, и причина тому была: казанцы таскали русских людей к себе, торговали ими по всей Туретчине. Приступал царь и к самой Казани, да одолеть не смог. Вот тогда и повелел он поставить крепость насупротив её, и построили Свияжск на сорок тысяч воев в один день, потому что по готовым срубам делали. Построили, и через какое-то время русское войско взяло Казань. И Астрахань. И теперь Волга – русская река. Только земли здесь безлюдные, от Казани до Астрахани почти сплошное нежилое место, с пяток крепостей всего и стоят.
– Ну, вот мы едем, да не пустые – у Власа соха, да сыновья и жёнки, у меня снасти кузнечные, у тебя, Савва, книги. Так-то и заживём.
– Легко сказать – заживём, – Влас отмахнулся от комаров. – Как жить без воли? Вот ты учёный человек, Савва, столько книг прочёл. Скажи, есть ли на земле место, где человеку живётся вольно, как птице?
– Нашли о чем думать – о воле! – первый раз за день подал голос Прошка. Он лежал на охапке свежей травы, растопырив в разные стороны рваные лапти. От сыти захребетник захмелел, глаза подернулись сальной поволокой, грязные щеки жирно блестели.
– Во! Подал голос, тетеря, – пренебрежительно промолвил Влас. – Тебе-то везде неволя. Ты холопом родился, холопом и сдохнешь. Мой тятя свободно крестьянствовал, а бояре приговорили, вот и попали мы в крепь. Мы-то волю не забывали!
– Кто это, на ночь глядя, воли возжелал? – внезапно раздался весёлый голос. Рядом с костром стоял невысокий человек среднего роста, в сапогах и рваном кафтане. – Я тут случайно проходил, думал, где на ночь устроиться, и вдруг слышу: «Воля! Воля!» Ну, думаю, значит, добрые люди ночовничать собрались. Может, и меня примете? Правда, сума у меня прохудилась: последний алтын вечор в дыру закатился, да Бог с ним!
– А ты что за человек будешь, с каких краев?
Тут и Пятнаш опомнился, что подпустил к очагу незнакомого человека, загавкал и начал наседать на пришельца.
– Уймись, раззява! – крикнул на пса Максим. – За мосол службу забросил, сторож!
Пришелец уже подсел ближе к костру, потянул воздух носом и весело сказал:
– Накормите, и всё расскажу. И кто я таков, и про Остров Счастья, про который вы слыхом не слыхивали. Вот там, на острове и есть ваша мужицкая воля!
– Жёнка! – приказал Влас. – Налей хлёбова страннику, да со дна зачерпни. В наше время редко бойкого человека встретишь. Все больше горемыки разнесчастные, жалобщики да слёзники.
Гость не заставил себя упрашивать, ухватил одной рукой чашку, другой достал из-за пояса ложку и принялся хлебать, с треском разгрызая сухари и кабанячьи ребра. Поел, облизал ложку и сунул её за пояс.
– Самая нужная вещь! – отрыгнув, сказал он. – Без неё человек, как хромой без костыля.
Подгреб травы, сел, по-татарски поджав ноги под себя.
– Зовут меня Федот, сын Федотов. Купецкий сын, следую по надобности в Царицын. А жительство имею в Архангельске. Вот подрядил меня немец сходить на Низ по его делам.
– Из Архангельска, значит, – протянул Савва и повернулся на бок, поближе к пришлому человеку. – Хорош город. Сам не был, но кое-кого знавал из поморов. Скажи-ка, мил человек, а кто у вас в Троицком соборе протопоп?
– Сейчас какой-то никонианин, а до него, года два назад, был протопоп отец Иоаким. А ты что, божий странник, знавал его?
– Како не знавал, – оживился Савва. – Отец Иоаким в моей келейке живал, когда в лавре бывал.
– Вот оно что, – задумчиво промолвил Федот. – Нет протопопа. Как никоновская замятня началась, так отец Иоаким проклял новое лжеучение и ушёл на острова к соловецким старцам. И многие с ним ушли.
– И что, стоит монастырь, держится? – спросил, волнуясь, Савва. – Он же в осаде. Там войско царское, пушки…
– Не тужи, батька, стоит! – сказал Федот. – Бояре, известное дело, предали святую церковь, но наш народ не весь, слава Богу, стадо! Этим летом запылает волжский Низ. На Москве слух идет, что царевич Алексей жив, не удалось его извести супостатам.
– Как жив? В церквах объявили, что почил в бозе. И брат его Симеон, и сестра.
– Про этих ничего не ведаю. А про царевича Алексея точно говорят, что чудесным образом был спасен и теперь скрывается у заволжских старцев.
Влас сидел, молча глядя на красные угли костра. В разговор он не вступал, его больше тревожил день завтрашний. А ну как шиш какой-нибудь послушает всё, о чем здесь брешут. Так завернется дело, что и хвоста родной кобылы не увидишь: вздёрнут на дыбу да язык урежут.
– Слушай, Федот! – сказал он. – Ты человек, видно, не раз пытанный, а я простой мужик, и мне не след в мои года ложиться под кнут. Лучше перед сном расскажи нам про Остров Счастья. Хотелось бы на сон грядущий услышать что-нибудь душепокойное.
– Изволь, хозяин! А что допрежде было, так я ничего не говорил. Ну, так слушайте, только это не придумка, а сущая правда. А началось дело так: заспорили лет этак двадцать назад два наших высоких иерарха о том, какой он – рай. Один уверяет, что рай – это понятие мысленное, откроется человеку только в другой жизни. Другой твердит, что правда твоя, но есть и на земле рай, только даётся он не каждому. Спорили, спорили и порешили найти сметливого человека, снабдить его на дорогу одёжей, припасами, дать ему денег полтину, а потом тычок в спину, и отправить его искать заповедную страну, где нет зла, а правит добро, где все сыты, довольны, у каждого христианина земли вволю, и урожай сам-сто, и бояр с приставами нет, да и царя тоже, потому что в раю правят не государевы, а Божеские законы. Звали удалого молодца, как водится, Иваном.
Очень не хотел Иван шастать по чужим краям, у него свадьба ладилась с одной раскрасавицей, что телят монастырских отпаивала парным молоком для архимандритова стола, но прознали про эту телятницу шпыни, доложили монастырскому эконому, и запечатал он Матрёну в самую потайную келью до Иванова возвращения. И пошёл Иван первой попавшейся под ноги дорогой через леса дремучие Муромские, как раз те, что мы одолели седмицу назад. Только с нами ничего не случилось, а к Ивану явился старец и объявил ему, что не дойдёт он до Пещаного моря, где Остров Счастья, коли не будет он знать странноприимцев, которые указывают путь-дорогу и сберегают от опасностей.
– Так укажи, куда обратиться? – сказал Иван.
– Укажу, а ты пообещай мне за это принести ягоду-финик, – потребовал старец.
– Изволь, принесу! Только зачем тебе эта ягода?
– Это не ягода, Иван, а яйцо, которое растет на деревьях. Я подложу его под курицу-наседку, и выклюнется птица Феникс, которая живёт вечно, и если даже сгорит, то из пепла восстанет живой и невредимой.
– Добро, принесу тебе это яйцо-ягоду.
– Ну, ступай тады до Змиевой горы, что под городом Саратовом, там дед-молчун в дупле живет. Дашь ему три сухаря, он тебе тридцать золотых корабельников отсыпет и дорогу укажет.
И побежал Иван. Бежит день, бежит два, бежит десять ден. Уже леса и дебри кончились, степь пошла ковыльная, полынная, репейная. Погнались за ним было калмыки, заарканить хотели и кобыльим молоком опоить, да не догнали: скор наш Иван на ходьбу. Дошел-таки до Змиевой горы, нашёл дуб, в нём дупло, а в дупле старец, который, увидев Ивана, заплакал, как малое дитя.
– О чём горюнишься, отче? – спросил Иван.
– Мочи моей нет, Иван, от таких мук. Кормят меня здесь винными ягодами, арбузами, дынями круглый год, чтобы я поливал этот дуб, а то высохнет он, а под ним пещера с золотыми бочонками, полными лалов, рубинов и яхонтов. Нет ли у тебя сухариков, Ванюша?
– Как не быть, есть. На Руси жить, да без сухаря есть-пить? Бери, дедушка!
Подал ему три сухаря, а старец отсыпал посыльщику в полу армяка тридцать золотых корабельников.
– Беги теперь, Иван, на Терек-реку. Там казаки живут, с бессерменами сабельками помахивают. Дашь ихнему ватаману два корабельника. За один корабельник даст тебе ватаман доброго коня, за другой всю казацкую справу.
И опять побежал Иван. Бежит день, бежит два… Степь кончилась, пошли пески зыбучие, жара окаянная, безводье. Но одолел все-таки, вышел к реке, вода в ней чисто лёд холодная. Достал из-за пазухи сухарь, размочил в воде, съел, стал оглядываться – осматриваться.
Видит – едет берегом реки казак, папаха на нём белая, чекмень малиновый, сапожки козловые, сабля серебряная, копьё ясеневое.
– Будь здоров, казак! Мне бы ватамана увидеть надобно.
– Может, мне своё дело обскажешь?
Уперся Иван, ни в какую не хочет говорить ни с кем, окромя ватамана.
Засмеялся казак и говорит:
– Я и есть ватаман. Поедем ко мне в приёмный дворец.
И как свистнет. Сразу из камышей конь выбежал и к Ивану ластится.
– Хватит играться. Поехали!
И помчались они вдоль берега бурливой реки, где вода с камня на камень прыгает, ревёт и рвёт берега. Скоро примчались на место. Видит Иван между двух дубов жерди березовые привязаны, а на жердях камыш наложен в несколько рядов. И на земле тоже камыш, а поверх него настелены ковры драгоценные персиинские, и стоит посредине огромная бочка с чихирём-вином, и казаки черпают вино кто ковшом, кто ведром и пьют так, что усы и бороды у всех взмокли.
Ватаман отправил казаков, кого границу стеречь, кого отсыпаться на печи, сел в камышовое кресло и говорит:
– Коня ты получил, а где плата?
Иван достал золотой корабельник и подает ему. Затем второй отдает.
Ватаман открыл камышовый сундук и выдал Ивану и кафтан, и острую сабельку, и папаху белую. Потом спрашивает:
– Не раздумал, Иван, ехать к Пещаному морю?
– Нет, не раздумал. Чую, верное дело. Ноги так самого и несут.
– Тут тебе ноги не подмога. Страшенные горы впереди. Народы живут дикие, обычаев человеческих и Божьих не чтут. Как раз тебя у первой скалы сцапают и уволокут в горы. Но ничего, я помогу, надо тебе до Кахетии пробиться, там грузины живут, православный народ. Главное, сквозь горцев проникнуть. Они вроде молятся Аллаху, а верят в волка, хотя сами по всем повадкам шакалы.
– Как же мне быть? – загоревал Иван.
– Не кручинься! – хлопнул его по плечу ватаман. – Казачки наши засиделись возле баб. Винище хлыщут да порох зазря на кабанов да фазанов жгут. Завтра возьмём сотню бывалых казаков, да сопроводим тебя через перевал до Кахетии. Там сам думай, голова должна быть своя на плечах, раз за такое дело взялся.
Наутро, ещё туман стоял густой, как сметана, выехали. Казаки копыта коней обмотали войлоком, чтоб не греметь подковами по каменьям. Вскорости и дымком пахнуло, аул, значит, близко. С десяток казаков исчезли в тумане, вскоре послышался шум, раздался пищальный выстрел. Казаки вернулись не одни: приволокли на арканах двух парней и девку. Девка плачет, а парни злые, зубами верёвки грызут. Ватаман подъехал к ним, вытянул одного, другого плетью поперек спины. Умолкли, соколики, они силу дюже уважают. А тут со стороны аула три старика прискакали на конях.
– Вот и договорились, – довольно сказал ватаман, подъехав к Ивану, – до самого перевала путь свободен. Они будут нас сторожить, чтобы никто случайно из кустов не стрельнул. А эти будут в аманатах.
И пустились в путь. А дорога, братцы, скальная, то осыпь, то тропа, где двоим не разойтись. Долго ехали. К утру выехали на перевал, откуда открылся благодатный вид на долину. Сёла, города – все как на ладони.
Тут и сторожа грузинская приспела. Ватаман им все обсказал про Ивана, попрощался с ним и пустился в обратный путь.
А грузины не дают Ивану выспаться, везут в стольный город к своему царю, потому что тот был рад всякому православному. Иван заснул в седле, но его бережно сняли с седла, умыли ключевой водой, дали выпить рог белого вина, и усталость как рукой сняло.
Царь грузинский спрашивает Ивана:
– Как изволит царствовать и здравствовать мой дорогой старший брат, его православное и царское величество великий государь Алексей Михайлович? Скоро ли прибудет его посольство с крепким войском, чтобы защитить веру православную от перса и турки, которые мордуют народ грузинский? Куда путь держишь, добрый молодец?
Без утайки всё рассказал Иван грузинскому царю, только про корабельники умолчал, ибо видел в царском дворце бедность страшенную: все потаскали турки, да персы, да их помощнички с волчьим знаменем.
– Эх, Иван! – вздохнул царь. – Слыхал я про тот чудо-остров за Пещаным морем. Уехал бы с тобой, остался бы в раю. Но кто будет сохранять мой народ?
Повелел он кормить, поить Ивана безденежно и отправить с купеческим караваном в Багдад.
Дорогу до Багдада Иван не запомнил: засунули его в корзину, повесили её сбоку верблюда, и он все двадцать дней проспал, чем удивил караванщиков крепостью русской породы. Правда, левую щеку отлежал да ногу, но ничего – растёрся, расходился, распрыгался. Вспомнил он про своего казацкого коня, да не нашёл. Продали его караванщики, азиаты коварные, а деньги продуванили. Пощупал одежду – целы корабельники. Порадовался Иван этой удаче и пошёл туда, куда пёр весь народ с узлами, коромыслами, бурдюками – к реке великой, известной ещё со времени потопа, Ефрат. Идёт, а сам думает, как он с корабельщиком договариваться будет. Так расстроился, что ругнулся по-русски, что есть силы. Народ от него шарахнулся, а один человек от радости Ивану на шею бросился, обнимает и говорит:
– Давно я русской мовы не чув! Ай! Ай! Какой пан и так далеко от Москвы! Может, помощи треба?
– А ты что за человек?
– Я? Да меня в Кравове знают, в Астрахани знают, в Москве самому великому государю часы с боем преподнес. Я честный человек, и зовут меня Марк. Говори, что у тебя за беда?
– Мне к Пещаному морю, там, сказывают, недалече от берега есть Остров Счастья.
– Был я там, – сказал Марк, – да не пожилось: на острове нет денег, ни золотых, ни серебряных, ни железных. А теперь скажи, Иван, что мне делать там, где нет денег?
– У меня другая печаль: не знаю, как добраться до Пещаного моря.
– Денег, стало быть, у тебя нет, – оживился Марк. – А вот кун добрый, дам я тебе за него пять динаров.
Устроил Марк нашего Ивана на корабль честь честью. Дали ему место на палубе под тростниковым навесом, кормили сарацинским пшеном, поили крепким пахучим напитком, кофе называется, он у арабов потребляется навроде нашего сбитня. Ехал Иван до Пещаного моря долго: пять раз на день корабельщики бросали паруса и вёсла, расстилали молитвенные коврики и совершали намаз своему Аллаху.
Иван, глядя на них, благочестивым стал, молился Пресвятой Троице и с умилением трепетным взирал вокруг. Ведь в этих местах некогда Господь устроил для Адама и Евы райский сад, и жили они там, пока не прогневали творца, и изверг он их оттуда. Но всё равно многое осталось от райского сада на берегах Ефрата. Вдоль реки стояли чудные деревья, усыпанные плодами, воды были покрыты цветами, от коих, особенно по вечерам, разливался благовонный аромат, в волнах то и дело плескались рыбы с радужным оперением, из тростниковых зарослей тучами подымались оранжевые длинноклювые птицы.
Добрался Иван до Пещаного моря и пошёл берегом, высматривая в просторе морском Остров Счастья, но солнце так слепило ему глаза, что ничего не было видно. Сел он под раскидистое дерево и скоро задремал. И вдруг, будто кто-то его толкнул, открыл глаза и видит: стоит перед ним, покачиваясь с пяток на носки и ухватившись большими пальцами рук за отвороты своего короткого кафтана, невысокий лобастый человек с большой лысиной, рыжеватыми усами и бородкой и смотрит на него с таким добрым прищуром, что Иван сразу почувствовал к нему неодолимую сердечную тягу.
– Пришлось разбудить тебя, Иван, – сказал незнакомец. – Ещё час назад на Остров Счастья идти было рано, через час будет поздно, а сейчас в самый раз.
– Как же я до него доберусь? – усомнился Иван. – Я по воде не ходок.
– Разве ты дороги на Остров Счастья не видишь? – незнакомец повернулся лицом к бескрайнему морю и, оставив левую руку на отвороте кафтана, правую вскинул в указующем жесте. – Иди по лунному следу и не страшись, что утонешь! Главное для тебя, Иван, не отклоняться от правильной линии ни влево, ни вправо, иначе своей цели ты не достигнешь.
– Авось, и останусь жив! – решился Иван и ступил на воду, где неведомая сила его подхватила и повлекла прочь от берега.
Не успел Иван моргнуть три раза, как оказался на острове перед воротами города. И ночи как не бывало. Удивился Иван – солнце из моря встает, птицы с длинными хвостами поют, стража на пряслах бьёт в тулумбасы и громко дует в трубы.
«Не меня ли так пышно встречают?» – подумал Иван.
Только он успел едва оглядеться по сторонам, как подбежал к нему местный житель.
– Челом Иван! С успешным прибытием на Остров Счастья!
– Почем ты ведаешь, что меня кличут Иваном?
– Не велика загадка! – улыбнулся встречальщик. – По твоему обличию сразу видно, что ты русак, стало быть, Иван. А теперь говори, зачем к нам припожаловал: насовсем или в гости? Мы в любом разе тебе рады, давно из русской земли к нам никто не являлся, хотя нам доподлинно ведомо, что всякий мужик там мечтает о счастье и воле.
– Послали меня православные архимандриты проверить, есть ли на вашем дивном острове такое, что можно почесть за рай на земле, – сказал Иван. – Посему остаться здесь я не могу, мне надо вернуться и вызволить свою любушку Матрёну, которую монахи запечатали до моего возвращения в тайную келью.
– Раз так, гостюй сколько похочешь, ступай за мной, я определю тебе избу, где ты сможешь отдохнуть, пока я доложу старцам твоё дело.
Провёл встречальщик Ивана через ворота, и ступили они на улицу, вымощенную изразцовыми плитками, а вокруг стояли рубленые избы с широкими стеклянными окнами, в каждом дворе бил упругой струей из земли водомёт и наполнял воздух приятной свежестью.
– А что, – сказал Иван, – у вас мылен нет, и вы на дворе моетесь?
– Как нет, – улыбнулся Ивановой простоте встречальщик. – Вот тебе и мыленка, мы её завсегда держим горячей, на случай приезда гостей. Ступай в неё, а я пока отойду по твоему делу.
Зашёл Иван в мыленку, разделся и прыг на полок, и начал обихаживать себя веником, сначала березовым, потом дубовым, а напоследок пальмовым, с того самого дерева, на коем ягода-финик родится. Так проняло жаром-пылом, что он выбежал из мыленки и бросился под водомёт охладиться. От холодной воды Иван скоро пришёл в память, устыдился своей наготы и скрылся в предбаннике. Только успел одеться, как услышал, что его поторапливает встречальщик.
– Поспеши, Иван, старцы сошлись и готовы тебя выслушать!
На площади подле собора стояли вкруговую скамьи, и на них восседали одетые в белые одежды старцы. Поведал им Иван про спор архимандритов и о своём пути на Пещаное море, и один старец за всех ему отвечает:
– Скажи, добрый молодец, высокочтимым отцам русской православной церкви, что ни о мысленном, ни земном рае мы не ведаем. Мы живём по Божеским законам, как их нам Бог на душу положил. И у нас здесь решено, что все люди равны от своего рождения, и поэтому ни царя, ни патриарха, ни бояр ихних, ни другого дьяческого и подьяческого семени не держим. На нашем острове один господин – равенство во всём. Вот гляди: все жители у нас одинакового роста, примерно равной силы, стати, красоты и приятности, только одни чернявые, другие белявые. Грамоты мы не знаем, книг не читаем, потому что это зловредное занятие, ведущее к гордыне и умопотрясению. Вместо книг у нас предания об отцах, дедах, прадедах, их славе и разуме. Чудный остров, дарованный нам промыслом Божьим, природу имеет, тоже склонную к равенству. У каждого хозяина всего рождается вровень: пшеницы, огородных плодов. Овцы приносят по два ягненка, кобылы – по одному жеребенку, коровы – по одному теленку. От такого Божьего расположения нет у нас бедных и богатых. Потому нет зависти, корысти, гордыни, преступлений, свар, нехороших слов в обращении. Для житья и работы у каждого есть своего в достатке, поэтому мы не одалживаемся друг у друга, не ходим друг к другу в гости. А все праздники встречаем вместе на этой площади за общими столами, после того как помолимся в храме. На праздниках и дома хмельного не употребляем, но все веселы и довольны. Хотя и не болеем, но приходит срок, и все умираем. А рая у нас, как видишь, нет.
– Ваш остров невелик, и Рязань не поместится, – сказал Иван. – Но как на великой Руси порядки завести вроде ваших?
– На этот вопрос ответа дать сразу не можем, – сказали старцы. – Ходи по городу, смотри, разглядывай, а мы держать совет будем.
Поклонился Иван старцам и пошёл по городу. В первом же доме его накормили щами с мясом, только вместо капусты в хлёбове плавали маслины. Полюбовался он работой мастериц, что вышивали золотом по шёлку. Девушки узнали про зазнобу Матрёну-телятницу, что томится в монастырской келье, и подарили ей дивный шёлковый плат с золотыми павлинами. Вышел из крепости – мужики огромный корабль сталкивают в море по бревнам. Помог им, поднапёрся плечом. Долго смотрел на дельфинов, что высоко выпрыгивали из волн, а мальчишки на них верхом катались. Однако темнеть начало, и возвратился Иван в город.
Старцы, видно, весь день с мест не вставали, потные сидят, а для прохлады молоко пьют кокосовое.
– Слушай, Иван, наш приговор! – промолвил маститый старец, видимо главный между прочими. – Передай своим архимандритам, что ответа от нас им не будет. Они свой спор почерпнули из книг, а мы люди неграмотные, поэтому спросу с нас нет. Скажи ещё, что равенство на Руси быть не может, ибо русские люди изначала не сумели жить мирным общежитием, а поставили над собой царя, бояр, дворян, воевод, дьяков, приставов, старост, которые ими управляют или по праву рождения, или по силе наглости. И Русь с самого начала не освобождается от грехов и неправд, а копит их всё больше и больше. Всё на Руси повязано насилием и неправдами, и порвать эти цепи сможет только народный бунт. Когда-нибудь явится на свет атаман всея гулёвой Руси, вздыбит мужиков на бояр, и начнётся резня и великое пролитие крови. А теперь, Иван, ступай на корабль, он идёт в Царьград, затем крымскую Кафу, а там и до Руси рукой подать.
– Премного вам кланяюсь за гостеприимство, дорогие хозяева! – Иван низко поклонился. – Не обессудьте за просьбишку: муромский старец, что помог мне добраться до вас, просил принести ему финик-ягоду.
– Этого добра у нас премного, – сказал старец. – Возьми и себе, хоть мешок, хоть два.
Сел утром Иван на корабль и через два месяца был у архимандритов, завезя по пути муромскому старцу мешок фиников-ягод. Выслушали архимандриты Ивана, затопали ногами, забрызгали слюной и приказали отцу-эконому бить батогами Ивана на конюшне. Выдали Ивану сто батогов и бросили в горячий коровий навоз, чтобы отлежался. Там нашла его телятница Матрёна и уволокла к себе в избёнку. Омыла его настоем чистотела и спрашивает:
– Где же ты, Ванюша, пил-гулял? Меня, болезную, забыл, а я глазоньки выплакала, тебя поджидаючи.
– Не плачь, Матрёна. Разверни-ка мой кушак и достань подарок с Пещаного моря.
Развернула Матрена кушак, достала плат, накинула на плечи, и в избенке стало светлым-светло.
Через несколько дён ушли они убёгом на Терек, к вольным казакам. На оставшиеся корабельники купил Иван коня и всю казацкую справу, построил камышовую хатку и стал казаковать. А Матрёна что ни год, то казаков да казачек ему рожала. Так и живет он на Тереке до сих пор, пьёт чихирь, казакам об острове в Пещаном море рассказывает.
Федот потянулся, зевнул, затем опрокинулся на спину, подсунул под голову шапку и захрапел во всю мочь.
– Добрая сказка, – промолвил Максим.
– Почему сказка? – возразил Савва. – Я знавал человека, который мне уже поведал об Острове Счастья. Федот про архимандритов не сказал, а с ними беда вышла: они так расшумелись о мыслимом и земном мире, что патриарх сослал их в дальний монастырь, дабы они народ не смущали.
Захребетнику Прошке рассказ Федота разбередил душу.
– Вот попасть туда! – сверкая глазами, сказал он. – Знал бы дорогу, побежал сейчас же, на ночь глядя!
– Тебе ничего другого не надо, как целыми днями на печи качаться, – проворчал Влас. – На блинах спать, а на калаче держать голову. Вот и поживи с таким, хоть и в раю. И на Острове Счастья пашенку нужно холить, и лодырям, как ты, Прошка, там места нет.
– Скорее всего, нет никакого Острова Счастья, – сказал Максим, мостя себе для спанья подстилку из еловых веток. После разразившейся над ним беды – потери Любаши, он стал ко всему недоверчив.
– Слушал бы ты эту бывальщину на голодное брюхо, не усомнился, – шутливо промолвил Савва. – А то натрескался кабанятины и от сытости осовел.
На другой день по дороге к Промзину Городищу к их ватаге стали прибиваться богомольцы, что из разных мест шли к святой Николиной горе пожалиться святому угоднику о своих бедах и испить водицы из чудодейственного родника, помогавшей излечиться от всяких болячек и хворей. Погода благоволила путникам: было тепло и сухо, дул упругий ветерок, сметавший комаров с открытых мест, ельники отступили, и появились, веселя взгляд, дубовые и берёзовые рощи, и между ними луга с высокими цветущими травами.
Перед Николиной горой люди остановились, поснимали шапки и пали на колени. Она была чудна не только своей святостью, но и местоположением: кругом простиралась равнина, и гора восходила над ней, как огромный опущенный с небес на землю колокол, видный на многие вёрсты вокруг. На её вершине стояла часовня, к которой по наторенным тропам шли, ползли, карабкались богомольцы. Рядом с Максимом взбирался по тропе слепой малец, он через каждые три шага кланялся и крестился, а мать его легонько поддерживала за руку, молясь о чуде прозрения своего сына.
На вершине горы стояла невеликая часовня во имя Святого Николая Чудотворца, люди заходили в неё, молились и, поцеловав образ святого, покидали, просветлев душой и в полной уверенности, что чаемое ими непременно свершится. Вошёл в неё и Максим, упал на колени и жарко вымолвил: «Святой Никола! Помоги мне вернуть мою Любашу!» Коснувшись губами зацелованного оклада иконы, он вышел из часовни и стал ожидать, когда отмолятся его попутчики. Дольше всех в ней задержался Влас, у него было много прошений к святому угоднику, и он донёс их ему одно за другим, сопровождая каждое истовым и жарким молением.
Богомольцы не спешили покидать святую гору, на днях здесь свершилось чудо оздоровления сухорукого человека, и люди только об этом и говорили, непременно вспоминая все знаки внимания Николая-угодника, которые он оказывал этому месту. Несколько веков назад на сурскую землю напала орда кочевников, а рать защитников была мала и не могла долго сопротивляться. И тогда на вершине горы в столпе огня появился Божественный всадник – Николай Чудотворец, и, узрев его, поганая орда взвыла от ужаса и обратилась в бегство, и никто из врагов православия не подступал с той поры к заповедному месту.
Сойдя с Николиной горы, они повернулись к ней, перекрестились и пошли к Суре, за которой начиналась синбирская земля. Когда путники по наплавному мосту достигли правого берега, их встретила таможенная стража. Одышливый и рыхлый приказчик окинул людей испытанным взором мздоимца и вопросил:
– Кто такие? По какой надобности сюда явились?
– Переведенец из Патрикеевой волости, – сняв шапку, сказал Влас. – Со мной мои домочадцы, а на телеге пожитки.
– Тебя-то я вижу, что ты мужик, – приказчик грозно нахмурил брови. – А эти что за люди?
Максим и Савва достали свои грамотки, но отдавать не поспешили.
– Идём в Синбирск, – сказал Савва. – Воевода князь Дашков затребовал нас из Москвы как письменных и кузнечных дел умельцев. У меня в суме чернильница да бумага, а у Максима кузнечные снасти.
– Явите грамотки в воеводской избе, – важно молвил приказчик и ухватил Федота за воротник кафтана. – А у тебя какая грамотка?
Федот весело на него глянул и полез рукой себе за пазуху.
– Погоди чуток, сейчас явлю свою грамотку, только нашарю.
Приказчик принял поданную ему мзду и кисло поморщился.
– Рожа, гляжу, у тебя воровская, а ты её вздумал двумя алтынами прикрыть. А ну, ребята, порастрясите его!
Двое стражников накинулись на Федота, сорвали с него кафтан, сняли сапоги, опростали суму, но ничего не нашли, что можно было присвоить.
– На сей раз я тебя отпускаю без битья, – сказал приказчик. – Ступай, но в другой раз пустым на мой перевоз не являйся, изведаешь палок досыта.
Обуваясь, Федот зло пришёптывал:
– Годи, трухлявый пень, будет случай, явлюсь сюда и вздёрну тебя на веску!
Подхватив суму, он пустился догонять попутчиков, которые скоро уходили от Суры в сторону карсунской дороги. Максима случай на сурском мосту смутил, до него стало доходить, что в пустом пограничном краю каждый человек известен, а на беглых людей здесь много ловцов, и не все они полоротые, как таможенный приказчик. А Савва не унывал.
– Узнал, Максим, какая сила приказная грамотка? – похвалился он своей находчивостью. – Не изготовь я её, худо пришлось бы тебе.
– Один раз она меня выручила, а на другой раз? Найдётся грамотей и отыщет какую-нибудь в ней зацепку. Добро бы до Синбирска дойти и грамотку никому не являть.
Они прошли по карсунской дороге верст десять, как Влас остановился и, забравшись на телегу, осмотрелся вокруг.
– Сдается мне, что мы лишку прошли, – сказал он. – Починок где-то на берегу Барыша, а мы от него всё отходим и отходим. Сейчас до реки версты две-три будет, надо найти берег и идти по нему до жилья. Выпрягай, Андрейка, кобылу и пробеги до Барыша, сыщи починок.
– Я с ним пойду, – Максим стал снимать с Солового вьюк.
– Тебе же в Синбирск, – удивился Влас. – Савве тоже, а Федотке неведомо куда. Ступайте, мужики, своей дорогой и не тяготитесь моей заботой.
– Поезжай, Максим, – сказал Савва. – Синбирск от нас не убежит, мы можем и подзадержаться. Вот глянем, как живут переселенцы, и пойдём своей дорогой.
– Вместе прогуливаться в незнакомом месте веселей, – поддержал Федот Савву. – Я тоже не спешу, меня, кроме матери-Волги, никто не ждет.
Парни сели на коней и поехали по луговине к невысокой гриве, взобрались на неё, помахали оставшимся их поджидать людям и пропали из вида.
– Вставай, Влас, на днёвку, – сказал Савва. – Они вернутся не скоро. Раньше вечера мы на месте не будем. А утром оглядимся, если надо, поможем тебе землянку слепить и пойдем на Синбирск.
Глава вторая
Через три дня путники достигли неширокой и тихой речки Свияги, за которой на горе россыпью изб и главами церквей виднелся град Синбирск. У въезда на мост на них хмуро глянул караульщик, но не остановил, поскольку сразу смекнул, что поживиться с этих прохожих ему будет нечем – один монах, а двое других явно люди бывалые и привычные за себя постоять.
За мостом Федот остановился и огляделся.
– Давайте, дружьё, прощаться, – сказал он. – Мне в город идти не с руки, я лучше обойду его стороной.
– Куда же ты направишься? – спросил Максим.
– На Волгу, – ответил Федот. – За волей и счастьем нечего на Пещаное море идти, его и недалече, за Синбирской горой, сыскать можно. Айда со мной, а то как раз тебя в Синбирске ярыжки опознают как беглого.
– Я пока воли не ищу, – отказался Максим. – А в граде обязательно побывать должен, людям обещал.
– Что ж, вольному воля, – сказал Федот и, не оглядываясь, пошёл по берегу Свияги.
– Гулёвой человек, – сказал Савва. – Сразу видно, что ему матушка – сабля вострая, а батюшка – воровской атаман.
По разбитой тележными колесами дороге они поднялись в гору к посаду и пошли по улице мимо заборов, за которыми стояли избы, частью свежерубленные, частью обгорелые.
– Видно, пожар недавно был, – сказал Савва. – Дело обычное. Но крепость цела. Что, Максимушка, пойдём к воеводскому крыльцу, явим грамотки, ты свою не потерял?
Максим поскучнел, идти к воеводе ему не хотелось. Хотя Савва и горазд писать, но местные дьяки тоже не слепы, а ну как узрят, что грамота писана не в Москве, а на осиновом пне близ большой дороги? Страх подумать, что будет и с ним, и с писарем.
– Погодим идти, батька, – сказал Максим. – Мне здесь на посаде одного человека проведать надо.
– Это кого ж?
– Сам не знаю, – уклончиво промолвил Максим. – И тебе его знать незачем. Ты лучше ступай на зады, вон к тому амбару и будь близ него, я тебя отыщу после.
– Ладно, – сказал Савва. – Но ты не пропадай до ночи.
– Иди, иди! – поторопил спутника Максим, увидев, что от Свияги к ним подымается воз и рядом с ним, держа в руках вожжи, идёт мужик.
– Как не знать Андреева Ивана Ермолаевича, – сказал возчик. – А на что он тебе?
– Я тебе не про дело говорю, – обозлился Максим и грозно воззрился на него. – Я тебя спрашиваю, где его изба?
– Да я так, слова ради спросил, – испугался мужик. – Экий ты бедовый! А Иван Ермолаевич недалече живёт. Вон его изба под новой крышей!
Держа в поводу коня, Максим пошёл по улице. Было жарко, обыватели посада, свято блюдя обычай послеобеденного отдыха, попрятались по избам, сеновалам, другим прохладным местам и предавались сну. Фыркнув, Соловый потревожил дремавших под ивовым кустом кур, они прыснули в разные стороны, а петух отважно зыркнул на Максима огнистым оком и, захлопав крыльями, хрипло заголосил.
Домовладение мельника Андреева отличалось от прочих высокой, из крепких сосновых кольев городьбой, за которой изб не было видно. Земля возле ворот была присыпана речным песком, рядом с ними находилась коновязь. Максим привязал коня и несколько раз брякнул воротной колотушкой. Послышались быстрые и легкие шаги, оконце в воротах распахнулось, и раздался молодой голос:
– Кого ищешь?
– Мне бы хозяина, – сказал Максим. – Я к нему от Автонома Евсеева, с Теши.
Загремели запоры, ворота распахнулись, и появился молодой широкоплечий парень.
– Конь твой? – спросил он и, не дожидаясь ответа, отвязал Солового от коновязи. – Заходи, что стоишь? Здесь все свои. А меня Ермолаем кличут.
Двор был застроен многими избами и амбарами. Максим вслед за сыном хозяина прошёл до крыльца. Ермолай взбежал по ступенькам, стукнул кулаком в дверь, открыл её, вошёл и через мгновенье высунулся.
– Заходи!
Мельник Андреев сидел спиной к стене на скамье, положив руки на стол. Максим перекрестился на образа и почтительно поздоровался с хозяином, назвав своё имя.
– Как дорога? – спросил Иван Ермолаевич. – Поди, всё лесом?
– И так было.
– Ты один шёл или с людьми? Может, кого сюда привёл?
– Есть попутчик, переписчик книг Савва, – сказал Максим. – Я его на задах подле амбара оставил дожидаться.
Хозяин стал явно недоволен.
– Давай посылку.
– Прикажи парню принести поклажу с коня.
– Неси, Ермолай. А потом сбегай за этим Саввой и приведи сюда, да так, чтобы никто не видел.
Ермолай принёс вьюк, Максим рассупонил завязи, развернул поклажу, взял свой рабочий ножик и стал распарывать мешковину по шву. Грамотки были завернуты в бычьем пузыре, чтобы не промокли. Достал их, отдал хозяину. Тот увидел кузнечные орудия и улыбнулся.
– Ты и взаправду кузнец?
– Кое-что умею, – сказал Максим. – Но до конца не выучился. Хозяин помер, и я достался его брату.
– Так ты холоп?
– Отец себя запродал, и нас с матерью.
В избу вошёл Ермолай и вопросительно посмотрел на отца.
– Привел попутчика?
– У крыльца оставил.
– Добро. Запри его в амбар. А ты, Максим, побудь здесь. Принеси ему, Ермолайка, из поварни что-нибудь поесть. Я скоро вернусь.
Ермолай принес чашку рыбы, кувшин квасу, ломоть хлеба и удалился. Максим услышал, как он громыхнул засовом двери, и усмехнулся. Заточение его не огорчило, рыба оказалась вкусной, хлеб мягким и теплым, квас шипучим и острым. Он поел и, положив шапку под голову, лёг на лавку. Только закрыл глаза, и привиделась Любаша, какой он её запомнил во время последней встречи. Не хотела она уходить от него, словно чувствовала разлуку. Где она сейчас, да и жива ли?
В сенях послышались тяжелые шаги, дверь в горницу распахнулась. Максим закрыл глаза и прикинулся спящим.
– Вставай, странничек! – сказал Иван Ермолаевич. – Огляди, Степан Ерофеич, гостя.
Максим опустил ноги на пол, поправил рукой волосы на голове. Поднял глаза и натолкнулся на цепкий взгляд незнакомца. Тот смотрел на него так остро, будто крючок ему в самую душу забросил и всё оттуда тянул да вытягивал. Максим смутился и потупился.
– Не бойся, парень, – сказал Андреев. – Этот человек может стать твоим счастьем, если приглянешься ему. Это сам Твёрдышев. Слыхал про него?
– Пока нет.
Степану Ерофеевичу, купцу гостиной сотни, чье имя было на всей Волге знаменито, такой ответ был в диковинку и посему понравился. Он сел на скамью напротив Максима и спросил:
– Ты как Автонома Евсеева знаешь? Говори всё, как есть.
Услышав в конце исповеди, что Максим пришёл не один, а привёл с собой учёного монаха, Степан Ерофеевич заинтересовался, коротко бросил Андрееву:
– Показывай этого Савву, переписчика!
Монах даром времени не терял и явился заспанный, ряса в клочьях соломы, в бороде паутина. Испуганно глянул на Максима: мол, за что беду ты, парень, накликал на мою седую голову – сначала в амбар кинули, а теперь розыск хотят учинить.
– Ты что, и в самом деле переписчик? – спросил Твёрдышев.
Эти слова враз успокоили Савву, о своем рукомесле ему отвечать было привычно. Он развязал свою суму, достал из неё «Казанскую историю» и положил на стол.
Твёрдышев взял книгу, перелистал её, прочитал последнюю страницу и сказал.
– Вижу, что ты и впрямь переписчик, таким цены нет. Но что тебя согнало с Москвы, здесь твоё рукомесло никому не потребуется?
– Тягостно мне стало, господине, от новых церковных порядков, вот и ушёл, куда глаза глядят.
Твёрдышев ненадолго задумался, затем промолвил:
– Мне такой человек, как ты, нужен. Согласен на меня работать переписчиком? Вестимо, за деньги.
– Куда ж мне, сироте, деваться? Доброму человеку не грех послужить, – сказал Савва. – Возьми тогда, господине, и парня. Он честен и дело знает.
– Что умеешь? – спросил Твердышев.
– Кузнечное дело знаю, – тихо промолвил Максим и толкнул ногой суму с железными инструментами.
– С ним непросто, он ведь беглый, – задумчиво произнёс Твёрдышев. – А государевы сыщики и в Синбирске шарят.
– Я ему грамоту сделал, – сказал Савва. – На аглицкой бумаге.
Максим достал бумагу и подал Твёрдышеву. Тот её развернул, прочитал и усмехнулся.
– Наш подьячий Никита Есипов грамотей не слабее тебя, Савва. Он сразу узрит, что сия грамотка писалась не в московском приказе, а в подворотне на коленке. Где у тебя огонь, Иван Ермолаич? Возьми и сожги эту писульку немедля, она парню ничего, кроме батогов, не сулит.
– Зачем жечь аглицкую бумагу, она денег стоит? Отдай её мне, я повыскоблю написанное и по-другому разу, будет нужна, напишу, – сказал Савва.
Но Твёрдышев ему грамоту не отдал, порвал на несколько кусков и бросил на стол.
– Для тебя, Савва, у меня непочатая стопа аглицкой бумаги имеется. Сейчас мы пойдём являться к князю Дашкову, а затем я тебе укажу твоё место в своей избе. Там у тебя будут и стол, и бумага, и перья, и чернила, и лавка для спанья.
– Степан Ерофеич, – сказал Андреев. – Куда решишь парня пристроить? Может, ко мне на мельницу?
– Добро. Пусть у тебя побудет, в стороне от чужих глаз. А там я подумаю, как ему помочь.
Максим с жадностью внимал словам сильного человека, а Иван Андреев толкнул его в спину.
– Кланяйся, дурень! Благодари Степана Ерофеича за милостивое слово.
Максим прямо с лавки упал на колени и стукнулся лбом о пол.
Когда Твердышев и Савва подходили к Синбирскому кремлю, колокол на надвратной башне Крымских проездных ворот звучно, на всю округу, отмерил девятый час дня. Воротник Федька Трофимов подобострастно поклонился Твёрдышеву и хмуро посмотрел на семенившего рядом с шибко шагавшим купцом Савву, которого весьма удивило множество ратных людей вокруг.
– На Низу Стенька Разин большую силу взял, – сказал Степан Ерофеевич. – Грозит своей вольницей самой Москве. Вот мы силы копим, на днях подошли приказы московских стрельцов.
Савва поежился, ему были ведомы повадки воинских людей, которые страшились только палок своих начальников и были не прочь пограбить обывателей, если те плохо запирали ворота своих домов.
Воевода князь Дашков по случаю жары прохлаждался под шатровым крыльцом съезжей избы, где его обдувало свежим ветерком с Волги. Князь был седоголов, но ещё весьма проворен в движениях, особенно когда его что-нибудь досадило. Час назад он получил думскую грамоту, что воеводой в Синбирск назначен князь Милославский. Дашков расценил это решение государя Алексея Михайловича как явную каверзу, устроенную супротив него московскими недоброжелателями, и долго вычитывал грамоту. Затем начал метаться по крыльцу и размахивать руками, чем немало удивил московского стряпчего, который доставил грамоту в Синбирск. Утомившись бегать, он остановился и спросил вестовщика:
– Что знаешь о Милославском?
– Князь отправился следом за мной, – ответил стряпчий. – Ему велено для скорости идти не водой, а посуху и обоза с собой не брать.
– К чему такая спешка? – задумчиво произнёс Дашков. – Ты ведь трёшься подле царского крыльца, многое ведаешь. Может, слышал, почему мне такая немилость?
– Не волен я входить в рассуждения сильных людей, – сказал стряпчий. – Правда, краем уха слышал, что в Синбирске будут ждать мятежников с волжского Низа, посему решено на град поставить Милославского, а также дать ему в подмогу князя Барятинского с двумя полками рейтар.
– Что ж они, вора до Синбирска думают допустить, – удивился Дашков. – А что астраханские воеводы? Разве у них нет мочи уничтожить воровских казаков?
– Того я не ведаю, князь, – сказал стряпчий и потупился. Он был разбит до последней жилки своего тела гоньбой по лесным дорогам, смертельно устал и ждал только одного – упасть на лавку и провалиться в беспамятный и мутный сон. Это увидел и воевода.
– Есипов! – крикнул он. – Проводи вестовщика в осадную избу, пусть отоспится.
Подьячий повёл москвича на отдых, и Твёрдышев с Саввой столкнулись с ним на полпути.
– Как воевода? – спросил купец.
– По крыльцу мечется, – усмехнулся Есипов.
– Что так? Чем князь огорчён?
– Сей стряпчий привёз воеводе в перемётной суме полный воз новостей. На Синбирск воеводой поставлен князь Иван Богданович Милославский.
Известие было для Твёрдышева огорчительным: Дашков давно сидел на воеводстве, и купец научился с ним обходиться. Почти все кабаки в Синбирском уезде и в самом граде были у Твёрдышева в откупе, ему же принадлежали крупные участки рыбных ловель на Волге, со всего этого хозяйства он получал большие доходы, не забывая при этом полновластного владыку здешних мест, воеводу Дашкова. Брал князь деньги у купца, порой до тысячи рублей, на оплату жалованья служилым людям, потому что Москва часто задерживала выдачу денежного содержания стрельцам и казакам. И сейчас за воеводой имелось шестьсот рублей долгу, поэтому Степан Ерофеевич поспешил к воеводской избе.
Князь Дашков уже успел укротить всколыхнувшееся в нём чувство обиды и начинал подумывать, что утрата воеводства ему может выйти как раз на руку. Скоро на Волге начнется такая кровавая смута, что лучше от этих мест быть подале, к примеру, в родовой вотчине, куда Дашков не заглядывал уже пять лет, отданных синбирской службе. Пусть Милославский воюет с воровскими казаками и всякой другой сволочью, а я, размышлял князь, хоть и саблю не вынимал из ножен, но достойно служил великому государю на Синбирске: добрый городок Сенгилей поставил, до двухсот дворян наделил поместьями по обе стороны Волги, и за Синбирской крепостью догляд держал, ни пожара, ни мора при мне здесь не было, прясла подправил новыми сосновыми и дубовыми срубами, в пороховом погребе под крышку припасено зелья и свинца в чушках, в амбарах запасены солёная рыба, мука на случай приступа, казакам и стрельцам полностью отдано денежное довольствие.
Эти размышления утешили Ивана Ивановича, и он крикнул, чтобы ему принесли квасу, настоянного на винных ягодах, сладкого и слегка веселящего разум заморским хмелем. Окончательно смыв квасом горечь от худой московской вести, Дашков весёлым взглядом оглядел всё вокруг и увидел, что к нему идёт Твёрдышев с каким-то монахом.
«Рублей двести я с него на прощальный поминок возьму, – мелькнуло в голове князя. – У Твёрдышева мошна тугая, на десятки тысяч».
– Будь здрав, милостивый князь! – промолвил, степенно поклонившись, купец. – Вот являю тебе сего смиренного инока Савву, которого я беру себе переписчиком.
Дашков окинул Савву скорым взглядом и погрозил купцу пальцем.
– Знаю я твои переписи, Степан Ерофеич, – молвил, улыбаясь, он. – Ведь не твои приходы-расходы будет переписывать, это ты в голове держишь. А станет сей мних строчить списки с раскольничьих грамот, коими наводнена уже Русь, из Пустозёрска,
Твёрдышев с улыбкой встретил притворно суровый взгляд воеводы, а Савва похолодел от страха: он бежал из Москвы от огня никониан, а в Синбирске, кажется, попал в полымя.
– Давно я хотел, князь, иметь список «Казанской истории», – сказал Степан Ерофеевич. – Теперь Савва мне его исполнит.
– Против этого у меня нет запрета, – сказал Дашков. – Ты ведь знаешь, Степан, я к старой вере терпим. Протопопа Никифора терпел и укрывал, пока вселенские патриархи на Синбирск не наехали и его не расстригли. Хороший был поп, но погиб, как дурак, царствие ему небесное.
Воевода истово перекрестился, отпил квасу и улыбнулся.
– Волей великого государя я освобождён от розыска над тобой, Степан Ерофеевич. На Синбирск поставлен князь Милославский. Пусть у него теперь голова болит о раскольниках и воровских казаках, которые, кажись, надумали устроить между собой стачку против великого государя. Говорю тебе, как некогда попу Никифору: уймись, Степан, со своим расколом и крепче держись за свою мошну. Охота тебе этих трутней, что себя жгут, рублями осыпать, не купецкое это дело.
– Я дело своё завсегда в уме держу, – спокойно сказал Твёрдышев. – За тобой, князь, долг есть в шестьсот рублей. Что будет стоить твоя поручная запись, когда явится Милославский?
– Долг не на мне, а на казне, – возразил Дашков, пытливо вглядываясь в глаза Твёрдышева. – Может, ты по-другому мыслишь?
Степан Ерофеевич подошёл к крыльцу, поднялся по ступенькам и тихо произнёс:
– Сам знаешь, Иван Иванович, что Милославский от долга не откажется, но отдавать не поспешит. Посему есть у меня для тебя слово.
– Говори, – сказал воевода и замахнулся на некстати выскочившего из избы слугу. – Умное слово никогда не повредит.
– Давай, Иван Иванович, перепишем поручную запись. Скажем, что ты взял шестьсот рублей не в казённый долг, а за рыбные ловли близ Ундоров.
Воевода часто задышал и начал мерить крыльцо шагами, от одного конца к другому.
– Эти ловли сейчас даны Ушакову, – внезапно остановившись, промолвил он. – Как с ним?
– Через месяц у него его срок заканчивается, – сказал Твёрдышев. – Дай поручную запись, что взял деньги за ловли, начиная со следующего месяца, те же шестьсот рублей. Вот и не станет у казны долга. А тебе, Иван Иванович, от меня будет двести рублей поминка на счастливую дорогу.
– Ушаков буянить начнёт, – задумчиво сказал Дашков, затем резко махнул рукой. – Добро, уговорил! Значит, двести рублей?
– Как одна копейка! – клятвенно произнес Твёрдышев. – Чтобы не тянуть, сейчас и сделаем поручную запись.
– Кто сделает? – спросил воевода. – Никитку Есипова не надо, он болтун и дурак. Может, твой монах грамотку спроворит? Но не тут. Ступай в свою избу, а я после к тебе загляну.
Твёрдышев спустился с крыльца и, поманив за собой Савву, пошёл мимо соборной церкви, возле которой, дожидаясь начала службы, сидели на земле с десяток нищих. Невдалеке от них на скамеечке расположился площадной подьячий, поджидая челобитчика, крестьянина или посадского человека. Красноносый от непомерного пития хмельного грамотей, завидев Твёрдышева, встал и приветствовал купца низким поклоном.
– Бог в помощь, Герасим! – произнес Степан Ерофеевич. – Много ль полушек за сёдни сшиб?
– На квас не добыл, – скривился подьячий. – Со вчерашнего дня во рту маковой росинки не побывало. А про остальное уж молчу. Пожалуй, милостивец, пишущего раба твоего алтыном, я отслужу.
– Худая от тебя служба, Герасим, – сказал Твёрдышев. – Намедни писал мне грамотку и всю жиром заляпал. У меня теперь свой переписчик появился, московской выучки. И хмельное не лопает, как ты.
– Этот, что ли? – пренебрежительно вопросил подьячий, указывая грязным перстом на Савву. – Да он ни бельмеса не кумекает в приказных заковырках. А я тебе пригожусь. Выщелкни алтын, Степан Ерофеевич, за мной не пропадёт.
Не хотелось Твёрдышеву развязывать кошель, но пришлось, нужным человеком был подьячий, выручал не раз купца от подвохов соперников, ибо многое ему было ведомо по его службе. Получив алтын, Герасим опрометью бросился к крепостным воротам, за которыми на посаде стоял кабак.
– Беда с русским человеком, – вздохнул Твёрдышев. – Всем хорош, да пьёт до полусмерти.
– Всё правда, – согласился с ним Савва. – Он и до смерти работает.
Крепость была плотно застроена. Почти впритык к заволжской и свияжской пряслам стояли, почти вплотную друг к другу, большие избы для ратных людей. Стрельцов подле них не было видно, они работали вокруг внешней стороны крепостной городьбы: углубляли ров, крепили в нем дубовые колоды с вбитыми в них заостренными железными прутьями, эти ужасные для осаждающих воинские хитрости назывались чесноком.
В крепости было тринадцать кормовых изб и столько же поварен для кормления служилых людей. Вокруг них, готовя еду, суетилась поварня, было шумно и дымно, из огромных бочек с помоями смрадно воняло протухшей рыбой и прокисшим тестом. Твёрдышев и Савва испуганно отстранились: из-за угла избы на них нежданно вывернули, позванивая оковами, два тюремных сидельца под доглядом дюжего стрельца, вооружённого ржавой алебардой. Узники на толстой палке несли котёл с горячим хлёбовом для всей тюремной братии, которую кормили один раз в день, чаще на казенную полушку никак не выходило. Этих, что прошли мимо него, Савва сразу определил: беглые крестьянишки, и пойманы недавно, поскольку не успели ещё от подземного житья и худой пищи озеленеть лицами и зарасти шелудьями.
Через трехсаженную пыльную улицу от кормовых и поваренных изб стояли амбары, из которых поварня брала для приготовления пищи овсяную муку, из которой делалось толокно, солёную рыбу, говяжью и свиную солонину, горох, репу, капусту, лук и чеснок. Амбарные приказчики знали Твёрдышева и низко кланялись именитому купцу, когда он проходил мимо.
– Вот и моя изба, Савва, – сказал Степан Ерофеевич. – Сейчас ключница Потаповна ворчать начнёт на меня, что не пришёл обедать. Но ты не смущайся, она женка добрая.
Савва огляделся. Вдоль казанского прясла стояли осадные избы. Одна была громадной, в два этажа, и предназначалась для испомещения людей, которые сбегутся в крепость от набега степняков или воровских казаков. Обочь от неё стояли с десяток изб людей знатных и достаточных, которые в мирное время в них не жили, но содержали на всякий крайний случай. Поволжский край не был до конца замирен, и беда могла прийти в любой час. Знатные люди обычно жили на посаде или в своих поместьях. Твёрдышев ещё полностью не перебрался в Синбирск, зимой он жил в Нижнем Новгороде, где имел свой двор, летом – в Синбирске, близ подвластных ему кабаков и рыбных ловель в своей осадной избе, которую построил его отец, первым из купцов гостиной сотни обосновавшийся в этих привольных и прибыльных для тароватых людей местах.
Горница твёрдышевской избы стояла на каменной, углубленной в землю, подклети, где помещалась премного всякого товару и съестных припасов. Наверх, в горницу, вела широкая просторная лестница из дубовых ступеней, крыльцо было таким же просторным, как и в приказной избе, под шатровым навесом, изукрашенном затейливой деревянной резьбой, точеными перилами и столбами.
– Заходи, Савва, не чинись, – шутливо молвил Степан Ерофеевич, заметив, что тот робеет ступить грязным сапогом на выскобленную добела ступеньку крыльца.
– И правильно делает, что не прётся с грязными сапожищами в дом, – раздался сверху сварливый голос. – Очисти об скребок большую грязь, а малую обстучи об решётку!
– Неласково ты встречаешь моего московского гостя, Потаповна, – сказал Степан Ерофеевич. – Он на Москве не в такие палаты, как моя худая избенка, хаживал. Что расходилась? Или сама кругом виновата, не поспела с обедом?
– Как же не поспела! – чуть не вскричала Потаповна. – И за поломойками догляд держала, и обед готов давно, а тебя, батюшка Степан Ерофеевич, всё нет.
Савва ожидал увидеть согбенную, чуть ли не с клюкой старуху, а перед ним предстала дородная белолицая женщина в летнике из тонкой крашенины светлосинего цвета и чёрном, повязанном под подбородком платке, с пытливым и недоверчивым взглядом, которым она окинула с головы до ног нежданного гостя.
– Потаповна – моя вторая мамка, – сказал Степан Ерофеевич. – В детстве меня, озорника, прутом потчевала, а теперь допекает своими заботами. Весь мой синбирский дом на ней держится.
– Как же за тобой, батюшка, не доглядывать, – строго молвила ключница. – Ты порой к себе незнамо кого ведёшь. Иной вроде купец, а ухватки у него воровские. Вот недавно серебряная чарка пропала, не я же её унесла, а кто-то из тех низовых торговых людей, что ты привечал хлебом-солью.
– Савва не купец, – рассмеялся Твёрдышев. – И будь с ним поласковей. Он теперь у нас жить будет.
– Я не кошка, чтоб к нему ластиться, – нахмурилась Потаповна. – Не погляжу, что монах, если зачнёт бедокурить.
Ключница повернулась и ушла вглубь дома, и только Твёрдышев и Савва успели расположиться за столом на скамьях, как Потаповна внесла судок, достала из хлебницы хлеб, поставила на стол миски. Вскоре, подав и другие блюда, она ушла на свою половину.
Савва в многодневных странствиях исстрадался по горячей пище и себя не сдерживал за столом. Выхлебал две миски стерляжьей ухи, но не насытился и жадно приник к пирогам с визигой, которых умял несколько штук, запивая терпким хлебным с изюмом квасом.
За столом разговора не было, монах был занят едой, а Твёрдышев думал о чём-то своём, ведомом только ему. Когда Савва, сыто рыгнув, отвалился от стола, Степан Ерофеевич сказал:
– Меня дела ждут на пристани. Пойдём, покажу твою комнату для занятий и отдыха.
Помещение, где Твёрдышев хранил книги, было небольшим, но в нём имелось всё, потребное для неприхотливого труженика-грамотея. Вплотную к стене стоял стол, рядом с ним короткая скамья, вдоль другой стены находилась лавка, покрытая овечьей шкурой, на стене висели две полки с книгами, на железном сундуке, закрытом на круглый замок, была большая стопа писчей бумаги. В первую очередь Савва отправился к ней. Взял лист, ощупал и стал довольным.
– Настоящая аглицкая бумага, и по виду, и по хрусту.
Затем обратился к книгам, просмотрел кое-какие и вздохнул.
– Прежние переписчики, пожалуй, лучше работали.
– Это ж почему? – спросил Степан Ерофеевич.
– Раньше каждую буквицу выписывали, не торопились, а сейчас скорописью всё делают. Про печатные книги и сказать нечего доброго. А тебе, Степан Ерофеевич, что нужно переписать?
Твёрдышев думал недолго.
– Сделай для меня «Казанскую историю». Государь Иван Васильевич для Руси Волгу открыл до Каспия. Долго Казань поперёк стояла, да рухнула с Божьей помощью. Она ведь, татары бают, древней Москвы?
– Враки, что древней, – Савва достал из своей сумы книгу. – Вот здесь написано, что Казань основал булгарский царь Саин в 6680 году от сотворения мира, или в 1172 году от Рождества Христова. А что до татар, то они горазды на выдумки, как малые дети. И среди них есть такие, что врут вполне по-русски.
– Занятно, – задумчиво промолвил Твёрдышев. – В таком разе делай эту книгу непременно, а то в Нижнем на ярмарке казанские торговые люди нет-нет да и спор затеют, что-де Казань выше Москвы.
Степан Ерофеевич ушёл, а Савва сел на скамейку, снял сапоги, отодрал прикипевшие к ступням портянки и почуял, как вокруг него резко завоняло псиной. Резко зазудилась спина, он, привалившись к краю стола, почесал её и услышал за дверью шаги. Савва схватил сапог и стал толкать в него босую ногу.
В комнату вошла Потаповна, нюхнув потного духа, поморщилась и положила на лавку исподнее бельё.
– Ступай в мыльню, ты ведь поди завшивел, как бродяга, – строго сказала она. – Нынче очередь казаков мыться, смотри, чтоб они тебя там не замяли.
Савва покраснел от смущения, пролепетал слова благодарности и уставился взглядом в пол.
Свияга – река тихая, покорная, однажды пошумит в половодье, унося на себе грязно-серые льдины, разольётся по низким травяным берегам, но скоро утишится, войдёт в коренное русло и задремлет, всем своим видом навевая на человека тихую, посасывающую душу печаль и неясные, словно отражения облаков на воде, раздумья.
– Дядька Севастьян, – сказал Ермолай старому мукосею, – вот тебе парень, определи его на место.
– Ты на мельнице бывал? – спросил Севастьян, нисколько не удивившись появлению незнакомца.
– Не приходилось. А вот кузнечное дело понимаю.
– Тогда тебе, парень, есть дело по твоему умению. Ступай за мной.
Максим оглянулся, молодого Андреева уже рядом не было, и он пошёл за Севастьяном, который подвёл его к амбару и указал на каменный круг.
– Видишь, как насечка сделана на жернове.
Максим присмотрелся, дело вроде нехитрое, ближе к осевому отверстию насечка была грубее, по краю мельче.
– Надо зубило и молоток, – сказал Максим. – Сделаю.
Севастьян потрепал его по плечу:
– Не горячись, парень! Насекать жернова тоже уметь надо. Вот возьми половинку от лопнувшего жернова и поработай. Поглядим, что получится.
Почти до темноты Максим возился с камнем, пока его не позвали к столу. Кроме Севастьяна к ужину пришёл ещё один парень, подручный мукосея. Они торопились на рыбалку, скоро поели жидкой толоконницы и ушли. Максим остался один. Мельница не работала, внизу под настилом чмокала о своем вода, из открытой двери был хорошо виден мельничный плёс, окрашенный в розовое и золотое лучами заходящего солнца. Над ним, визгливо вскрикивая, низко небольшими стаями чертили воздух стрижи, а на краю неба, соседствуя с закатным заревом, быстро росло в размерах серо-синее облако.
Максим вышел из амбарушки и приблизился к плотине. Она была уже достаточно стара: выступавшие из воды дубовые сваи, вбитые другими концами в дно Свияги, от сырости зазеленели и осклизли, мшисто зелена была и деревянная труба, по которой шёл поток воды, вращавший мельничное колесо, сейчас отведённый затворами в другое место и шумно изливавшийся по деревянному жёлобу за плотиной.
Максим был молод, и вид текучей воды затронул его ещё не очерствевшую душу напоминанием о скоротечности человеческой жизни, что всё проходит и вряд ли возвратится. От этих смутных догадок ему стало одиноко и зябко. Будто сквознячком, ознобила душу мысль об утрате самого дорогого и близкого, что он недавно имел, – Любаши. В его сиротской доле она появилась радостным лучиком надежды, что счастье станет доступным и ему, но, просияв, он погас по прихоти дикого барина Шлыкова, которого Максим яростно жаждал встретить на каком-нибудь глухоманном перепутье и скрутить ему дряблую, петушиную шею.
«Надо идти на Тешу, – думал Максим. – Рассчитаться с барином. Затем мне останется один путь – на Дон или на Волгу. Живут ведь гулящие люди и страха не ведают. И я так буду жить. Завтра прощусь с Саввой и уйду».
Послышался скрип уключин. Максим присмотрелся: с рыбалки возвращались Севастьян и его подручный, их лодка приведением скользила по поверхности воды. Парень сидел за вёслами, старик был на корме, луна, выглянув из-за тучи, осветила его седую и насквозь пробелённую мучной пылью голову, и от этого Севастьян казался призраком, но лодка уткнулась в берег, и старик громко крикнул:
– Максимка! Ты где подевался? Встречай работничков!
– Здесь я, – нехотя отозвался Максим и пошёл к лодке.
– Мы тебе, парень, докуку привезли, потрошить рыбу. Неси из амбарушки долблёное корыто.
Когда Максим вернулся на берег, рыбаки уже ушли почивать. Рыба небольшой горкой лежала на берегу, самая разная – несколько крупных окуней, щучки, серебристые лини и всякая сорожка. Крупную рыбу Максим отложил в сторону, а мелочь покидал в воду. Достал нож и принялся за работу.
Ночь вступила в свои права, небо очистилось от туч, светила луна, было безветренно и тихо, даже трепетанья камышей не слышалось вокруг. Очистив несколько рыбин, Максим вдруг почувствовал, что рядом кто-то есть. Он огляделся, ничего не усмотрел, но неприятное ощущение не проходило. Максим чуть привстал с земли, огляделся и вздрогнул: из травы на него взирали два горящих ока. «Что за чудо-юдо!» – пронеслось в голове. Он крепче сжал в руке нож и встал в полный рост. Видение исчезло, но в траве что-то зашуршало. Максим замер в тревожном ожидании и, охнув, присел на корточки, не в силах сдержать нервный смешок. Из травы к ногам парня вышел, держа трубой хвост, чёрный кот, единственный мельничный обитель, к которому никогда не приставала мучная пыль, он, даже упав в ларь, выбирался оттуда в своём первозданно угольном цвете.
Кот, выйдя из травы, не торопясь, подошёл к рыбе, схватил зубами крупного линя и поволок в сторону. Скоро оттуда раздалось хриплое урчание, затем послышался треск рыбьих костей.
Вычищенную рыбу Максим переложил крапивой и сверху накрыл лопухами. В амбарушке раздавались храп подручного и посапывание старого Севастьяна. Максим взял рогожный куль, бросил его на пол и разлёгся на нём, подложив под голову шапку. Комары накинулись на новосела, но он был к ним привычен и скоро уснул здоровым молодым сном.
Севастьян встал вместе с солнышком, сварил уху и растолкал парней.
– Вставайте, ребята, на молитву!
Максим разом поднялся, свершил несколько крестных поклонов в сторону засиженного мухами образа и побежал на берег. Холодная вода остудила опухшее от комариных укусов лицо. Он расчесал мокрыми пальцами всклоченные волосы, стряхнул с одежды соломенный сор и невольно засмотрелся на плёс. Над водой, подгоняемые ветерком, плыли клочья белого тумана, возле берега, куда он кинул вчера рыбную мелочь, опустилась чайка и стала жадно хватать рыбу широко раскрытым клювом. За первой чайкой невесть откуда появились другие, и начался визгливый ор и махание крыльями прямо перед лицом у Максима. Максим кинул в них палкой, но они не испугались, а раскричались ещё громче и визгливей.
После еды Севастьян посмотрел каменотёсную работу Максима и указал на целый каменный круг.
– Трудись, парень! А я скажу Ивану Ермолаичу, что на мельничную работу ты гож. Хозяин наш не скуп и добрых трудников не обносит своей милостью.
– Спасибо на добром слове, дядька Севастьян, – поблагодарил Максим старика. – Однако долго близ тебя я не задержусь.
– Что так? – удивился Севастьян. – Мельница тебя всю жизнь кормить будет, и жену, и детей. Нашей работой не бросаются, её у Бога просят.
– Я жду слова от Твёрдышева, – объяснил Максим.
– Вот как! – удивился Севастьян. – Да ты не так прост, раз с Твёрдышевым знаешься.
До обеда Максим трудился над жерновом, затем лёг под деревом и задремал. Разбудил его громкий крик.
– Максим! Где ты спрятался? – шумел Ермолай.
– Тут я. Что надо?
– Поспешай! Тебя Степан Ерофеич кличет!
Твёрдышев с Андреевым стояли возле двора мельника. Рядом с ними переминались с ноги на ногу двое парней, а к коновязи были привязаны несколько коней, среди них и Соловой.
– Беда, Степан Ерофеич, что у меня все люди в разгоне! – сказал Андреев. – Вот только этих двое да мой Ермолайка и пришлый Максим.
– Управлюсь и этими, – промолвил Твёрдышев. – На струге есть люди. Им только лодка нужна.
Степан Ерофеевич был встревожен. Только что прибежал его человек, отправленный им ранней весной в Астрахань, и поведал, что струг с рыбой и другими товарами в десяти верстах от Синбирска посажен на мель и бурлацкая ватага не в силах его стронуть с места.
Завидев Ермолая, за которым, уцепившись рукой за седло, бежал Максим, мельник крикнул своим парням, чтоб те садились на коней, и отвязал от коновязи Солового.
– Поспешай за Степаном Ерофеичем, – сказал он Максиму. – Делай всё, что он велит.
Твёрдышев с парнями скоро домчались до пристани, где их поджидал Савва возле большой, на четыре весла лодки.
– Ты, Савва, зачем здесь? – недовольно сказал Степан Ерофеевич. – Я тебя не гребцом взял, а переписчиком.
– Потаповна сюда прогнала. Говорит, у хозяина беда, а ты в стороне.
– Беда мне с ней, – сказал Твёрдышев. – Так и норовит всем распоряжаться. Ты, Савва, возьми коней и отведи их на гору.
Монах с опаской посмотрел на лошадей, управляться с ними он не умел.
– Как же я их поведу? Их вон сколько!
– Тогда жди нас на пристани, – решил Степан Ерофеевич. – И гляди, чтобы у тебя их не увели.
Его люди были уже в лодке. Твёрдышев сел на корму, Ермолай веслом оттолкнулся от пристани, и весла в руках дюжих парней запенили воду. Люди, бывшие на пристани, глядели вслед лодке и гадали, куда это именитый купец Степан Ерофеевич отправился по Волге в большой спешке и сильной тревоге.
Поначалу Максим никак не мог совладать с веслом, грёб не в лад, захватывал воду то глубоко, то мелко, и получил от парней, что сидели за ним, несколько крепких тумаков по спине. Это помогло, и скоро он стал наравне с другими махать-помахивать весельцем и поглядывать по сторонам. А смотреть было на что, когда лодка вышла в коренное русло и над ней захлопал дерюжный парус и можно было бросить весло, перед ним распростёрлась такая ширь, что от неё затрепетала душа, будто почувствовала, что именно здесь, между волжских берегов, на островах, заводях, плёсах и находится её прародина, которую она наконец-то узрела и ощутила.
Но, кажется, сопопутчики Максима не испытывали подобного ликования, Андреевские работники о чём-то перешептывались и похохатывали, Ермолай смотрел за парусом, а Степан Ерофеевич был мрачен, могла сорваться его торговая затея – опередить соперников и первым явить на нижегородском торге низовые товары: рыбу свежего посола и икру, камку, бархат, сафьян и другие персианские товары, на что он рассчитывал, посылая струг на Низ прошлой осенью перед ледоставом. По всему выходило, что эта торговая путина будет неудачной, как началась, так и кончится. Сегодня струг зарылся днищем в песок, а впереди целое лето, и что оно принесёт, никто не ведает.
«Посмотреть – широка Волга, но воды в ней нет, – размышлял Степан Ерофеевич. – Снегу зимой почти не видели, мужики без саней обошлись. Весной солнышко враз выпило всю воду, какая была. Вот и осела Волга…»
Усугубил беду ещё и струговой приказчик, который, посадив струг на мель, решил не извещать хозяина, хотя до Синбирска было рукой подать, а понадеялся сдвинуть судно своими силами, чего сделать было невозможно без разгрузки части товаров, потому струг слишком долго был на виду и мог привлечь к себе взоры лихих людей, которых в этих краях было великое множество. Степан Ерофеевич вдруг вспомнил об этом и понял, что в спешке допустил оплошку, не взял оружие сам и не вооружил парней, второпях как-то из памяти вышибло, что в последний год, с появлением Стеньки Разина, все воры на Волге стали невиданно дерзки и не боялись заниматься разбоями почти на виду у воевод, не ставя ни в грош их воинскую силу. Пока близ Синбирска воры были тихи и предпочитали уходить к Жигулям, и Твёрдышев надеялся, что беды не будет, но тревожился, вглядываясь в даль волжского простора.
Волга была пуста, в начале мая все струги ушли на Низ, и лишь твёрдышевский возвращался одним из первых. Позднее Степан Ерофеевич понял, как ему повезло: его струг прошёл мимо Царицына до появления на Волге казаков Разина, прибывших в большом числе с Дона и перекрывших путь на Астрахань государевым и торговым людям.
– Как же вас угораздило застрять посреди Волги? – спрашивал Степан Ерофеевич мужика, который известил его о беде. Тот поднял голову и повторил скороговоркой то, что Твёрдышев уже слышал. Приказчик, чтобы не обходить громадный плёс, приказал поставить парус и пересечь его напрямик и тем выгадать время. Но получилось другое, на пути оказался донный нанос песка, и струг в нём безнадёжно увяз.
– Скоро прибежим, – сказал мужик и полез к носу лодки. – Будь в надёже, Степан Ерофеевич, твой струг цел, и бурлаки на месте, за путину им ешё не плачено. Вот за тем поворотом и будет то место…
И, действительно, река сделала изгиб, и лодка вышла на обширный плёс, где саженях в двухстах от берега стоял струг. Людей на нём не было видно, но вскоре появился человек с пищалью в руке, в котором Степан Ерофеевич сразу признал приказчика Гонохова. Бурлаки были на берегу, возле затухающего кострища, дымок от которого был явственно виден.
– С прибытием, приказчик, – сдерживая злость, произнёс Степан Ерофеевич, ступив на палубу струга и хозяйским взором окидывая всё вокруг.
Сняв шапку, Гонохов застыл в земном поклоне, показывая, что он готов безропотно принять от хозяина любую кару.
– Подымись, Фома, – произнес Твёрдышев. – Дай глянуть на твою рожу.
Приказчик встал и опасливо посмотрел на хозяина. Твёрдышев поднес кулак к его облупленному багровому носу.
– Винище лопал?
– Ни в жизнь, господине! – затряс кудлатой головой Гонохов. – Ты ведаешь, что я на воде хмельного не пью. Промашка вышла, хотел скорее дойти, не угадал.
– Сколько на струге людей?
– Я да мой парень, Сергунька.
– Облегчить надо струг, – сказал, успокаиваясь, Твёрдышев. – Грузи на лодку всё, что в надежных укладках, бочках, кулях, и вези на берег.
Гонохов немедля стал распоряжаться. Прибывшие с Твёрдышевым люди прочно привязали лодку к стругу и стали грузить в неё товары, наложили так, что лодка низко осела и в неё едва смогли поместиться приказчик и гребцы, которые осторожно повели её к берегу, стараясь не зачерпнуть воду бортами. На струге остались Твёрдышев, Максим и приказчиков сын, молодой парень Сергунька.
– Скинь с себя порты и рубаху да полезай в воду, – велел ему Степан Ерофеевич. – Глянь, как сидит струг.
Сергунька скоро разделся и нагишом прыгнул за борт.
– Где дно? – спросил Степан Ерофеевич.
– Ногами хватаю, а встать не могу, – ответил парень.
– Нырни и погляди, как сидит струг, – сказал Твёрдышев.
Сергунька бултыхнулся и, мелькнув белыми ягодицами, ушёл под воду. Через некоторое время он вынырнул с другой стороны струга.
– Помоги ему подняться, – велел Степан Ерофеевич Максиму.
Тот схватил Сергуньку за руку и одним рывком вознёс парня в струг.
– Ну что? – спросил Твёрдышев.
– Нос увяз, – сказал Сергунька. – А корма свободная, я под ней пролез.
– Давайте, ребята, таскать кули с носа на корму, – сказал Степан Ерофеевич. – Лодка уже на берегу, скоро вернётся.
Но работать им не пришлось, на берегу люди враз загалдели и стали размахивать руками. Некоторые из них стали забегать в воду что-то кричали, но слова до струга доходили плохо, и понять, почему люди забеспокоились, было невозможно.
– Что они там заволновались? – сказал Степан Ерофеевич, и тут Сергунька схватил его за рукав.
– Гляди, хозяин! – вскричал он и указал на плёс. – Чья-то лодка к нам идёт, и шибко!
Твёрдышев обернулся и мигом понял, что попал в большую беду. К стругу стремительно приближалась большая лодка, полная воровских людей, некоторые из них, что были впереди, держали пищали и явно готовились стрелять, другие гребли из всех сил, вёсла, как крылья, мелькали в их могучих руках, и со струга воровская лодка казалась хищной птицей, падавшей на застигнутую врасплох добычу. Кормщик покачивался соразмерно с движениями вёсел и каждый раз вскрикивал:
– Навались, ребята! Навались!
Появление воров не показалось Максиму опасным, поначалу их приступ показался ему какой-то забавой, но Твёрдышев вдруг страшно закричал на Сергуньку:
– Неси оружие и припасы!
Сергунька метнулся под дощатый навес на корме и принёс отцовскую пищаль, суму с пулями и пороховницу.
Твёрдышев схватил пищаль, подержал и бросил на палубу.
– Где гранаты?
– Там же, – ответил Сергунька, но не двинулся с места.
Твёрдышев оттолкнул его в сторону, в несколько прыжков достиг кормы, расшвырял кули, достал деревянный ящик, но тот был закрыт на замок.
– Дай топор! – крикнул Твёрдышев, пытаясь руками открыть замок.
Максим подхватил валявшийся на палубе топор, подбежал к ящику и взломал запор. Твёрдышев в это время уже раздувал подожжённую искрами из пищального кресала обсыпанную порохом паклю.
Гранаты на струге были трехфунтовые, чугунные шары, начинённые порохом, с запальными трубками.
Воровская лодка была уже в пятнадцати саженях от струга. Из неё раздался недружный залп. Сергунька вскрикнул и упал на палубу.
– Поджигай! – велел Твёрдышев и подставил под огонь запальную трубку, которая тотчас зашипела и забрызгала искрами.
– Мечи, Максим! – сказал он, протянул парню гранату, взял другую и начал её поджигать.
Максим с гранатой, пригибаясь, побежал к другому борту струга. В это время из лодки опять грянул пищальный залп. Воры стали готовиться к приступу, часть из них гребли, что было сил, остальные вынимали сабли и кистени, и яростно ими размахивали с самыми ужасными воплями. Максим понял, что больше из пищалей стрелять не станут, поэтому встал во весь рост, понянчил на ладони гранату, примерился и метнул её в лодку, сопровождая полёт взглядом. Увидев, что в них летит какой-то чёрный шар, воры поняли, что им грозит, и заорали ещё пуще. Граната взорвалась, размётывая чугунные осколки прямо над головами воров. Взметнулся чёрный клуб дыма, часть нападавших была сразу убита, другие остались живы, но ненадолго: граната, брошенная рукой Твёрдышева, разорвалась прямо в лодке, её осколки убили остальных воров и сделали в бортах и днище большие пробоины, в которые тотчас кинулась вода.
– Глянь, как Сергунька! – крикнул Степан Ерофеевич, затоптывая сапогами огонь на палубе.
Этот возглас вывел Максима из оцепенения, в которое тот впал после того, как увидел, что сталось с людьми в лодке. Он поспешил к парню, перевернул его на спину и оледенел от ужаса: пуля попала Сергуньке в переносицу, оба глаза были выплеснуты из глазниц и висели на окровавленных нитях. Подошёл Степан Ерофеевич, скривился, посмотрев на убитого, и накрыл его пустым рогожным кулём.
Лодка злодеев почти целиком погрузилась в воду, вокруг неё покачивались трупы, несколько уцелевших воров плыли, взмахивая руками, к дальнему берегу, а Твёрдышев стал громкими криками призывать своих людей на струг. Пустой берег ожил, попрятавшиеся бурлаки и работники стали вылазить из кустов. Приказчик Гонохов сталкивал лодку в воду, чтобы скорее плыть к хозяину, он ещё не ведал, что ждёт его на струге.
– Я тобой премного доволен, – сказал Степан Ерофеевич. – Будь сегодня подле меня. Думаю поручить тебе важное дело, Максимка.
Лодка уже подошла к стругу. Приказчик Гонохов первым взошёл на его борт и сразу понял, что случилась беда. Побледнев, он опустился на колени, снял с убитого рогожный куль и забился в беззвучных рыданиях. Степан Ерофеевич подошёл к нему, обнял за плечи и поднял.
– Крепись, Фома!
– Ему же всего пятнадцать лет минуло на Благовещенье! – обливаясь слезами, всхлипнул Гонохов. – Первый раз взял с собой в Астрахань.
– Ермолайка! Максим! Унесите тело на корму! – велел Твёрдышев. – И ты с ними, Фома, ступай! До темна струг надо вызволить.
Лодку нагрузили товарами, и едва она отчалила от струга, как он заколебался и снялся с песчаной мели. Люди заметно повеселели и стали работать слаженнее и скорее. Твёрдышев и Максим взялись за большие вёсла и, работая ими, отвели струг на глубину. Затем разгрузили лодку и привезли с берега отправленные туда ранее товары. Бурлаки были на месте и, пройдя на вёслах плёс, струг взяли на бечеву и потащили к Синбирску.
В протоку, отделявшую остров Чувич от синбирского берега, струг вошёл уже в сумерках. Твёрдышев смотрел на пристань и дивился: она была плотно заставлена стругами, а на берегу пылали костры, вокруг которых находилось множество ратных людей. «Видно, что-то случилось, – подумал Степан Ерофеевич. – Стрельцы пришли в Синбирск недаром, они пойдут далее, на Стеньку».
Твёрдышев разглядывал берег, примериваясь, где бы ему ловчее пристать, как услышал, что его кличут. Кричал приказчик кабака, который был у Степана Ерофеевича в откупе. Приказчику вторил заливистый тенорок Саввы.
– Ступай сюда, Степан Ерофеевич! – кричал приказчик. – Тут глубоко и помост для схода есть!
– Со счастливым прибытием! – поклонился своему хозяину Савва.
– Кони целы? – спросил Твёрдышев.
– Слава богу, целы. А то как явились стрельцы, я страху за них натерпелся, всё, думаю, уведут, а мне за них ответ держать.
– Что за стрельцы? – спросил Степан Ерофеевич.
– Из Москвы, – ответил кабацкий приказчик. – Слышно, на Низ идут, на Стеньку Разина.
Разгружать струг было уже поздно, и Твёрдышев позаботился о его охране, оставил сторожами Максима, Ермолайку и двух Андреевских парней.
– Зрите в оба, ребята! Стрельцы хоть и государевы люди, но лиха от них можно в любой час ждать. Если полезут, стреляйте поверх голов и шумите шибче, чтобы их начальникам невмоготу было молчать и прятаться от баловства своих подначальных людей.
Взяв своего коня, Степан Ерофеевич пошёл на свет большого костра. За ним следом поплелся и Савва.
Твёрдышев не ошибся, возле костра он нашёл начальных людей прибывших стрельцов из Синбирска, князя Дашкова и стрелецкого полковника Лопатина.
– Где ты запропал, Степан Ерофеевич? – сказал воевода. – Вот, полковник, это и есть гость Твёрдышев.
Лопатин сдержанно поклонился. Это был статный светлобородый красавец богатырского сложения. Твёрдышеву всегда были по нраву люди породистого склада, и этим полковник пришёлся сразу ему по душе.
– А я, Иван Иванович, чуть не сгинул!
– Что так? – поднял брови князь.
– Пошёл струг с мели снимать, а тут воры и набежали. Если б не гранаты, то не стоял бы сейчас перед тобой.
Степан Ерофеевич благоразумно умолчал, откуда у него оказались гранаты. Воинские припасы было запрещено иметь неслужилым людям. Гранатный приказ отпускал их только в солдатские полки и пограничные крепости. Твёрдышев выпросил у Дашкова несколько гранат для обороны своего струга от воров и сейчас чуть об этом не проговорился, и Дашков стал этим недоволен.
– Присмотри, Степан Ерофеевич, чтобы вино из кабака стрельцам не давали. Им завтра дале идти!
– Полковнику сподручней это сделать, – сказал Твёрдышев. – Пусть поставит вокруг кабака караул.
– Тогда прошу отведать хлеба-соли, – любезно произнес князь Дашков и махнул рукой денщику, чтобы тот подвёл ему коня. – Правда, Синбирская горка крута, но осилим.
В воеводской избе к пированию всё было готово. На столе стояло и рыбное, и мясное, и сладкое, и кислое. Начали, по обычаю, с хмельного. Князь поднял чару с вином и, стоя, возгласил тост за здравие великого государя Алексея Михайловича, с полным царским титулом, Лопатин и Твёрдышев, тоже стоя, с благоговением выслушали его, и все приветственно сдвинули чары. Полковник явил себя завидным едоком, не отставал от него и проголодавшийся Твёрдышев. Дашков мигнул ключнику, и перед гостями после ухи мигом появилась стерлядь, пироги всяких видов, не пустовали и чары с хмельным.
Хозяин ждал, что гость, захмелев, поведает о московских делах, но Лопатин оказался на редкость молчалив и, опустошая чару за чарой, только покрякивал, краснел и, наконец, вымолвил:
– Добрый у тебя повар, воевода, давно я так вкусно и сытно не едал. Благодарствую за угощение, однако мне пора к своим людям.
– А поговорить? – удивился воевода. – Мы здесь, в Синбирске сидючи, дел московских не ведаем. Ты уж просвети нас, батюшка, как дела на Москве, что о воре Стеньке Разине слышно, не его ли ты направился воевать?
– Не мне, сироте, ведать о больших московских делах, – взвешивая каждое слово, осторожно сказал Лопатин. – Но все лучшие люди в большом смущении: на Дону великая замятня началась. Великий государь послал туда своего жильца Герасима Евдокимова с милостивым словом, так его Стенька кинул в Дон и со своими голутвенными казаками идёт к Царицыну.
– Вот и добаловались с этим Стенькой! – ударив ладонью по столу, воскликнул князь Дашков. – Вор уже второй год терзает волжский Низ, перекрыл дорогу персианским купцам и нашим торговым людям, а на Москве будто о сём не ведают. Посылают душегубу милостивые грамоты, зовут к покаянию…
– Великий государь боголюбив и великодушен, – сказал Лопатин. – Его смущает пролитие христианской крови.
– А сам Стенька сколько православных зарезал и утопил? – вопросил воевода. – Недавно был у меня гость Гурьев. Ему Стенькины кровавые потехи известны не понаслышке. В его Яицком городке воры устроили резню, зимовали там, всё лето и осень занимались грабежами и убийством на Каспии, а воевода Прозоровский, имея шесть тысяч стрельцов, пропустил его на Дон без единого выстрела, хотя войска у Стеньки едва ли с две тысячи было. Тут бы его и схватить, так нет, князь Львов с ним в догонялки вздумал играть. А нынче возьми-ка Стеньку, когда он зализал раны, оголодал и олютел, и теперь с казачьей голытьбой обрушится на Волгу. Совладать ли тебе, с твоей тысячью стрельцов, полковник, с этой силой?
Слова Дашкова заметно смутили Лопатина. Ему навязали вести стрельцов против бунтовщиков недоброжелатели и завистники, не простившие полковнику его быстрого возвышения из сотников в стрелецкие головы. Умный командир и отчаянный рубака, получивший за польскую войну из рук великого государя трехрублевый золотой для ношения на шапке, Лопатин с трудом представлял себе, как он будет воевать против православных людей. Его весьма тяготило и тревожило то, что московские стрельцы шли в Астрахань с большой неохотой; и как они поведут себя при стычке с воровскими казаками, угадать было нельзя, хотя прямой измены быть не должно: донские издавна враждовали с московскими.
– Под моим началом два приказа, – осторожно произнес Лопатин. – Велено их отвести в Астрахань, о другом мне не ведомо.
– Нелегкую на тебя взвалили ношу, – сказал Дашков. – Гляжу я на наше безурядье и вижу, что долго конца ему не будет. Я так мыслю, что Разин в скором времени опрокинется на верховые города – Саратов, Самару, Синбирск, Нижний, а от них и до самой Москвы недалеко.
Твёрдышев не вмешивался в разговор начальных людей, но мимо ушей не пропустил ни слова. У него был особый интерес знать всё о смуте, которую заварил Стенька Разин. И когда Лопатин начал прощаться с хозяином, он тоже встал из-за стола, вышел вслед за стрелецким полковником и проводил его до крепостных ворот.
– У меня к тебе просьбишка, Иван Васильевич, – сказал Твёрдышев. – Воевода прав, Разин вот-вот запрёт Волгу, а у меня безотлагательное дело в Астрахани. Возьми моего человека с собой. Расходы я готов оплатить хоть сейчас.
– Что за человек, ты за него ручаешься?
– Смирный парень, дурных мыслей у него нет.
– На рассвете приведи его на мой струг, – решил Лопатин. – Гляну на него сам.
Едва только заголосили первые петухи, которые обретались возле поварен, дожидаясь своего часа попасть в воеводские щи, как Степан Ерофеевич встал с лавки, совершил утреннюю молитву и спустился в подвал, где у него хранилась казна и самые важные бумаги. Нащупав ногами каменный пол, Твёрдышев высек огонь, зажёг свечку и достал из прочного дубового сундука кожаный чехольчик, откуда вынул грамоту. Стряхнув с неё упавшего с потолка долгоногого паука, Твёрдышев развернул грамотку и поднёс к свету. Прочитал, затем вздохнул и покачал головой, засунул её обратно в чехольчик и поднялся в горницу.
– Экий ты непоседа, Степан Ерофеевич! – встретила его ворчанием Потаповна. – Сумерки на дворе, а ты уже на ногах. И гостенёк твой ночь просидел со светом, жёг свечи почём зря, это ж какой разор от такого постояльца!
– Не жужжи, старая, – улыбнулся Твёрдышев. – Савва делом занят.
– У всех дела, только я без дела маюсь, – продолжала ворчать ключница. – А ты куда ни свет ни заря наладился?
– Коли кто искать будет, скажи, что я в подгорье, на пристани, – ответил Степан Ерофеевич и вышел на крыльцо.
Вокруг было сумеречно и туманно, с шатрового навеса на лицо Твёрдышева упали несколько холодных капель росы. От поварен тянуло горьким смрадом, повара затопили печи, и дым от них, перемешиваясь с сырым от росы воздухом, заволок всю крепость. Мимо крыльца, покашливая, прошёл соборный протопоп, за ним семенил звонарь, ему нужно было звонить к утрене, с которой по всей православной Руси начинался всякий день.
Степан Ерофеевич миновал крепостные ворота и почувствовал, как с Волги потянуло ветерком. За рекой зардела полоса восхода, на посаде было заметно шевеление, обыватели выгоняли со своих подворий скотину для пастьбы, были слышны мычание коров, блеянье овец и пощелкивание пастушьего бича.
Оставив в стороне острог, Твёрдышев, быстро перебирая ногами по крутой тропе, что была протоптана в стороне от дороги, сбежал до половины горы и здесь остановился, глядя на пристань. Рядом с ней пылали не менее двух десятков костров, на которых артельные кашевары готовили для стрельцов пищу, а сами ратные люди с обнаженными головами стояли на утренней молитве, оборотясь лицами к Заволжью, навстречу встающему из земли золотисто-рдяному солнцу.
Степан Ерофеевич быстро сбежал к подножию горы и, обойдя войско, подошёл к кабаку. Он был цел, около него стояли несколько стрельцов, со струга увидели хозяина, и Максим поспешил ему навстречу.
– Хочешь мне услужить? – спросил Степан Ерофеевич, уведя парня подале от чужих ушей.
– Всегда рад, господине, – прямо глядя в глаза хозяина, ответил Максим. – Мне, сироте хилому, окромя тебя и податься некуда.
– Добро, – сказал Твёрдышев. – Раз так, есть для тебя у меня одно дело. Не утаю, опасное, но ты вечор показал, что духом твёрд.
– Что за дело?
– Нужно отвезти на Низ и передать одному сильному человеку грамоту, но так, чтобы об этом никто не ведал.
– Что за человек?
– Степан Тимофеевич Разин, – наклоняясь к уху парня, тихо произнес Твёрдышев.
Услышав имя грозного атамана, Максим нахмурился. Идти в гости к вору, о котором разносились такие страшные известия, было так же опасно, как с голыми руками на медведя.
– Дойду ли я до него? Дело тайное, первому встречному о нём не скажешь, а к Разину меня не допустят его есаулы.
Степан Ерофеевич полез за пазуху и достал две пуговицы, синюю и красную, связанные зелёной ниткой.
– Это Стенькин знак. Покажешь его первому встречному есаулу, и он доставит тебя к атаману. Смотри, не потеряй его, а то головы лишиться можешь. Три года назад я помог Разину добраться на своем струге от Рыбной Слободы до Царицына, вот он и отдарил меня этим знаком. Ты грамоту знаешь?
– Нет, – ответил Максим.
– Тогда слушай и запоминай. Грамотку не тревожь, может на ней тайный знак имеется. Если Разин поймёт, что её читали, то тебе смерть. Буде опасность, что её у тебя отберут, изловчись и брось в воду, она с грузилом и сразу пойдёт на дно.
– Ладно, отдам грамоту Разину, а что дальше?
– Иди обратно в Синбирск. Сделаешь дело, получишь награду. Что хмуришься, или что не так?
– Не один я с Теши убегал, а с невестой, – тихо молвил Максим. – Не знаю, что с ней, мужики, что за мной гнались, промеж собой говорили, что она в воду кинулась. Но сердцем чую, что жива.
– Вон что, – покачал головой Твёрдышев. – Добро, помогу твоему горю. Пока ты будешь в отлучке, постараюсь всё о ней проведать. Автоном Евсеев про твою невесту знает?
Максим кивнул, он уже жалел, что согласился идти к Разину, собирался на Тешу, а придется уходить совсем в другую сторону.
– Не тужи, – сказал Степан Ерофеевич, доставая из кармана небольшой кошель. – Вот тебе два рубля полушками. Сейчас лучше о себе думай, чтобы целым вернуться. А про твою невесту я проведаю. Даст Бог, и на твоей свадьбе спляшу!
Твёрдышев осмотрел парня и остался доволен.
– Одежонка на тебе ещё крепкая, как раз по тебе. Перед воровскими людьми выделяться негоже, сразу обдерут, как липку, им это просто. Вот, держи грамотку.
Максим взял её и, не разглядывая, сунул за голенище сапога.
– Ступай за мной, – сказал Степан Ерофеевич. – Я тебя стрелецкому полковнику покажу.
Ратные люди начали заходить на струги. Чуть в стороне от них стоял Лопатин в окружении стрелецких полуголов и сотников. Он отдавал последние распоряжения людям, начальствующим над стругами, в каком порядке двигаться, указывал строго смотреть за стрельцами и пресекать всякое баловство. Полковник, увидев Твёрдышева, движением руки разрешил ему приблизиться.
– Ступайте по своим местам, – сказал он своим людям. – И, не торопясь, выходите на коренную Волгу.
– Это и есть твой гонец, Степан Ерофеевич? – сказал Лопатин, пристально оглядывая Максима. – На купеческого приказчика не похож. Так кто он?
– Твоя правда, Иван Васильевич, – улыбнулся Твёрдышев. – Он не приказчик, но им будет. Парень духом тверд, вчера себя показал против воровского набега. А кто он, так про то в сей грамотке прописано.
Степан Ерофеевич протянул полковнику кошелёк, в котором что-то побрякивало и позвенькивало.
– Слышу доброе мнение о твоем парне, – произнес Лопатин, забирая купеческий посул. – Пусть заходит на крайний струг, со мной пойдёт, под моим доглядом.
– Челом тебе, Иван Васильевич, уважил! – с чувством произнёс Твёрдышев. – Поспешай, Максим, хватай свою суму и беги на струг. Помни, что я тебе наказывал!
Провожать стрелецкое войско прибыл и воевода Дашков. Он был в некоторой обиде на Лопатина за его сдержанность на вчерашнем пированье, потому с коня не сошёл и придирчиво оглядывал всё вокруг.
– Ничем не обидели тебя стрельцы? – обратился он к Твёрдышеву. – Всё ли цело, не растащено, не поломано?
– Всё в сохранности, – ответил Твёрдышев. – Кабак стрельцы сами сторожили, товары на струге целы.
– И то добро, что целы, – язвительно произнёс Дашков. – Иной раз свои ратные люди погостят, а урону от них больше, чем от ногайского набега.
– Мои люди выучены блюсти порядок, – сказал Лопатин. – Вот погоди, придёт в Синбирск солдатский полк, тогда и помянешь мои слова.
– Мне о сем не ведомо, – произнес, удивленно воззрившись на полковника воевода. – А что, он далее на Стеньку не пойдёт? Ужели здесь вора ждать будет? А как же Самара, Саратов? Их что, Стеньке пожалуют на питье да кормление? Мало ему того, что под ним весь волжский Низ?
– Ближайшие государю люди на сей счет розмыслы учиняют, мне ли о том ведать? – ответил Лопатин. – Что до солдатского полка, так он скоро будет здесь. Я обошёл его в Казани.
– Может, ты и князя Ивана Милославского на пути встречал? – спросил Дашков. – Я, признаться, его жду на своё место. Пусть бы приезжал, пока солдаты во хмелю не раскатали Синбирск по бревнышкам. Пусть уж новый воевода с ними справляется.
– Князя Милославского не видел, – ответил полковник. – Прощай, воевода! Меня на струге ждут. Благодарствую за хлеб-соль. До встречи, Степан Ерофеевич! Даст Бог, свидимся.
Полковник, приложив ладонь к груди, поклонился и поспешил к своим людям. Едва он ступил на струг, как тот отошёл от пристани. Стрельцы сильными гребками вёсел вывели струг на середину протоки, и он неспешно пошёл за другими судами в коренную Волгу.
Степан Ерофеевич имел счастливую способность скоро переходить от одного дела к другому, и, махнув рукой выглядывавшему его Максиму, он поспешил к своему стругу. Кабацкий приказчик ждал его с людьми, которых подрядил на работу, найдя их тут же у кабака среди гуляк, которые ждали открытия кружала после ухода стрельцов и были готовы за чарку вина исполнить всякое дело. Твёрдышев пригляделся к гулящим людишкам, взял из них дюжину потрезвее и направил на струг, где они под присмотром нового приказчика, поскольку Фома Гонохов был занят похоронами убитого ворами сына, стали перекладывать бочки и кули с товарами, сваленные после снятия струга с мели кое-как, в должном порядке. Дело было важным, и Степан Ерофеевич не уходил с пристани до тех пор, пока его струг не ушёл в Нижний Новгород.
Провожая своих людей, он с тревогой отметил, что Волга день ото дня становилась все пустее. С Верха в Синбирск не явилось ни одного судна, а с Низа пришла большая лодка с солью из Надеиного Усолья. И причина этому была только одна: Стенька Разин перенял Волгу у Царицына, и слух об этом уже разлетелся по всему Поволжью.
Сиротская жизнь приучила Максима к самым неожиданным поворотам судьбы, и он легко к этому относился, надеясь, что когда-нибудь и ему улыбнётся удача. Потому в своей посылке на Низ увидел случай, который поможет ему надёжно устроить свою жизнь подле такого сильного гостя, как Твёрдышев. Степан Ерофеевич мог сделать его вольным человеком, а это было самой сокровенной и жгучей мечтой беглого холопа.
По былой жизни в Туле он знал стрельцов, их повадки по отношению к людям низкого звания. Там стрельцы чувствовали себя вольно до такой степени, что находили в себе силы иногда перечить воеводе, а среди простых людей чванились и встречали в тычки всякого простолюдина, кто посмел ненароком задеть их в уличной толчее или просто не пришёлся по нраву словом или обличием. Памятуя об этом, Максим приблизился к стругу с осторожностью и спросил сотника. Тот сам услышал, что его кличут, и нехотя подошёл к борту.
– Что ищешь, парень?
– Полковник Лопатин велел дать мне место на струге, – сказал Максим, с опаской поглядывая на начальника.
– Заходи, коли так, – сказал сотник. – Корней! – крикнул он. – Возьми парня к своему котлу и место дай!
– Вели кашевару и на его долю толокно сыпать, – откликнулся десятник. – Пускай приходит, найдём, где спать.
– Ты табаком балуешь? – спросил сотник. – Гляди, если что, спиной ответишь.
– Не научен.
– Добро, – похвалил сотник. – Ступай к десятнику. Ступай! Освободи путь полковнику!
Подхватив свою суму, Максим поспешил к указанному ему месту. Тем временем полковник Лопатин прибыл на струг, стрельцы взялись за вёсла, а те, кто был свободен, стали устраиваться на своих местах: одни в приземистом дощатом строении, занимавшем почти весь струг, другие на его плоской крыше, огороженной со всех сторон невысоким забором. Всего на струге было до полутора сотен стрельцов с оружием и с десяток начальных людей во главе с Лопатиным.
Корней принял Максима равнодушно, указал ему место, где положить суму, и вернулся к прерванному его появлением делу – починке сапога, у которого от ветхости ниток развалилось голенище. Стрельцы поглядывали на парня с любопытством, дорога им наскучила, и они искали развлечения. Максим сразу понял их намерения и решил не давать им потачки, отвечать тем же, с чем к нему будут приставать. Поначалу они переглядывались, перемигивались, затем самый бойкий из стрельцов стал расспрашивать Максима, кто он, куда идёт и что ищет. Стрелец вопрошал довольно настырно и в ответ получал порой такие острые ответы, что стрельцы веселились и похохатывали, но от Максима не отставали. Вперед выступил мордатый стрелец весьма наглого вида.
– Я вижу, ты парень бойкий, – сказал он, ощупывая новичка мутным взглядом. – Давай махнемся шапками.
– Это с чего бы? – удивился Максим.
– А так, ради дружбы. У нас такой обычай. – Шапка на стрельце была рваной.
– Тебе не со мной надо меняться, а с кашеваром.
– Почему так? – недоуменно вопросил стрелец.
Вокруг все притихли, ожидая, что скажет Максим. Десятник Корней отложил сапог и тоже прислушался.
– Так на твою башку только котел и налезет!
Эти слова вызвали взрыв хохота.
Стрелец начал багроветь и приближаться к обидчику.
Максим насторожился и приготовился вскочить на ноги.
– Фролка! – крикнул десятник. – А ну отступись от парня! А ты, острослов, прикуси язык, пока стрельцы тебе дурна не сделали!
Стрельцы от Максима отстали, только Фролка продолжал бросать на него свирепые взгляды, но и то недолго. Всем надоело стоять на ногах, и каждый начал устраивать себе лежбище: когда нет службы всякий ратный человек норовит поспать, подольше и послаще. Максим тоже устроился, подложив под голову суму, на теплых досках. Стрельцы в нижнем помещении тоже спали, и оттуда через щели перекрытия сочился терпкий стрелецкий дух и слышались вздохи и храпы уснувших людей.
Скрип вёсел прекратился. Кормчий велел поставить парус, и струг, увлекаемый ветром и течением, заметно быстрее заскользил по реке. Вокруг воцарились тишина и покой, которые нарушали лишь слабое плескание воды и отдалённые крики чаек.
Корней дошил сапог, натянул его на ногу и лег недалеко от Максима.
– Эхма! – вздохнул десятник. – Думал, дослужу царю-батюшке последний год без войны. Да не пришлось, окаянный Стенька поднялся на дыбы, вот и кинули нас супротив вора, а что будет, не ведаю. А ты зачем в разбойное полымя идёшь, что там ищешь?
– Хозяин послал, – ответил Максим.
– Хозяин, – задумчиво произнёс Корней. – Жизни нет без хозяинов. Надо мной сотник – хозяин, над своими стрельцами – я хозяин. Так всё и устроено. Или не так?
– Над Разиным нет хозяина, – сказал Максим.
– Тихо, парень! – встрепенулся Корней. – За такие слова как раз на рели вздёрнут. У нас тут на струге их знаешь сколько, веревок, запасено? А я сам, когда на Яузе струг снаряжали, их заносил, на самое днище складывал.
Разина ещё и близко не было, но его мятежное имя уже витало над Волгой, настраивая думы всех людей, и начальных, и подневольных, на тревожный лад. Все ждали, что вот-вот на волжской окраине случится доселе небывалое и ужасное, что бывало во время Смуты, ведь были ещё живы люди, помнившие времена лихолетия, и память о нём жила в преданиях. Но были ещё более близкие примеры – Соляной и Медный бунты, когда народное возмущение обнажилось в кровавом неистовстве почуявшего своё право на насилие простого люда. От Стеньки Разина ждали гораздо большего, гулящие люди и инородцы Поволжья с нетерпением выглядывали, когда явится атаман, чтобы пополнить в несметном числе ряды его бунташного войска.
Знали о Стеньке Разине и стрельцы Лопатина. За одну зиму до них докатились известия о казачьем атамане, который занял Яицкий городок, затем счастливо пограбил персидское побережье Каспия, явился в Астрахань с несметной добычей, получил от царя милостивую грамоту и до весны удалился в Паншин городок на Дону. Подвиги Разина простонародьем воспринимались как деяния сказочного богатыря, превращались в былины, которыми заслушивался народ, всегда мечтавший о появлении мстителя за свои унижения и муки от сильных и богатых людей.
Над Волгой уже сияла звездами летняя ночь, но не все на струге спали. И Максим сквозь щели в досках, на которых он лежал, слышал разговоры стрельцов, что находились внизу.
– Знать, правду говорят, что атамана ни пули, ни стрелы не берут? – спросил молодой голос.
– А как они его возьмут, если у него заговор от них самим Горинычем на него наложенный, – послышалось в ответ. – Немецкий капитан в него с трех шагов из своего мушкета стрелил, пуля на Стенькиной груди только царапину оставила, как на камне, а сама – всмятку.
– Слушай, Нефёд, а кто такой Гориныч?
– Это, брат, царь водяной. У него со Стенькой договор: атамана ни пуля, ни сабля не берет, а тот ему за это подарки посылает, золото в воду сыплет, шелка да бархаты, но больше всего по нраву Горинычу, когда Стенька его человечьей кровью потчует. Часто слышно про него, что он то и дело своих супротивников в воду сажает. А Гориныч-то тем доволен и своим благоволением атамана жалует.
– Слышно, он жёнку в воду бросил, так ли это? – спросил ещё чей-то голос.
– Не жёнку, а персианскую княжну. А до того он Горинычу свою жену невенчанную подарил близ Яицкого городка. Одел её в лучшие одежды и бросил в Яик со словами: «Прими, благодетель мой Горинович, самое лучшее и дорогое, что я имею!» От этой жёнки у него сын имеется, Стенька отослал его к астраханскому митрополиту с тысячью рублей в придачу, чтобы тот его воспитал в православной вере. А персианку он уже апосля в Волгу кинул, когда из набега на Каспий возвернулся…
Рядом с Максимом смачно, с присвистом, захрапел стрелец. Максим толкнул его и снова приник к доске ухом.
– …на подходе к Астрахани встретил Разина товарищ воеводы князь Львов с милостивой царской грамотой. В крепости пальба учинилась, когда казацкие струги встали у берега, сам воевода князь Прозоровский, митрополит и лучшие люди вышли встречать Стеньку, как же, сам великий государь его милостью пожаловал. Однако воевода своровал от атамана милостивое царское слово, стал ему казацкие вины выговаривать, что-де в Яицком городке двести стрельцов жизни лишил, государевы струги топил, торговлю с персианами порушил, много чего воевода выговаривал. Поначалу Разин слушал его терпеливо, только ножкой в сафьяновом сапоге притопывал, а потом возговорил громким голосом: «Ты, князь, на воеводстве сидючи, совсем обомшел, как пенёк гнилой. Вот велю я своим побратимам сбросить тебя с раската крепостной башни, не возрадуешься!» Задрожал Прозоровский от страха, за митрополита прячется. А Разин усмехнулся и говорит: «Хоть ты, князь, государево милостивое мне слово своровал, я тебя сам пожалую частью казацкого дувана как своего есаула». И положили казаки к ногам воеводы золото, жемчуга и лалы, и платья парчовые, бархатные и камчатые. От жадности возжглись глаза у князя, он Стеньку видеть перестал и молвил: «Гуляйте, ребята, только Астрахань не сожгите…»
Последние слова привели слушавших Нефёда стрельцов в восторг, и число слушателей увеличилось, поскольку до Максима явственно донесся строгий голос: «Не сбивайтесь в кучу, а лежите по своим местам. Говори, Нефёд!»
– А как раздуванили казаки персианский дуван, то гулять начали, любо-дорого посмотреть! Расхаживают по граду Астрахани в шелковых да бархатных кафтанах, на шапках нити жемчуга, дорогие каменья. Торг открыли невиданный, отдавали шёлк нипочём, фунт за десять копеек. А уж, сколько дорогих заморских вин было повыпито, сколько пролито! Воевода глядит на казацкий разгул, злобится, да поделать ничего не может. Посадские люди и астраханские стрельцы за Стеньку горой. А Разин что ещё удумал: как-то вынесли ему кресло из дома, где он гулял, да поставили посреди улицы, а казаки на весь город загорланили: «Подходите сироты астраханские, Степан Тимофеевич всех жаловать будет!» Сел Разин в кресло, а у его ног большой кожаный куль с золотом положили, тяжёлый, четверо дюжих казаков еле донесли. Поначалу астраханские люди побаивались подступиться к грозному атаману, однако нашёлся один смельчак, подбежал и бухнулся перед Разиным на колени. «Говори твои нужды», – сказал Стенька. «Выпить хочу за твое здоровье, Степан Тимофеевич, да карманы дырявые, были две полушки, и тех нет!» Улыбнулся Разин, сунул руку в куль и достал горсть золотых: «Гуляй, детинушка, без просыху!» Тут весь народ к нему и прислонился…
Стрелец, спавший рядом с Максимом, опять захрапел с затейливым присвистом. Парень ткнул его кулаком в бок. Тот сел, повращал полоумными очами и опять упал навзничь. Максим прислушался.
– Про соловецкие дела Разина я не ведаю, – сказал Нефёд. – Кондрат там бывал, может, что и слышал.
Послышались уговоры какого-то Кондрата поведать о знаменитом атамане.
– Я могу сказать, – послышался голос. – Только вы, ребята, обещайте, что не будете меня тузить, коли слова мои вам не придутся по нраву. Ведомо вам, что соловецкие старцы не приняли никонианства и объявили великому государю войну. Царь посовестился наслать на знаменитый монастырь большую воинскую силу и поначалу отправил туда стряпчего Игнатия Волохова с сотней стрельцов с тем, чтобы привести обитель к покорности. Я шёл в той сотне десятником, что случилось, видел наяву. Старцы ворота нам не открыли, а самим не зайти: в монастыре по громадным стенам сотня пушек, монахи камни и огонь мечут. Игнатий Волохов покричал, погрозил старцам и велел нашему сотнику готовиться к уходу. Мы, знамо, возрадовались, а стряпчий в ярости готов камни грызть. И тут, ему на радость, в последнюю ночь поймали сторожевые стрельцы монаха у самых монастырских стен. Кликнул сотник меня и ещё одного десятника и велел идти к стряпчему. Пришли, а Волохов над монахом лютует, всего искровянил. Увидел нас и кричит: «Ставьте его на огонь!..»
– А дальше что? – спросил кто-то замолчавшего Кондрата.
– Долго терпел монах муку, а потом проклинать начал, страшно вспомнить, самого великого государя, патриарха Никона, ближних бояр блядиными детьми называл и вопил, что скоро явится на всех них кара, могутной вор, что спалит Москву и всех вероотступников и лучших людей будет казнить лютой смертью. Тут Волохов оттолкнул нас и сам взялся за раскаленные щипцы и начал терзать монаха, выведывая имя вора и откуда он явится. И монах всё поведал, перед тем как испустить дух.
– Стало быть, о Разине государевым людям загодя стало известно? – сказал Нефёд. – Как и то, что его направили на воровской путь соловецкие старцы?
– Вестимо, известно. Стенька явился в Соловки богомольцем и открыл на исповеди такую адскую бездну своей души, что исповедник был в ужасе. Проведав о том, начальные старцы заинтересовались Разиным, приблизили к себе, распознали в нём мстителя за поруганную никонианами христианскую веру и благословили его учинить великое возмущение простого люда против бояр, которые замыслили извести государя и насадить на русской земле окаянное латинство. Через соловецких старцев Разин получил силу отводить от себя пули и стрелы и отпущение от всех будущих грехов…
– Вон как! Значит, он не сам по себе замыслил поднять Русь против бояр, а по наущению соловецких старцев! – воскликнул шёпотом кто-то из стрельцов.
– А ну уймись! – раздался начальственный голос. – Не то те веревки, что для воров припасены, как раз вам достанутся!
Угроза была нешуточной, и внизу все замолчали. Максим поднял голову и осмотрелся. Вокруг было темно, стрельцы спали, упругий ветерок и течение несли струг бесшумно и плавно. И видя вокруг покой и безмятежность, Максиму трудно было представить, что где-то внизу на Волге, возможно, уже начал полыхать мятеж, уничтожая вокруг всё живое и человеческое.
Согласившись выполнить поручение Твёрдышева, Максим и представить себе не мог, что послан в самую пучину бунта, а теперь он понял, что весть, которую он доставит Разину, может быть настолько важной и своевременной, что мятеж разгорится ещё пуще, как головня, на которую вдруг внезапно подул ветер. Подумав об этом, Максим спохватился и сунул руку за голенище сапога. Грамотка была цела, он достал её, оглядел и сунул обратно за голенище. «Как бы голову не потерять, – подумал Максим. – Если кто про неё прознает, то висеть мне на рели».
Всему, что он услышал про Разина, Максим поверил безоговорочно. Ясно, что атаман – не простой человек и ему помогают колдовские силы, в них Максим верил не менее, чем в существование Святой Троицы. К такому человеку трудно подойти, а ещё труднее остаться живу, не опалиться до смерти чарами, которые, подобно невидимому огню, отделяют его от всех смертных.
Лопатинские стрельцы шли в Астрахань с неохотой, там их ждали невыносимая северным жителям жара летом и пронизывающие леденящие ветры зимой, а также возможность погибнуть от моровой хвори, ведь всегда чума и холера наваливались на Русь с поволжского Низа. Позади уже остался Саратов, крохотная крепостница среди голых, обдутых степными ветрами холмов, впереди был Царицын, а вокруг простиралось только одно устрашающее взгляд безлюдье. Были пусты и безлесны берега реки, была пуста и сама Волга, после Саратова стрельцы не встретили ни одного струга, но полковник Лопатин чувствовал, что так продлится недолго, и за любым изгибом реки могла таиться смертельная опасность, имя которой было известно – Стенька Разин со своими воровскими людьми.
Уходя из Москвы, Лопатин и думать не мог, что попадёт в самое пекло разинского бунта, поначалу он смотрел на порученное ему дело, как на докучную, но неизбежную для всякого служивого человека работу. Ему даже нравилось идти на струге по Волге, озирать окрестности и предаваться отдыху, которого он не знал долгие годы войны с поляками. Так было до Синбирска, где Лопатин встретил прибывшего туда со своим приказом из Москвы стрелецкого голову Бухвостова, с которым недавно вместе бился против ляхов, и теперь их пути пересеклись на степной границе.
Была уже ночь, когда Бухвостов явился к Лопатину на его струг. Они обнялись и расцеловались. Затем полковник велел накрыть стол и соратники сначала предались воспоминаниям, а затем Бухвостов открыл товарищу совершенно для того неожиданное.
– Знаешь ли ты, Иван Васильевич, что на Москве против Стеньки Разина замыслили? – сказал стрелецкий начальник, опорожнив чару с вином. – Не отвечай, я сам до вчерашнего вечера и подумать о таком не мог. А вчера думский посыльщик стряпчий Ильин, что привез Дашкову весть о его замене, во хмелю поведал, что великий государь приговорил отдать Астрахань и другие города Низа Стеньке Разину.
